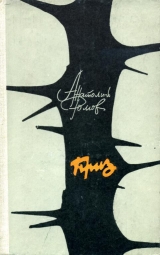
Текст книги "Приз"
Автор книги: Анатолий Ромов
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Теперь же, еще в первый день, вернувшись в Париж и обходя с отцом конюшни – при этом он нашел Гугенотку в отличном состоянии, – он вдруг подумал: почему же раньше он смотрел на заговор отца отстраненно? Теперь он видит все в другом свете. Да, он и теперь считает, что отец может проиграть больше, чем выиграет. Но все переменилось – вот в чем дело. Ведь он понимает, против чего направлен этот заговор. Против Генерала, против его дутого могущества. Могущества тайных перекупщиков лошадей, могущества, которое было достигнуто инспирированными заездами, а потом – монополией на элиту. И потом уже это дутое могущество было поддержано всем остальным: попавшими в кабалу к Генералу холуями; продажной прессой; обозревателями, получавшими баснословные подарки; наконец, публикой, которая была подготовлена и теперь уже, получив кумира, фанатично поклонялась ему. Публика сама создала «великого наездника современности». Публика, для которой Генерал давно уже стал всеобщим любимцем, была теперь его главной поддержкой.
Отец решил посягнуть на Приз именно поэтому. Он понимал, что ему не свергнуть Генерала. Но он хотел хотя бы нанести ему первый удар, хотя бы пошатнуть трон. Потому что он, его отец, не мог смириться со всем этим. Он был Принцем, известным всем, неподкупным Принцем Дюбуа. А значит – именно он должен был начать борьбу с несправедливостью. Но как же должен был при этом поступить сам он – он, сын Дюбуа, Морис Дюбуа, Маврикий Кронго? Почему он должен был оставаться равнодушным к заговору? Почему?
Теперь он мог легко ответить на этот вопрос сам. Он был раньше равнодушен – потому что боялся. Он боялся, он не решался лезть на рожон. Потому что – не видел возможности одним только взятым заездом, одним только выигрышем Приза что-то сделать. Он был равнодушен, потому что воспринимал все, что знал о Генерале, как должное. Подкупленные заезды, мертвую хватку холуев и шестерок, жульничество с элитой, продажность и лживость прессы – все это, все до конца он воспринимал как должное. Как само собой разумеющееся – и считал, что так и должно быть. И бороться с этим смешно.
Но теперь, когда все переменилось, – переменилось и это. Переменился смысл вещей и смысл его отношения к отцу, к затее отца, к Призу, к подготовке Гугенотки.
Он давно уже чувствовал, что сильней отца.
Когда он думал об отце, он понимал – отец был действительно большим, даже – великим наездником. Отец заслуживал звания Принца. Кронго хорошо знал, что отцу не было равных в умении подготовить лошадь. Не было равных Принцу Дюбуа – и это знали все на ипподроме – в умении вникнуть в мелочи, которые обычно остаются скрытыми, в лучшем случае открывают даже профессионалам только свое начало. Никто не мог превзойти отца в знании тайн ковки, мельчайших оттенков подготовки упряжи, в знании того, почему и как каждая деталь ковки и упряжи влияет на конечный результат, почему их выбор так зависит от характера лошади, от ее готовности, от порядка к дню заезда, даже – от незначительных изменений в рыхлости дорожки, от погоды, от тысячи других причин.
Кронго перенял все это еще подростком. Он старался изучить все это – до конца, по крайней мере так, чтобы знать хотя бы не хуже отца.
Отец научил его всему этому – и он был ему благодарен. Но в чем-то Кронго превзошел отца – и он это чувствовал. Превзошел не потому, что был старательней, – нет, он знал, дело здесь было не в затраченном труде, не в усилиях, он понимал это. Хотя и усилия что-то значили… К двадцати годам Кронго понял, что это было ему дано больше – от природы, от рождения. Ему дано – а отцу нет; по крайней мере, отец не чувствовал это, не ощущал так, как ощущает он, Кронго.
Это и вселяло в Кронго уже в восемнадцать чувство силы, уверенность – потому что он понял, что эти качества составляют вершину работы с лошадьми, они для наездника и жокея важней всего остального. Они – это чувство дистанции и чувство лошади.

Особенно – чувство лошади. Уже подростком Кронго видел, как часто наездники и тренеры, выбирая или оценивая молодую лошадь, не понимают ее истинного значения. Как часто они впадают в крайность, преувеличивая достоинства только что полученных из завода годовиков и полуторок или – переоценивая их возможные недостатки.
Да, он знал, как это трудно – угадать в молодом жеребенке, сыром, угловатом, несовершенном, будущего призера. А может быть, не просто призера: угадать великую лошадь, рекордсмена – в существе, таящем сейчас в себе, в своих линиях и пропорциях, в обводах, мышцах и жилах, тысячи недостатков, несуразностей, недобрых примет, говорящих, казалось бы, о полной непригодности в будущем. Кронго знал секрет этого выбора. И – знал лучше отца. Он почувствовал его, он с детства уже понимал, что при оценке нельзя основываться только на пропорциях и линиях. Он дошел до этого шестым чувством, уже мальчиком он понял главное – понял, что именно надо искать в сыром и нескладном жеребенке, понял ту повадку, скрытую силу, ту смесь упорства, капризов, великолепного, а может быть, неприметного сложения, ту влажность ноздрей, чистоту белков, легкость дыхания, ту особенность холки и крупа, то множество признаков, которые, складываясь в целое, могут намекнуть или даже – безошибочно предсказать будущего рекордиста. Именно рекордиста, знаменитость – а не рядовую, пусть и сильную, лошадь.
Сначала он оценивал прибывающих жеребят вместе с отцом и часто видел, что оценки отца ошибочны. В конце концов Принц Дюбуа сам понял, что уступает в этом сыну, – и потом уже при просмотре молодняка и оценке новых лошадей полагался только на его чутье, зная, что Маврик, выбирая и оценивая жеребенка, никогда не ошибается.
Когда, начиная с шестнадцати, отец стал записывать сына в заезды, Кронго незаметно развил и выработал в себе еще одно качество – безошибочное чувство дистанции. Особенно хорошо он чувствовал себя на миле – стандартном однокруговом отрезке, который ощущал до последнего метра и по которому мог провести лошадь на лучшее время даже с закрытыми глазами – зная, конечно, характер лошади и состав заезда.
У них в конюшнях при тренаже и доводке неукоснительно соблюдались принципы «школы Дюбуа» – здесь отучали наездников держать лошадей «на вожжах», основу тренажа и испытаний составлял мягкий голосовой посыл, все делалось только для того, чтобы сберечь лошадь, как можно меньше насиловать и ломать ее, даже – потакать ее капризам, высвобождая тем самым заложенную в животном от природы резвость, силу характера и другие естественные качества. Проходя дистанцию в основном на отданных вожжах, с лошадьми, приученными повиноваться малейшему изменению интонации посыла, Кронго, сообразуясь с тем, кто идет с ним в заезде, всегда безошибочно определял, как построить бег. Как начинать именно этот заезд, сразу ли показывать намерение или скрыть его до середины дистанции, занимать ли бровку с первых метров или на первой четверти идти полями. Кронго всегда безошибочно чувствовал пейс, ритм бега, и обычно уже после второй четверти знал, с какой именно точки дистанции и как нужно начинать ускорение и прибавлять. Именно – как прибавлять. И тогда уже, если он ловил эту точку, ничто не могло ему помешать довести лошадь до финиша и – если надо и класс лошади позволяет – вырвать победу на последних метрах, чувствуя еще в рысаке оставшийся запас сил.
Ничему этому он, по существу, не учился. Конечно, еще мальчиком Кронго узнал основы, прописные истины, азы того, как должен вести себя наездник на дистанции. Знал, что есть лошади с хорошим финишем, концевые, или, наоборот, ровно идущие всю дистанцию, те, кого наездники называют «машинами». Знал, что позиция у бровки сокращает дистанцию, но чревата потерями при отвороте и обгоне, зато ход с поля дает простор для разъездки. Знал он также множество других прописных истин – но ведь все это знали и другие наездники, не только он… Он понял это. Наездники на ипподроме совершенствовали свое знание дистанции бесконечно. Но – ошибались. И он, сам допустив несколько ошибок, потом при оценке дистанции выработал для себя железный принцип – никогда не полагаться на общепринятые правила. Ведь он видел, что правила дистанции знает и отец, – но все-таки сколько раз, и именно в силу верного следования правилам, ошибался и он, его отец, великий Принц… Знание, истинное, скрытое от всех знание дистанции пришло к Кронго тогда, когда он понял, ощутил всем существом, что нет правил. Нет, их нет – вот в чем был секрет. Или – они есть, но они, эти правила, состоят из бесчисленного множества каждый раз меняющихся обстоятельств. Обстоятельств, на которые нельзя полагаться. Чувство дистанции зависит от великого множества соотношений сил, характеров, манеры бега, порядка и класса, от качеств десятка, если не больше, лошадей, которые участвуют в каждом новом заезде. Оно, это чувство, зависит также от соотношения целей наездников, от состояния дорожки, погоды, даже – от того, как настроены в этот день зрители. Кронго много раз наблюдал, как, складываясь в неожиданные сочетания, обстоятельства заезда заставляют ошибаться самых опытных наездников, даже – корифеев, седоков вроде знаменитых Томсона и Княжинского.
Дистанция вырывалась, ускользала, уплывала от них. Точка ускорения вдруг оказывалась не там, бровку занимал кто-то другой, всегда послушная лошадь вдруг словно прилипала к затылку едущего впереди наездника и не хотела отворачивать, заведомые финишеры с самого начала вырывались вперед на три столба… Все было не так, все становилось с ног на голову. Поняв это, Кронго на дистанции полагался только на свое чутье. На то шестое чувство, которое ощутил, которое проверил и которое его не подводило. Он скрывал это чувство от всех, он берег его, боялся потерять. Кронго понимал – в этом чувстве была кажущаяся легкость. Да, он знал: это ощущение, живущее в нем всегда, ощущение абсолютной ясности при прохождении кругового отрезка, это возникавшее каждый раз понимание, как нужно вести заезд, не вечно. Его можно потерять, хотя оно и дано ему, преподнесено судьбой. Хотя оно легко, свободно, хотя оно присуще ему, как дыхание. Но его можно потерять, оно может превратиться в пустоту, фальшь. Испытав эту кажущуюся легкость, Кронго познал, как хрупко это бесценное свойство. Он понял, как много оно значит для него, и потом уже боялся упустить – до возникавшего в нем беспричинного страха, до неожиданно потевших ладоней, до суеверия. Нельзя было играть на себя; нельзя было говорить об этом чувстве; нельзя было им злоупотреблять.
Именно потому, что Кронго знал свои силы, он, вернувшись в Париж, ощутив в себе после возвращения перемену, почувствовал себя виноватым – перед отцом. Виноватым в том, что до сих пор оставался сторонним наблюдателем. Может быть, он был даже сильней отца – и тем не менее не верил в удачу заговора, а значит – просто не мог помочь отцу так, как должен был это сделать.
До дня розыгрыша Приза оставалось еще довольно много времени, когда мсье Линеман, улучив момент, зашел к ним в жокейскую. Кронго хорошо помнит – он притворил дверь и, подумав, повернул ключ.
– Слушайте, Эрнест, – мсье Линеман сел. – Нам надо поговорить.
Лицо мсье Линемана, круглое, доброе, жило сейчас какими-то другими заботами, было, как, впрочем, это всегда казалось Кронго, далеким от конюшни, от ее дел. Казалось, мсье Линемана занимает что-то другое, а не разговор с отцом. Впрочем, для человека, владевшего не только конюшней, такое выражение лица было естественным. Но было ясно, что сейчас мсье Линеман действительно решил поговорить о чем-то важном. По крайней мере, о деле, давно занимающем его мысли, поговорить с присущим ему, как всегда, тактом. Может быть, даже о Гугенотке – хотя при подписании контракта было оговорено условие, что продюсер занимается только финансовыми делами.
– Да, мсье Линеман, – отец после утренней проездки стянул сапоги, расстегнул рабочие панталоны и теперь отдыхал, полулежа на диване.
– Эрнест, извините – вы знаете, я никогда не лез в ваши дела. Но… мне кажется… Гугенотка…
– Что – Гугенотка?
– Ну, Эрнест. Она у вас не взяла ни одного квалификационного заезда. И… по-моему, вы темните.
– Мсье Линеман, – отец приподнялся.
– Эрнест! – мсье Линеман поднял руку. – Я бы ни слова вам не говорил. Ну? Эрнест, милый… Вы понимаете в лошадях в тысячу раз больше, чем я. И вообще… Мне повезло, что мы работаем с вами. Но, Эрнест… я просто думаю… о вас.
Отец молчал, делая вид, что не слышит.
– Скажите прямо – вы с Морисом собираетесь записывать Гугенотку на Приз?
Было слышно, как кто-то остановился у двери жокейской и, подождав, отошел. Кажется, это был Диомель.
– Эрнест… – мсье Линеман вздохнул. – Хорошо, вы можете не верить, что я дружески беспокоюсь о вас. Но ведь – есть лошади. И… как-то… Мы вроде бы владеем ими вместе.
– А что – лошади? – отец привстал. – Лошади здесь ни при чем.
– Эрнест, не валяйте дурака. Не будем детьми. Не связывайтесь с Тасма.
– Хорошо, – было видно, что отец начинает сердиться. – Что с ними может произойти? С лошадьми?
– Эрнест… Вам что – мало случая с Ришаром? Или – вы плохо знаете Генерала? В конце концов – лошадей могут просто отравить.
Отец молчал.
– Да, я понимаю, стыдно говорить об этом. Но пока мы ничего изменить не можем.
– Но ведь я тоже не дурак. И у меня есть глаза. Потом в конюшне есть хорошие конюхи. В конце концов – есть Диомель.
– Диомель… Вы понимаете, Эрнест, – если Тасма возьмется за вас всерьез, один Диомель с тремя конюхами… Вы понимаете. Они ничего не сделают.
– Я сделаю. Я ведь тоже что-то значу.
Мсье Линеман вздохнул.
– Учтите – скорей всего… первого места вы не возьмете. Но если Генерал только по тому, как вы едете, поймет, что вы взбунтовались, а главное – затемнили Гугенотку, он не простит вам этого. Вы понимаете, Дюбуа? Генерал не простит. И что-то сделает. И сделает это в назидание остальным. Для него это значит слишком много.
– Кто кому должен прощать, мсье Линеман?
– Я сейчас не об этом. Ну же, Эрнест. Ну… У нас с вами ведь другие отношения. Поймите – я не только умом… я ведь и сердцем… за вас. И потом – взять Приз. Ну – кто не мечтал об этом. В конце концов, со мной ничего не случится, даже если отравят лошадь. Ну – пусть двух, трех. Пусть я на этом потеряю несколько тысяч. Переживу – терял и больше. Но вы понимаете, что будет с вами? Эрнест?
– Что?
– Весь ипподром после этого будет работать только против вас. Поймите. Весь. Уже не будет жизни. Жизни, вы понимаете, Эрнест?
– Не весь ипподром. Не весь. Есть честные наездники.
– Две-три конюшни… Что они могут? Эрнест, не будем детьми.
– Мсье Линеман…
– Не связывайтесь. Прошу вас, Эрнест, не связывайтесь. По крайней мере – сейчас.
– Я ведь еще не связался.
– А… – продюсер махнул рукой. – Как будто я вас не знаю.
Он устало улыбнулся, и по знаку отца Кронго открыл бар и достал бутылки и стаканы.
– Хорошо. Все-таки отдаю вам должное – Гугенотку вы затемнили прекрасно.
Отец промолчал. Они взяли стаканы, Кронго налил.
– Не хотите говорить. Осторожничаете. Правильно, Эрнест. В конце концов, учтите – я не такая свинья… И… что касается меня, – мсье Линеман взял ложку, осторожно положил в стакан кубик льда. – Я вас, конечно, не выдам.
– Спасибо, мсье Линеман.
– Хотя знаю, убежден – предприятие бесполезное.
– Может быть.
– Ах, как мне хотелось бы, чтобы вы были правы. Ведь вижу, чувствую – хороша… – мсье Линеман отпил. – Хороша, подлая лошадь. Ну – ужас как хороша.
– Она не только хороша.
– Увы, Эрнест. Мы взрослые люди. Корвет есть Корвет… – мсье Линеман пригубил и опять удивил Кронго выражением отрешенности. – Спасибо… Спасибо – не мне. Спасибо вам, Эрнест.
– За что?
– Не могу объяснить. За что. А, черт возьми, Эрнест – вот за это. За это самое.
Он сам не заметил, как прошло время. Он сидел и думал о том, что целая неделя позади. Целая неделя. Кажется, все вошло в колею. Фелиция что-то жарила на кухне. Крикнула:
– Садитесь на веранде… Садитесь на веранде, месси… Мадам спит, я ее накормила… Садитесь на веранде, я сейчас подам…
Свет из гостиной хорошо освещает каменный пол веранды, стулья с фанерными сиденьями, плетеное кресло, стол из камыша. Внизу у берега слышится рассыпающаяся океанская волна. Звук ее медленно расходится вширь, становится тише, глуше, затихает, переходя в слабый хриплый рокот. Кронго вдруг с удивлением вспомнил, что не знает, на какие деньги сейчас живет. Правда, он и раньше не особенно вникал в это, его денежными делами занималась Филаб. С двадцати лет, со времени, когда он стал выступать всерьез, он привык не думать о деньгах. У него всегда была еда, одежда, разменные деньги для себя, все переезды оплачивала дирекция или фирма. Иногда, когда ему были нужны лишние деньги, он начинал играть. Хотя потом бросил – из суеверия. Ведь отец никогда не играл.
Кронго хорошо помнит ощущение того первого запретного выигрыша. Бесстрастные пальцы кассирши легко отсчитали толстую пачку денег. Выигрыш был большим, Кронго ставил на темную лошадь. Странно – оттого, что появилось много денег, он не ощутил удовольствия. Вечером отдал половину выигрыша отцу, и тот странно улыбнулся. Но деньги взял, только предупредил, чтобы Кронго больше не играл. «Ты потеряешь чувство лошади, слышишь, фис!» Но Кронго продолжал играть, и всегда на темных. Он знал наизусть все конюшни. Несколько раз он ставил на себя. Правда, против себя на фаворите не играл ни разу. Это были странные дни – шумные, выматывающие. Это был Париж. И это было задолго до Ксаты… Но сейчас Кронго даже не может вспомнить имена тех, с кем проводил время. Но он же проводил время… Помнит красивую иностранку, венгерку. Ему казалось, что он любит ее… Она плохо знала язык, и утром, просыпаясь, он всегда видел ее немую улыбку. Он жил тогда в гостинице. Потом, когда слова отца сбылись, Кронго бросил играть. Он отстал на полкорпуса. Он до сих пор помнит эту скачку, чувство отчаяния, охватившее его. Отец молча улыбался, помогая слезть. Дело было не в проигрыше, а в том, что он в самом деле перестал чувствовать лошадь. Потом Кронго изменил правилу не играть только дважды… И один раз это было в розыгрыше кубка «Бордо – Лион».
– Рыба, месси… Очень вкусная рыба… – Фелиция осторожно опустила тарелку.
Вдруг проплыли лошадиные лица. Душ Сантуш, Бланш… Он ничего не ел весь день. Почему он вспомнил об игре? Из-за денег?
– Фелиция, где вы достаете еду?
Глаза негритянки убегают от его взгляда.
– Вы покупаете на свои деньги?
Она молчит. Шумят кусты.
– Что же вы молчите, Фелиция?
– Деньги отменены, месси, магазины берут только доллары и боны… Вы ешьте, не думайте об этом…
Рыба была сладковато-соленой, она мягко расползалась на языке.
– Где же вы их доставали? Доллары и боны?
– Как не стыдно, месси…
– Фелиция… – он положил вилку.
– Пришлось крутиться… И… у меня было кое-что…
– Запишите все ваши траты… И – за уход.
– Месси…
– Завтра же. Сниму со счета и отдам… Все, все, Фелиция…
В пять утра… Мысль с трудом пробивалась сквозь подступившую сытость. Он должен работать, работать, иначе все пропадет. Но уже об этом нет сил думать. Целый день – осмотр молодняка, прикидка, обход, набор людей… Что еще осталось… Нет одного кузнеца… И – машина. Пусть будет машина. Машину обещал Крейсс. Он должен встать завтра в три. Он должен работать до исступления, а сейчас лечь, провалиться… Внизу ворочаются волны. Лечь…
– Я разбужу вас, месси… Идите спать…
Лежа у себя в комнате, Кронго слышал шум волн, но этот шум уже становился не шумом, а чем-то беззвучным, неосязаемым. Беседка, маленькая, открытая, она стоит в пустом грязном дворе, и на лавочке у стены беседки сидит человек. Этот человек держит в одной руке тарелку и, улыбаясь, неторопливо разговаривает с Кронго, но так, будто его сейчас слушают, кроме Кронго, еще несколько человек.
– Ведь вы согласны со мной? – сказав что-то совершенно незначащее, человек улыбнулся.
Он поправил рукой одну из гирлянд, свисавших с потолка беседки, и Кронго увидел, что это комиссар Крейсс. Все черты лица были Крейсса, те же изогнутые уши и нос, будто являющийся отражением губ и подбородка и потому придававший комиссару Крейссу сходство с животным – но теперь уже не с хорьком, а с тюленем. Но странно: приглядевшись к его шее, Кронго увидел параллельно идущие коричневые полосы и понял, что шея Крейсса обжарена и чуть трясется, как обычно трясется хорошо обжаренное куриное мясо на собственных ребрах. Шею облегал белый накрахмаленный воротник, и Крейсс продолжал разговаривать с Кронго о чем-то совершенно незначащем, улыбаясь и требуя взглядом ответов, участия в разговоре. Кронго попытался вникнуть в смысл слов Крейсса.
– Попробуйте, это действительно очень вкусно, – комиссар наклонил голову, и Кронго отломил от нее вилкой несколько легко подавшихся кусков. У головы остался лоб и подбородок, а вместо рта и носа обнажились ребра, совсем как у жареной курицы, глаза же попали в тарелку, которую Крейсс держал перед собой. – Ну как, вкусно? – спросила белая гортань, торчащая в этом странном провале.
Кронго ясно видел белые слоящиеся куски в своей тарелке. Он поворачивал их вилкой, с ужасом думая, что это человеческое мясо, и тем не менее отламывал и ел кусочки. А комиссар Крейсс продолжал говорить, несмотря на то что у него не было рта, а одна только белая гортань.
Они с отцом работали с Гугеноткой, и работа была успешной, но скоро он понял – он не может без Ксаты.
Пытаясь преодолеть острую тоску, он убеждал себя, что может чем-то заменить ее присутствие… Он говорил себе, что у него есть воспоминания о ней… Что у него есть мысли о Ксате, он явственно представляет себе ее, так, будто она постоянно находится рядом с ним. В конце концов, говорил он себе, ведь он знает, что может всегда ее увидеть… Ничто непреодолимое не разделяет их – только расстояние.
Сначала ему казалось, что достаточно только представить себе это, достаточно только убедить себя в том, что Ксата никуда не уходила, не исчезала, что они не расставались, что она и сейчас здесь, – и он успокоится, сможет работать дальше. Достаточно только представить себе, что Ксата в Париже, на ипподроме, что она стоит рядом с ним в конюшне, следит, как он раскатывает Гугенотку по тренировочной дорожке, – и он будет спокоен.
Но скоро он понял – ведь ничего этого нет. Нет Ксаты. Нет, просто нет… Ее нет рядом с ним – он только доказывает себе это. На самом же деле Ксаты рядом с ним нет, есть только острая тоска, острое, непреодолимое желание быть рядом с ней, увидеть ее. Ксаты нет, а значит, нет того ощущения бесконечности, нет того удивления, которое теперь ему необходимо. Но ведь в этом и было ощущение перемены. В этом, именно в этом. Ощущение удивления, острое и мучительное ощущение счастья, ощущение, что Ксата рядом. Именно оно, это ощущение муки и счастья, было бесконечно важным, и только оно и меняло все в нем. Но раз Ксаты нет, – значит, нет и этого ощущения. А тогда – зачем все? Зачем?
Но ведь он что-то делает. Зачем-то живет. Нет, он не живет. Не может же он бесконечно задавать себе вопрос – зачем вообще он сам? Зачем мир? Зачем все, что происходит, если нет Ксаты?
Он взял билет на самолет, объяснив матери и отцу, каждому отдельно, что-то невнятное. Сказал, пряча глаза, что с ним что-то происходит, что он должен отдохнуть, исчезнуть, уехать, – и, не дожидаясь, поверят ли ему, вылетел первым же рейсом, скрыв от матери, что он летит в Бангу.
Сидя в самолете, он мучился тем, что улетел, мучился тем, что нужен сейчас отцу, потому что скоро будет розыгрыш Приза, – и все-таки радовался и впервые был спокоен.
Сойдя с самолета, ожидая багажа, ощущая обступившую его тихую, ленивую суету аэровокзала, – он еще не верил, что увидит Ксату.
Вот автобусная остановка. Он знает это место на площади у «столичного терминаля» – на самом деле у старого потрепанного ангара. Он хорошо знает старый автобус, на котором много раз ездил раньше, знает, что автобус сейчас поедет вдоль побережья и по его просьбе остановится недалеко от Бангу. Там, у остановки, слева, за зарослями густых пальм, лежит обычно безмолвный, знакомый ему океан, справа – небольшой перелесок. За перелеском – то, что называется «выселки»: несколько брошенных полуразвалившихся хижин. А дальше, если пройти по тропинке, откроется всегда спокойная поверхность озера и мостки. Раньше эти подробности ничего, не значили для него. Хижины… Перелесок… Океан… В них ничего не было… Теперь же все в них приобретает особый, понятный только ему и важный смысл. Раньше, когда он приезжал сюда с матерью, его охватывало ощущение полного спокойствия. Но сейчас, прислушиваясь к стуку старого мотора автобуса, глядя из его окна, как стоят на площади люди с узлами, – он знает, они ждут такси, – сейчас, чувствуя преддверие городского зноя над утренней площадью, над аэровокзалом, проплывающим мимо, – он ощущает острое, болезненное волнение. Это волнение неверия. Он не верит, что увидит Ксату. Не верит… Как это просто. Проехать по побережью. Через полчаса сойти с автобуса, пройти по тропинке. Потом – подойти к озеру. Перейти мостки. И ощутить счастье. Да, теперь он знает цену счастья. Еще не увидев Ксату, а просто понимая, что она рядом, здесь, что достаточно было ему прилететь сюда, проехать полчаса на автобусе, а потом прийти на озеро – и она почувствует, что он приехал, и приедет туда же… И даже если не почувствует – ей передадут, ведь полдеревни увидит, как он идет через мостки к дому Ндубы.
Здесь, на шоссе, в тени деревьев, была настоящая тишина. Водитель дождался, пока он сойдет. Закрылись двери, автобус уехал.
Кронго прошел несколько метров по тропинке и услышал голоса. Возле одного из деревьев стояли люди. Кронго сразу узнал их – это были жители деревни, он хорошо знал и помнил их одежду, лица, глаза, голоса. Две пожилые женщины – в старых выгоревших накидках, у каждой пол-лица закрыто белыми платками. Трое парней. Седой негр. Они не ожидали его увидеть – и замолчали. По тому, как они сейчас стояли, по напряжению, застывшему в их позах и лицах, Кронго понял – что-то случилось. Что-то плохое, от чего, как они считают, он должен уйти. Стремясь преодолеть это напряженное ожидание, избежать его, Кронго хотел пройти дальше, но седой негр – Кронго вспомнил, что его зовут Тсуб, – странно подмигивая, сказал на ньоно:
– Сынок… Эй, сынок… Ну-ка, подожди… Не нужно, подожди. Постой здесь.
Только тут Кронго увидел длинный предмет под деревом. Предмет был накрыт покрывалом, и Кронго не сразу понял, что это человеческое тело. Когда же понял, то сначала подумал, что человек мертв. Но вот покрывало чуть поднялось, дернулось… Застыло, опустилось – человек тяжело дышал. Кронго увидел окровавленное лицо, выглядывавшее из-под покрывала, задранный подбородок, закатившиеся глаза, веки над ними были разорваны.
– Что случилось?
– Ничего, ничего, – старик непрерывно подмигивал, лицо его при этом оставалось озабоченным, неприятным. – Ты пока постой, не ходи…
Старик смотрел сквозь деревья; Кронго повернулся туда, но ничего не увидел.
– Стыдно перед людьми, – сказал старик, по-прежнему глядя сквозь деревья. – Что люди подумают?
Он прищурился, сморщился; руки его непрерывно двигались, отгоняя мух.
– Балубу? Слышишь?
Ему никто не ответил. Парни переглянулись. Они были одеты, как одевались в деревне все мужчины, – в сандалетах и брюках, голые по пояс.
– Эй, Балубу! – старик повысил голос. – Тебе это даром не пройдет. Ты же его до смерти забил.
Он подождал и добавил:
– Перед братьями ответишь.
– Плевал я на братьев, – отозвался голос из-за деревьев. Голос звучал глухо и показался Кронго знакомым. – Со мной пусть делают что хотят. А ее… Слышишь, Тсуб? Если около увижу…
Кронго наконец разглядел того, кто это говорил. Это был его старый знакомый. Тот самый молодой гигант, которого он не раз встречал в деревне. Он стоял, прислонившись спиной к пальме. Значит, того, кого он про себя называл «старый знакомый», зовут Балубу.
– А если братья будут около нее крутиться, – сказал Балубу, – и их убью.
– Отгони мух, – кивнул старик, будто не зная, чем заполнить тишину. Один из парней присел, ладонью стал отгонять мух, плотно облепивших окровавленное лицо.
– Это он когда напьется, – прошептала на ухо старику одна из женщин. – Трезвый он хороший… Слышишь, Тсуб… Ты же знаешь.
– Хороший, – старик продолжал подмигивать, глядя то на Кронго, то на парня, отгонявшего мух. – Вот тебе – хороший. Сволочь, мерзавец… Человека убил. За что?
– Ты же знаешь… Все из-за нее, – шепнула женщина.
Из-за нее, подумал Кронго. Из-за какой-то женщины. Какой? Он еще не мог понять тогда, что это значит – из-за нее.
– Что ты с парнем сделал, Балубу? – крикнул старик. Он неподвижно, без всякого выражения, смотрел на раненого. – Ты же ему голову всю разбил. Заявим на тебя. Что хочешь делай – заявим.
– Заявляйте! – крикнул Балубу. Он оттолкнулся от дерева и присел, будто собираясь прыгнуть. – Заявляйте куда хотите!
– Ну, ну, – сказал старик. – Эй, Балубу. Не очень-то. Слышишь! Не испугались.
– Да он только из-за нее, – тоже шепотом, оглядываясь на Кронго, сказала вторая женщина. – А так он никого не тронет. Вот увидишь – не тронет. Слышишь, Тсуб… Всё из-за нее. Да и то – когда напьется.
Хотя там, у деревьев, около раненого, ни разу не было произнесено слово «Ксата», Кронго подумал – может быть, это «из-за нее» и значит – «из-за Ксаты»?
Он перешел через мостки, разглядывая жителей деревни, неподвижно стоящих на том берегу и начинавших постепенно расходиться.
Но почему обязательно из-за Ксаты… Он старался убедить себя, что этого не может быть. Это невозможно. Не может Балубу, нелюдь – тот самый, которого он только что видел у дерева… около человека с разорванными глазами… этот Балубу не может быть связан с Ксатой.
Но как смотрел старик на раненого. И как шептали женщины… В их шепоте, в их словах не было осуждения. Даже – в них было что-то вроде поддержки… Они не осуждали Балубу, нет. Если все это из-за Ксаты, – значит, этим шепотом, этими прощающими взглядами из-под платков женщины поощряли любовь Балубы. Любовь к Ксате. Но этого не может быть… Балубу и Ксата…
Он увидел знакомый дом на берегу, веранду, на которой любил сидеть, хозяйку, которая, увидев его, улыбалась и махала рукой еще издали.
– Приехал? А где мама? Ничего, ничего, давай вещи… Да перестань. Худой, серый…
– Ндуба, здравствуй. Можно я…
– Ну-ка, давай вещи. Садись. Хорошо, что приехал.
– Спасибо. Я просто посижу на веранде. Я… приехал один.
Опять будет это – спокойствие, тишина, веранда. И – Ксата… Ндуба не спрашивает, почему он приехал один. Она рада ему.








