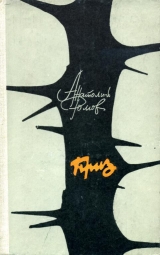
Текст книги "Приз"
Автор книги: Анатолий Ромов
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Кронго толкнул вертушку трибун третьего класса. На вытоптанном пространстве перед асфальтом валялись клочки бумаги, разбитая бутылка из-под сока, кусок ременной сбруи. Билетики тотализатора. Еще с того, последнего дня скачек. Еще при Фронте. Так, так. Но почему при Фронте? Нелепость этой земли, этой бутылки сока… Ведь лошади ему совершенно ни к чему… Этот разговор, то, что он должен показывать какому-то человеку на каждой скачке и заезде вероятного победителя… Его ужаснуло бы это, но только тогда, когда он видел блудливые, плавающие глаза… Так, так… Но почему… Почему его должно это ужасать? Ведь то, чем он занимался всю жизнь, бессмысленно. Но что же вывело его из себя, что же повернуло это в нем, посадило в голову маленького человечка? Кронго остановился у двери манежа, в котором обычно каждое утро гоняли на вольтах жеребят первого и второго года. Дверь открыта, из пустого неподвижного зала чуть слышно тянет запахом слежавшегося старого навоза. Так, так. Но почему?.. Пьер. Этого человека зовут Пьер. Пэ. Шестнадцатая буква алфавита. Но почему он думает об этом. Когда Пьер тихо говорил о сетке с выпученными ртами, держа руку на раме велосипеда… Ну хорошо – а Приз? И потом, когда Кронго увидел негра с прыщами, который спросил: «Гариб, ты где?» Он представил, что пальцы этого негра будут на сетке. Действительно, он, Кронго, слеп и глух. Баржа стоит на рейде. Она каждый день выходит на рейд. Он не любит Филаб. Ему чужды собственные дети. Ничто не нужно ему, ничто его не интересует. Только одно. Кронго толкнул дверь и прошелся по дорожке ближнего вольта, увязая ногами в крупном глубоком песке. По такому вольту гоняют жеребят первого года, вырабатывая просторный машистый ход. В глубоком крупном песке жеребенок поневоле раздвигает ноги, приучаясь к накатистой рыси. Но почему? Зачем и кому нужна эта машистая широкая рысь? Кронго стало страшно, он закусил губу. Нет, он не может даже улыбнуться. Надо заинтересоваться хоть чем-то, этим воздухом, этим запахом, надо силой заинтересовать себя в том, что всегда было ему интересно, что составляло цель его жизни. Приз, конечно… Так, так. Приз… Но почему? Зачем он? Вот мягкий вольт, здесь проскачками распускают жеребятам ход, приучая далеко выбрасывать ноги. Так, так, улыбнулся в голове у него человечек. Но почему? В другое время Кронго подумал бы, что к вольту надо добавить мягкий крошеный навоз. Он взялся ладонями за виски. Но это глупость, глупость, никакого человечка нет, это он, Кронго. Нет, так еще хуже. Так сама голова, существующая как бы отдельно от него, спрашивает – но почему? Так. Так. Нет баржи на рейде, сказал он себе. Но это не помогло. А зачем ему Приз?
Кронго вышел из манежа. Вблизи, на рабочем дворе, к изгороди были привязаны жеребята второго года, они дергали головами, пытаясь отвязаться. Сумерки пропали, наступило утро – так, как это бывает здесь, все осветив за одну минуту. Вдоль дорожки тянулся дым, Ассоло неторопливо помешивал палкой угли под большим черным котлом. Воткнул палку – и она застыла стоймя в медленно булькающем варе. На рабочем дворе негромко разговаривали конюхи и наездники, в углу у кучи навоза сидел на корточках тот самый мулат с острой бородкой, Литоко, которого он взял жокеем. Литоко курил, сплевывая и стряхивая пепел в навоз. Эти привычные вещи, лошади, люди, заботы – они должны и пасти его, отвлечь, выгнать это нелепое – так, так, но почему? И в самом деле, Кронго почувствовал облегчение. Он прислушался, входя во двор. Нет никакого человечка. Тепло избавления… Нет баржи. Жокеи, наездники, конюхи стоят вокруг него, он видит и знает, что нужно каждому – и старым, и вновь взятым, и тем, кто был принят совсем недавно. Тассема, маленький, сутулый, седой… Чиано… Бекадор… Жокеи скаковых конюшен Зульфикар, Заният, Мулонга… Мулонга – способный жокей, но пьет… Барбры, Эз-Зайад и Эль-Карр… Бланш. Он единственный сейчас не подошел к нему… Сидит в старой качалке, широко расставив ноги. Тренирует посадку… Неужели пропало, не веря еще сам себе, подумал Кронго.
– Черт знает что… – услышал он чей-то недовольный голос, который совсем не предназначался для того, чтобы его слышали. – Скоро доживем, конюхи будут работать жокеями…
– Как вес, Зульфикар? Заният, надо подтянуться, грамма три лишних… Жокеи, сможем пустить по шесть лошадей в скачке? Тассема, возьми жеребят второго года – и в манеж… Амайо вместе с Фаиком сегодня старшие по беговой… Проследите еще раз, у всех ли расчищены копыта… Так… Что у нас было вчера? С молодыми?
– На жестком гоняли, месси… – Амайо, с отметинами на ноздрях, подслеповатый, приземистый, вышел вперед. Кронго вспомнил, как он трясся, боясь оборотня. – Круг гоняли тротом, круг шагом…
– Хорошо… Сегодня можно уже на глубоком… Начинайте с самых сильных, со слабыми осторожней… И проследите, чтобы подсыпали навоз, мягкий вольт совсем запущен…
Амайо и Фаик пошли отвязывать жеребят. Радуясь, что к животу и груди подступает ровное тепло, что баржи нет, что пропала бессмысленность всего, что стоит перед глазами, Кронго сделал знак Бланшу и барбрам. Да, если бы он захотел уехать на розыгрыш Приза… Если бы он захотел поехать в Париж… С Альпаком… Он уверен – уже в этом бы году он взял Приз….
– Маэстро, я с вами… – Бланш торопился за ним по дорожке, когда их нагнал Мулельге. У первого ряда трибун стояли негры, при виде Кронго они притихли.
– Новые конюхи, – Мулельге движением руки выравнял людей, как бы выстраивая. – Это кузнец… это второй кузнец…
– Где работали раньше?
Сутулый негр с огромными бицепсами покосился на соседа.
– Скажи, Пончо, – сосед сутулого неумело пожал Кронго руку. Да, тот, кого сосед назвал «Пончо».
Добродушное лицо с большой челюстью. Она выпячена и улыбается. Только Кронго подумал об этом, как на него посмотрело прыщавое лицо, руки, вцепившиеся в сетку. «Гариб, где ты?» Так, так, улыбнулся человечек. Но почему? Баржа есть.
– Мы работали на государственной ферме, – Пончо переминался с ноги на ногу, подталкивая локтем соседа. – Я и Бамбоко. Наши дома сожгли, мы пришли в город. Мы умеем делать любую работу, мы хорошие ковали. Спросите Бамбоко, – негр будто извинялся, что их дома сожгли.
Так, так… Но почему… Как пусто все – лицо этого негра, воздух над дорожками, трибуны. Все, чем он занимался всю жизнь, бессмысленно. Зачем нужны лошади?
– Бамбоко скажет, что Пончо Эфиоп никого не подводил, – негр хихикнул.
– Пончо Эфиоп? – Кронго пытался избавиться от бессмысленности, от человечка.
– Это прозвище, – Бамбоко улыбнулся.
Надо что-то сказать им. Надо объяснить им, что здесь особая работа. Несмотря ни на что, несмотря на человечка, на это «но почему». Ведь все прошло на какое-то время, когда он говорил с наездниками. И не было баржи.
– Мулельге, вместе с Тассемой, запрягите Альпака… Качалку возьмите тренировочную, к которой он привык, – Кронго видел краем глаза, как барбры и Бланш переминаются в новых ездовых костюмах, поправляя сапоги. – У нас особые условия, вам здесь придется учиться заново… Потом я проведу вас к старшему кузнецу, вы посмотрите, как он работает… Рысистую и скаковую лошадь важно поставить правильно с самого начала, иначе она никому не нужна… Ковка поэтому особая… Жеребят надо сначала приучить к подковам… Подковы куются легкими, из мягкого железа, с низкими тупыми шипами…
Человечек пропал. Но теперь уже спрашивает голова. Отдельно от него самого. Почему? Это никому не нужно.
– Почему же непонятно, месси… – Пончо Эфиоп внимательно следил за Кронго, так, что даже губы его шевелились, будто повторяя каждое слово.
– Задние подковы на зацепах должны делаться с заворотами. С заворотами…
Нет, он, Кронго, должен что-то сделать. Он говорит чушь. Альпак закидывал задние ноги, вертел головой, чтобы заглянуть через наглазники. Коротко и гортанно захрипел, и в этом звуке были одновременно и обида, и радость. Чиано, сидя в качалке, держал вожжи на весу, не подавая жеребцу намека. Кронго сделал знак, отпуская кузнецов и конюхов, подождал, пока Чиано слезет, и забрался в качалку сам. Но ведь сейчас он должен ощутить захватывающее, сладко-острое, подташнивающее предвкушение бега, бега, в котором он всегда, всегда должен прийти первым. Это было всю жизнь. В этом и есть чувство Приза. Человечек молчал. Лоснящийся мышастый круп Альпака чуть заметно вздрагивал у ног Кронго. Репица сильного хвоста легко держала короткий черный султан. Нет, ощущения бега не было. Правда, не было и человечка, но и не было больше ничего – только подрагивающий круп и черный султан хвоста.
– Вы научились сидеть в качалке, научились держать вожжи, поворачивать влево-вправо, подавать, сдерживать, – Кронго хрипло и привычно кашлянул-кхекнул, удерживая Альпака. Хоть нет человечка, и то хорошо. – Но этого мало, чтобы стать наездником. Искусство езды состоит в том, чтобы забыть себя и помнить только о лошади. Надо знать все о ней – свойство ее рта, меру поднятия колец, силу бега, беговой характер… Горячая она, ровная или ленивая… Но не в этом еще состоит истинное искусство езды…
Так, так… Но почему… Так, так. Но почему…
– Эз-Зайад, Эль-Карр, Бланш… – Кронго попытался сделать вид, что не слышит этого внутри себя, не понимает, не хочет понимать. Альпак дернулся, взбрыкнул, присел. – Посмотрите, правильно ли запряжена лошадь…
Бланш, подтянув сапоги, подошел к Альпаку, взялся за хомут, вгляделся. Альпак дернул головой, пытаясь отвернуться, и Кронго кхеканьем опять удержал его.
– Как будто правильно, маэстро, – Бланш, приложив к оглобле черную щеку, внимательно изучал уздечку и хомут. – Налобник и дольник не натирают, хомут как надо, на груди и на плечах… Кольца подняты в меру… Чересседельник в порядке… – Бланш поднял голову. – Мы слушаем, маэстро… Что до меня, то я готов слушать вас бесконечно.
У Кронго появилось искушение взяться за виски, и он с трудом удержался.
– Истинное искусство езды состоит в том, чтобы заставить бежать лошадь весь круг резво и правильной рысью, не сбиваться с нее, а во время сбоя направлять на рысь, не уменьшая, а прибавляя быстроты. Но и это еще не все, и это еще не истинное искусство. Истинное искусство езды в том, чтобы понять не только беговой, но и настоящий характер лошади, ее душу, ее скрытые чувства… Надо понять ее секрет, который свой у каждой лошади… Тогда, слившись с ней в одно целое, вы будете ощущать ее бег, как свой, а ее, как себя, как будто не она, а вы бежите по кругу…
Так. Так. Так. Так. Кронго чмокнул, и Альпак медленно тронулся с места. Выехав на круг, где уже давно велась работа и разъезжались лошади, Кронго чуть заметно шевельнул кистями, припуская вожжи. Это был обычный посыл, пожалуй, чуть выше среднего. Но вместо того чтобы пойти тротом, Альпак, постепенно разгоняясь, бешено заработал ногами. Полетели комья грунта, в лицо ударил ветер, Альпак, пролетев метров пятьдесят, сорвался в проскачку. Кронго захрипел, выправляя сбой. Альпак пробежал еще несколько шагов, постепенно сбавляя. Кронго тут же завернул и тротом вернул Альпака к выезду на круг. Остановился, глядя на Чиано.
– Вы что, с ума поспятили? – чтобы не испугать Альпака, зашипел Кронго. – Вы какое удило кладете жеребцу со строгим ртом?
Чиано изменился в лице:
– Месси… Что случилось?
– Я вам покажу, что случилось…
– Месси Кронго… Месси Кронго… Мы положили толстое… Мы не виноваты… Мы толстое…
– С кем вы запрягали лошадь?
– С Мулельге и Ассоло… – Чиано испуганно крутил головой.
Кронго слез с коляски, приоткрыл Альпаку губы. Удило, покрытое пеной, было толстым, как и полагалось. Но Альпаку с его чрезмерной нервностью нужно ставить толстое и полое удило. Его обычное удило… Так, так. Но почему? Взрыв гнева прошел, и Кронго уже сам не понимал, почему он сердился.
– Чиано… И вы, молодежь… Подойдите сюда, поучитесь. Бланш… Эз-Зайад… Эль-Карр.
Кронго случайно увидел, как кто-то смотрит на него с трибуны. Высокий креол в светлом костюме. В этом взгляде есть что-то особенное. Похоже – это человек из охраны. Или – от Крейсса.
– Видите, Чиано… Вы совершили ошибку… Во-первых, Альпаку, лучшему жеребцу, рекордисту, вы положили чужие удила… Во-вторых, если уж класть чужие, то не такие. Удила толстые, но этого иногда бывает мало. Лошадь горячая, с очень строгим ртом, сюда нужно толстые и полые…
– У всех лошадей удила висят в денниках, – Чиано взялся под уздцы. – Альпака мы не нашли…
– Хорошо.
Креол чуть заметно показал рукой, и Кронго подошел поближе.
– Мсье Кронго? Будьте любезны, пройдемте со мной. Не волнуйтесь, все в порядке, все хорошо. Пройдемте, буквально на секунду.
– В конюшню! Перезаложить! – Кронго двинулся вслед за креолом.
Креол, высокий, с красивым спокойным лицом, как-то странно оглядывался на него, мелко перебегая глазами с рук на лицо и снова на руки. У подъезда дирекции он посторонился, пропуская Кронго, и, хотя тот прекрасно знал путь к собственному кабинету, осторожно и мягко повел его под локоть по коридору. Это сначала обрадовало Кронго. Эти мелко бегающие глаза, эта рука, взявшая под локоть, – все это должно выбить бессмысленность, которая пронизала все. У кабинета с медной дощечкой «М. Кронго» два молодых негра в таких же, как у креола, светлых костюмах низко поклонились. Чуть в стороне сидящий на стуле европеец держал между ногами блестящий черный предмет. Уже заглядывая в растворившуюся дверь, Кронго заставил себя подумать – что же это за черный предмет между коленями европейца… И европейца он уже где-то видел.
– Мы совершенно беззастенчиво… – высокий пожилой африканец протягивал связку ключей в пухлой розовой руке. – Но все это ради близких скачек. Вы должны нас понять.
Черный блестящий предмет между коленями – автомат.
– Карионо, Сембен Карионо, – африканец поглядывал на двух белых, сидящих у стола по обе стороны от него. Вышел и мягко взял руку Кронго в теплые ладони. – Партия не будет вмешиваться в ваши профессиональные дела. Хотя от себя скажу, что горжусь первым ипподромом в Черной Африке. Ваши лошади могут с честью представлять страну на дорожках любого континента.
Глаза Карионо упрашивали Кронго что-то сказать. Как-то ответить ему, все равно как.
– Очень приятно, – Кронго попытался улыбнуться.
Карионо обернулся к одному из белых – худому европейцу с пшеничными усами. Европеец дружелюбно улыбался – «не стоит обращать внимания на эту болтовню».
«Может быть, прошло», – подумал Кронго. Да, прошло. Совсем прошло. Ничего нет. Только не нужно думать о намеках, которые могли бы опять вернуть это.
– Моя фамилия Снейд, я бухгалтер, – европеец тряхнул Кронго руку. – Попробуем с вами сработаться, так ведь? Деньги правительство будет платить вперед. Если хотите, вам мы можем выдать аванс твердой валютой или бонами. Я просмотрел номенклатуру, штат теперь почти укомплектован, но, если необходимо, ограничений для вас не будет. Только одна просьба – скорей назначить день открытия. И… чтобы это было… ну, торжественно, что ли. Какие специальности будут просматриваться лично вами?
Второй белый безразлично курил, не глядя на Кронго. Нет, ничего не выходит. Нет никакого человечка. Есть пустота. Пустота во всем. Его ничто не интересует. Ничто.
– Жокеи, – Кронго помедлил. – Наездники. И конюхи.
– Отлично, – Снейд раскрыл номенклатуру. – А… ну вот, например, диктор-комментатор… контролеры… редактор программ… Как они?
Снейд покосился на Карионо. Не назвавший себя белый осторожно стряхнул пепел. У него был крахмальный воротник, бакенбарды резко сменяла гладко выбритая розовая кожа, нос был как перевернутая груша, он расплывался наверху, у хмурых, близко поставленных серых глаз.
– Если господин директор не возражает, мы наберем сами… – глаза Карионо застыли. – Согласно номенклатуре.
Так, так, уныло прошептал человечек. Но почему? Почему он раздвинул губы Кронго и сказал им:
– Меня интересуют только конюхи, наездники и жокеи…
– Вот и отлично, – Снейд открыл портфель и осторожно придвинул к Кронго две пачки. – Здесь тысяча долларов. Здесь полторы тысячи правительственных бон. Они принимаются во всех магазинах. Конечно, и в тех, где лимит.
Снейд достал ведомость, встряхнул новый хрустящий лист. Кронго, машинально расписываясь, видел все, что уже много лет видел за окном кабинета, – финишную прямую, часть трибун, рабочий двор, вход в главную беговую конюшню. Надо поймать, поймать паузу, когда нет человечка. Вот сейчас. Он знает, что он, сделает. Знает. Снейд и Карионо, поклонившись, вышли.
– Меня зовут Лефевр, – белый с бакенбардами протянул пачку сигарет. – «Бенсон»? Ах, не курите… Я из сил безопасности. Шеф просил не докучать вам… Но не мне вам говорить, что сейчас происходит, – Лефевр постучал зажигалкой по столу.
В дверь заглянул креол, Лефевр кивнул ему, тот щелкнул пальцами и вошел уже вместе с неграми – теми, кто кланялся ему у входа. Негры улыбались, лицо креола было безучастным.
– Поль… Амаду… Гоарт… – по взгляду Лефевра Кронго понял, что он представляет вошедших. – Кронго, если хотите… Вы не будете замечать их… Может быть, иногда, на трибунах… Повторяю – если хотите. Это охрана. Это их специальность.
– Нет, – Кронго думал о том, как он приведет в исполнение то, что пришло ему в голову. Ведь это очень просто. Однако вместе с тем он прекрасно понял смысл слов Лефевра.
– Не хотите?
– Не только не хочу, но настаиваю, чтобы этого не было, – теперь, когда Кронго решил, он почувствовал облегчение.
Странно – ведь он Лефевра мог использовать как повод для избавления. Ведь бессмысленность, которая была, кажется ему, страшней боли, потому что, когда есть боль, есть хотя бы желание избавиться от боли, а когда есть бессмысленность, нет ничего. Но теперь повод для избавления от бессмысленности не нужен, значит, не нужен и Лефевр.
– Хорошо, – Лефевр встал, ухмыльнулся. Негры и креол исчезли. – До свиданья. Как знаете.
Подождав, пока стихнут шаги, Кронго подошел к столу. Сначала возникла мысль сдвинуть пачки с долларами и бонами в ящик, даже протянулась рука. Но тут же она, проплавав немного над пачками, вернулась на место. Это ведь сейчас глупо и не имеет никакого значения. Кронго сделал усилие, чтобы еще раз ответить на собственный вопрос: может быть, для него что-то значат сыновья? Может быть, ему только кажется, что он к ним равнодушен, может быть, потом это изменится? Он прислушался к самому себе. Бубуль и Гюгюль. Два козленка. Так их зовет Филаб. Боль? Горечь? Тревога? Нет ни одного из этих чувств. Ни одного. Он увидел за окном медленно скачущую лошадь-трехлетку. В жокее, неловко привставшем на стременах, узнал Амалию, девушку-негритянку. Сидеть она не умеет. Но бессмысленно учить ее сидеть. Вот в чем дело. Так же бессмысленно то, что он сам хорошо умеет сидеть. Это не имеет никакого значения, ровно никакого. Может быть, имеет значение, что Альпак может обойти любую лошадь в Европе и Америке? Потому что ведь имеет значение, что пять лет назад во время случки в Лалбасси беговая кобыла Актиния и скакун-гибрид Пейрак-Аппикс еще раз оплодотворили яйцеклетку? Нет, не имеет. Совершенно бессмысленно, что родился жеребенок с такими длинными пястями, какие редко случаются от смеси английской и американской пород. Может быть, он, Кронго, зачем-то и нужен. Но он просто не понимает, зачем. Да, красота лошадиных линий, конечно, конечно. Удивительная красота тела, в котором нет ничего лишнего. Но зачем она нужна? Ну, хотя бы почувствовать стыд, угнетающую, жгущую щеки горечь стыда за то, что он притащил все это сюда, в этот город, бессмысленность этого, бессмысленность, постыдность. Но он не чувствует ничего этого, все спокойно внутри. Красота линий. Каких линий? А в самом деле, зачем стыд? Что такое стыд?
Кронго вышел в коридор. Рука автоматически вставила ключ, он хотел запереть дверь. Кронго улыбнулся. Теперь уже нет никакого человечка. И этот вопрос – «так, так, но почему?» – не кажется ему бессмысленным и не пугает его. Наоборот, он успокаивает, потому что оправдан. Ключ можно оставить в двери и сойти вниз. Как только Кронго вышел на улицу, он почувствовал приятный жаркий удар лучей в лицо и увидел, что на него смотрит Душ Сантуш. Он сидит в «джипе».
– Одна небольшая просьба… – Душ Сантуш щелкнул пальцами. – Попрошу вас после утверждения список для охраны.
Кронго слышал слова Душ Сантуша, но одновременно не понимал их смысла. И тем не менее ласково улыбнулся, дружелюбно вглядываясь в юного лейтенанта. Приветливо сказал:
– Конечно… Да, но… после какого утверждения?
Душ Сантуш что-то почувствовал в тоне Кронго, на секунду задержал взгляд. Вытащил из нагрудного кармана несколько нагрудных значков.
– Вам это носить не обязательно. Но персоналу необходимо. Это значок нашей демократической партии. Может быть, и вы? Пожалуйста, вы можете надеть.
Кронго улыбнулся, глядя на него, и лейтенант отложил значки.
– Понимаю, – Душ Сантуш закрыл на секунду глаза. – Простите, мсье Кронго, не думайте, что я дерьмо. Честно говоря, плевал я на значки. Мне их дали эти… из сил безопасности. В виде нагрузки.
Кронго кивнул – уже совершенно серьезно, как бы успокаивая и сразу отстраняя лейтенанта. Пока он шагал к главной конюшне, мелькнула мысль: если бы лейтенант узнал, что он хочет сейчас сделать, – смог бы он ему помешать? Нет, не смог. Мимо проехала качалка, кто-то на Мирабели, кажется Бекадор. Еще одна, Амайо на Ле Гару. Выехали на круг, пошли тротом. Как быстро едут, вот уже у поворота. Обе створки дверей главной конюшни широко открыты, наверняка денники пусты. Устоявшийся запах конюшни – навоза, подгнившего сена, сбруи. За денниками – каморки конюхов, тех, у кого нет своего дома. Настежь распахнутая каморка Ассоло. На соседней двери – надпись: «Старший конюх». Мулельге… Они не придут сюда еще часа два. Вот за этим денником… Сюда…
Кронго остановился. Стены широкой клети были увешаны сбруей, чересседельниками, хомутами. Стояли аккуратно расставленные оглобли. С длинной перекладины под потолком свисали вожжи, обрывки старых хлыстов, веревки для поддужья, шлеи. Под перекладиной тянулся длинный помост полуметровой высоты. Когда Кронго поднялся на него, ремни загородили проход, и он их раздвинул. Нет, конечно, он не будет этого делать. Он просто завяжет вокруг перекладины одну из вожжей, так, чтобы она крепче держалась. И, глядя на себя со стороны и как бы со стороны ощущая собственные руки, он подтянул одну из вожжей, самую тонкую, размягчившуюся от долгого употребления, а в некоторых местах застывшую. Кронго завязал ее вокруг перекладины. Подергал, проверяя. Конечно, он этого делать не будет. Тем более что прямая вожжа, свисающая с перекладины, не представляет никакой опасности. Кронго аккуратно сложил конец вожжи и, перегнув, завязал маленькую петёлку. Эта крохотная петёлка получилась на уровне его груди. Кто-то есть в конюшне, слышен шорох в одном из дальних денников. Но это теперь не имеет значения. Никто не догадается заглянуть сюда, в дальний угол, где вывешена старая сбруя. Да и потом – он совсем не собирается делать ничего такого, что могло бы вызвать тревогу. Вот он осторожно вдел в петёлку край вожжи, и получилась петля. Теперь, если отпустить вожжу, петля сама собой распустится. Так и есть, пропущенная в петёлку часть вожжи выскользнула под собственной тяжестью, и вожжа чуть качнулась, раскручиваясь в обратную сторону, застыла. Хорошо, что никого нет, потому что, если бы кто-нибудь был или хотя бы краем глаза увидел все это, ему, Кронго, было бы стыдно за то, что он делает. Он опять взял петёлку и протянул в нее часть вожжи. Получившаяся петля была как раз на уровне его лица, и он осторожно надел ее на шею. Шея чувствует петлю. Снял, потянул ее рукой, и петля затянулась вокруг кисти. Растянул, опустил. Петля качнулась, раскручиваясь. Снова надел на шею, почувствовав холод кольца. Он должен сейчас постоять, привыкая к тому, что петля лежит на шее. Ну, где же ты, человечек? Нет никакого человечка. А «так, так, но почему?» Нет «так, так, но почему?». Это будет болезненно, но никакая боль не может сравниться с бессмысленностью, которая окружает его. Именно «почему» заставляет его это сделать. «Почему» того, что он делал всю жизнь. Он поднял глаза и увидел, что на него смотрит Альпак.
Альпак остановился в проходе у крайнего денника, чуть выгнув шею, чтобы увидеть Кронго. Наверное, оттого, что Кронго не ожидал этого, первое, что он ощутил, был жгучий стыд – стыд оттого, что кто-то увидел его в таком положении, стоящим на помосте, с петлей, накинутой на шею. Альпак, редко прядая ушами, глядел на него в упор, и Кронго видел в его глазах, что лошадь понимает все, что с ним происходит. Альпак чуть отступил вбок. Нет, значит, стыд совершенно ни к чему, Альпак ведь не сможет никому сказать, что он видел. Вспомнилось – оборотень. Многие конюхи считают Альпака оборотнем. Однако как же он сумел выйти из денника и неслышно подойти сюда? Кронго не чувствовал петли, она словно слилась с шеей. Может быть, он был слишком занят петлей и не заметил Альпака? Но все равно, он должен был услышать хотя бы легкий стук копыт об унавоженный земляной пол. Не может быть, чтобы, выйдя из денника, Альпак подкрадывался настолько осторожно, что он, Кронго, его не услышал. Альпак повернул шею, тряхнул головой. Повернувшись, пошел назад, к своему деннику. Звука его копыт почти не было слышно, видна была только двигающаяся над стенами денников черная челка. Вот она остановилась. Странно – если Альпак пришел, то почему сейчас пошел назад? Челка дернулась, было видно, что Альпак поворачивает. Вот снова вышел из прохода. Остановился, мотнул шеей. Глаза его странно блестят. Осторожно кашлянул, вглядываясь и будто спрашивая – что мне делать? Нет, конечно, Альпак не понимает, зачем Кронго стоит в таком положении. Он просто вышел из денника, почувствовав присутствие хозяина. Но тогда почему подошел так тихо? Он не подходит вплотную, а смотрит, выгнув голову из-за прохода. Боится? Он смотрит совершенно беззвучно. Но чего тогда он боится? Наконец Кронго совершенно отчетливо и ясно понял – Альпак не понимает, от чего он, Альпак, должен спасти его. Но понимает, что ему, Кронго, сейчас очень плохо. Альпак не догадывается о человечке, не видел прыщавого негра, не знает о барже, не слышит «но почему?», – но знает, что он должен спасти Кронго. Но он не понимает, как он может это сделать. Он только чувствует, что для спасения Кронго он не должен делать лишних звуков, лишних движений, а из-за незнания может только застыть, замереть, может только вглядываться, чтобы хотя бы попытаться понять, чем он сможет сейчас помочь. Может быть, он может помочь этим взглядом и тем, что он осторожно прошел по проходу и вернулся? Кронго почувствовал, как сдавило горло, и осторожно снял петлю. Возникло что-то совсем постыдное, какое-то жалкое всхлипывание. Если эти глаза, которые сейчас внимательно смотрят на него, могли подсказать ему такую мысль, то по ним он может проверять и остальные мысли. Но странно – он вспомнил сейчас лишь о том, как, приехав в Лалбасси, принял от конюхов мокрый комок с четырьмя вытянутыми палочками, Альпака, и, глубоко засунув палец в задний проход, помог комку освободиться от первородного кала. Эти страшные и добрые глаза не имеют никакого отношения к тому воспоминанию. Оборотень? Он осторожно распустил петлю. Потом, срывая ногти, петёлку. Он должен отвернуться, чтобы Альпак не видел его слез. Отвернуться – вот так, давясь и икая. Но сейчас, глотая слезы и закусывая палец, Кронго чувствует, что освободился от бессмысленности.
Тогда, в тот день, придя на берег озера и глядя на Ксату, Кронго будто пытался проверить – что же в ней изменилось. Вот она поворачивается к нему. Глаза Ксаты кажутся ему недоверчивыми, сначала ему даже кажется, что в них испуг. Он видит: она сама сейчас тоже хочет узнать – что же изменилось в нем? Ей тоже важно – что же произошло с ним за это время? Вот рука ее медленно поднимается, протягивается… Она стоит спиной к озеру. Нет, он ошибся, в ее глазах сейчас нет испуга. В них по-прежнему вот это странное смешение. Это соединение беспомощности и силы. Ему вдруг кажется – глаза Ксаты хотят обмануть его, пытаются что-то скрыть.
Она опустила, почти отдернула руку. Отошла к самому берегу, остановилась. Но он не дал ей остаться одной. Он тут же подошел к ней, повернул к себе. Да, ее глаза сейчас пытаются что-то скрыть от него. И одновременно с этим в них живет насмешка. Теперь он видит – это насмешка не прежней Ксаты. Не той, которую он увидел впервые год назад. Это насмешка все понимающей, умудренной опытом женщины – хотя Ксате только исполнилось восемнадцать. Что же говорит ему сейчас эта насмешка… Может быть, Ксата просто смеется над ним? Да – именно смеется? Над его любовью, над бессилием этой любви? Вот холодные, прекрасные губы Ксаты дернулись… Застыли… Что-то привело эти губы в движение. Да, это насмешка. Что-то, что она знает – и таит в себе. Но она ведь знает в с е. Да, теперь он понимает – она всезнающа. Значит – это и есть изменение? Вот это ее детское всезнание? Это, появившееся в ней теперь, через год после их встречи, всезнание – оно и изменило что-то в ней? Оно, это всезнание, давно уже сделало ее взрослой. Ксата теперь намного старше, чем он, – но именно поэтому она привлекает его еще больше. Вот она легким движением выскользнула от него, отстранилась. Как же ему не хватало ее. Как не хватало – все время. Там, в Париже, он оставался один. Совсем один…
– Ты… давно здесь?
Она, ничего не отвечая, отошла. И – будто отстраняя его этим движением – легла на землю, раскинула руки. Глаза ее ускользнули от него – хотя были широко раскрыты. Она сейчас прекрасна – под лучами утреннего солнца, еле прикрытая двумя лоскутками материи, легкая, стройная… Но – прекрасная – она далека от него. Далека – бесконечно. Почему же… Вот почему. Она далека потому, что всезнающа. Он же ничего сейчас не знает о ней. Ничего. Откуда же в ней это изменение? Откуда эта появившаяся в ней взрослость?
– Давно, – наконец сказала она. – Целую вечность. С тех пор, как тебя нет в Бангу.
В ее словах был упрек. Значит – она его любит. Любит – повторил он про себя. В этом и есть счастье. Но в этом счастье есть горечь. В нем, Кронго, Кро, уже возникла ревность. Да, в нем возникла именно ревность, представление, что она была с другим. Неважно, была ли она с другим на самом деле, – но он почувствовал, что она м о г л а быть с другим. И именно это мешает ему сейчас понять ее слова.
Но что же тогда – если она н а с а м о м д е л е была с другим все это время, пока его не было здесь? Пустяки. Глупости… Он знает – она ждала его. Иначе бы она не пришла сюда. Нет, это не может так продолжаться. Она не может, не должна больше жить в Бангу – без него.








