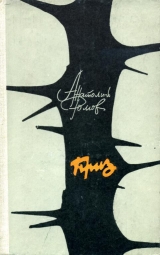
Текст книги "Приз"
Автор книги: Анатолий Ромов
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
– Хорошо, мама.
– Сюда… – стеклянная дверь за Кронго закрылась.
Лефевр и Поль стояли рядом. На долю секунды Кронго показалось, что они ждут – он должен им сказать о бумажке, которую незаметно положил в карман. Кронго вспомнил слова Пьера о барже, о том, как топят заложников. Он подождал – но оба, и Лефевр, и Поль, молчали. Нет, ему показалось, они ничего не заметили. Конечно… Они просто устали. Они не собираются спрашивать его о чем-либо. Лефевр смахнул со лба пот, улыбнулся:
– Вот служба… Проходите, мсье, проходите…
В почетной ложе на большом столе, за который сел Кронго, были аккуратно разложены карандаши, чистая бумага, свежие программки сегодняшних бегов и скачек, расставлены бутылки с минеральной водой, вазы с фруктами. Отсюда, из кабинета второго яруса, был хорошо виден ипподром – идеально открывающийся двухкилометровый овал дорожек. Европеец, сидевший рядом с Кронго, чистил ножом апельсин. Кронго обратил внимание на его руки – они были морщинистыми, с желтыми и коричневыми старческими пятнами, пальцы слабо нажимали на нож, пытаясь снять оставшуюся после кожуры белую бархатистую пленку.
– Кстати, Кронго, мне будет очень, очень… – Крейсс, сидящий в стороне, сделал особое движение вверх подбородком. – Господин пресвитер!
Руки европейца застыли, короткий горбатый нос, сплошь усеянный красными жилками, был неподвижен, оттопыренные синие губы не шевельнулись. Европеец будто вглядывался, стоит ли ему еще снимать белую волокнистую пленку или можно уже есть апельсин.
– Я рад представить вам, господин пресвитер, директора ипподрома, мсье Маврикия Кронго… – Крейсс незаметно показал рукой, и креол, стоящий за его спиной, отошел. – Кстати, к нашему разговору, господин пресвитер… Мсье Кронго – человек нейтральный, он не поддерживал борьбы правительства, не участвовал в том, что, может быть, претит вам, – в вооруженном восстании… Видите ли, Кронго, – Крейсс придвинул к нему бокал, налил из бутылки пузырящейся прозрачной воды. – Господин пресвитер представляет экуменическое движение, он у нас в гостях с тем, чтобы… Джекоб Рут – представитель Всемирного совета церквей…

– Прошу вас, не нужно, господин Крейсс… Я постараюсь сам составить впечатление о том, какая обстановка складывается у вас.
Пресвитер говорил тихо, и Кронго понял, что его губы кажутся синими из-за нескольких голубых волдырей у самой линии рта.
– Простите, мистер Кронго… Почему они… перед тем как туда зайти, кружатся? Почему не бегут?
Ударил колокол, крышки боксов открылись, и буланый Эль, сильно опередив других, рванулся к бровке. Трибуны закричали. Мелко забил колокол: одну из дверей заклинило – и лошадь осталась стоять в боксе.
– Фальстарт! – крикнул голос в громкоговорителе. – Фальстарт! Фальстарт! Фальстарт!
Заният с трудом остановил Эля, вернул его на собранном галопе к старту, пристроил к крупу Дилеммы. Задние дверцы боксов открылись, служители стали по очереди заводить в них лошадей. Бумажка была не от Пьера, подумал Кронго.
– Надо пускать лошадей одновременно, так, чтобы никто не получил преимущества, – сказал он, глядя на пресвитера и стараясь не замечать его волдырей. – Скаковая лошадь может начинать с места, ей не нужен разгон…
Пресвитер незаметно отломил дольку апельсина. Крейсс, улыбаясь, сделал Кронго знак – «правильно, говорите с ним, занимайте его». Вздохнул, скрестил пальцы:
– Господин пресвитер, я не знаю, могу ли я вас просить… Отец Джекоб, мне хотелось, чтобы вы почувствовали необычность этого праздника, обстановки, царящей здесь.
Пресвитер осторожно сосал дольку апельсина.
– И допустим… я не хочу навязывать свое мнение… Я, конечно, верующий, но не пацифист… Но вы видите сами… люди, черные и белые, стоят здесь рядом… Не могли бы мы сделать этот кубок традиционным? Назвать его, скажем, Кубком Дружбы? И просить вас войти в жюри?
Лицо Крейсса, в котором нос был как бы перевернутым повторением губ, застыло, подбородок сморщился, глаза смотрели на дорожку. Пресвитер повернулся к Кронго. Серые глаза его под коричневыми бугристыми веками были спокойными и ясными.
– Бог породил природу и все сущее в ней, но ведь он не поставил никаких пределов ее могуществу… Добродетель, удовольствие и истина столь же реальны в мире, как и ужас, боль, преступления, горести и печали… Поэтому, только поэтому я не могу присоединиться к мнению братьев моих о заповеди «не убий»… Не утверждаю «убий», ибо не знаю… Но бессилен осудить и насилие, ибо сомневаюсь…
Что-то знакомое и давнее слышится в этих словах. Ах, вот что – искренность. Странная искренность мысли, противоречивая, доступная только европейцу. Но ведь и он, Кронго, европеец. Гораздо больше европеец, чем Крейсс, потому что Кронго понимает сейчас смысл и искренность слов пресвитера, а лицо Крейсса глухо к ним.
– Пошел! – треснул громкоговоритель. – Отрывайтесь! Отрывайтесь!
Ударил колокол. Лошади, лихорадочно взбивая копытами землю, кучно рванулись. Каждую из них сейчас жокей пытался оторвать от общей массы и прибить к бровке. Пресвитер отломил еще одну дольку. Крейсс неторопливо закурил, улыбнулся.
– Кронго, вы сейчас предстаете перед нами чуть ли не в образе господа бога. Из тысяч людей, пришедших сюда, вы единственный точно знаете лошадь, которая придет первой. Что вы скажете, господин пресвитер?
Пресвитер налил в стакан воды, стал пить, морщинистая шея его медленно напрягалась и опадала.
– Слепота веры была нужна тогда лишь, когда веры еще не было, – пресвитер поставил стакан, и Кронго заметил Лефевра, нагнувшегося к уху Крейсса, листок бумаги, переданный из рук в руки, написанные на нем слова «палачу» и «геноцид». – Но со временем слепота веры неизбежно должна была превратиться в свою противоположность и стать неверием… Поэтому я и пекусь об объединении церквей божьих, ибо не оттенки веры меня заботят, а меняющаяся суть ее… Новая вера грядет…
Кронго перехватил знак, который подал ему Крейсс: «слушайте, внимательно слушайте». Пресвитер, пососав дольку, осторожно выложил ее в пепельницу.
– И разве в том дело, что учение Христа распространилось по земле недостаточно?
Он улыбнулся, мелкие черточки появились в дряблых уголках губ. Пресвитер улыбался странно – линия рта, у которой были голубые волдыри, складывалась в улыбку, а самые углы губ опускались, будто пресвитер беззвучно плакал.
– А в том, что заповеди Христа чем дальше, тем реже исполнялись каждым верующим истинно… Вдумайтесь – слепота веры была повинна в этом. Ибо слепо верующий человек поневоле начинает считать себя бесконечно постигшим истину, а абсолютное постижение истины противоречиво и противоестественно сути человеческой…
Внизу ударил колокол, Эль первым проскочил финиш. Поль что-то показал от двери Лефевру, а тот – Крейссу.
– Господин пресвитер, простите, я ненадолго займу вашего собеседника, – Крейсс отвел Кронго в сторону, зашептал одними губами, распространяя горький и душистый запах сигарет: – Вы, кажется, понравились старику… Кронго, умоляю вас, выручите… Вас вызывают… Вы должны подготовить какой-то там заезд… Но вы можете скорей вернуться? Я вас умоляю, Кронго… Будьте любезны, мсье Маврикий…
Глаза Поля и Лефевра в упор смотрели на Кронго. Знают ли они о бумажке, которую кто-то сунул ему в руку, он должен встретить Пьера, кроме того, Альпак… но главное, этот старик – все это смешивалось с шепотом Крейсса. Этот шепот был гарантией, залогом, он обещал что-то, но главное, он притягивал Кронго к пресвитеру, который сейчас листал дрожащими пальцами положенную перед ним программку.
– Хорошо, я приду… Я буду минут через двадцать, мне нужно подготовить скачку…
– Кронго, я вам обязан… я бесконечно… – брови Крейсса что-то приказали Лефевру, тот открыл дверь.
Кронго, Лефевр и Поль миновали короткий коридор и вышли наружу, в шум трибун, в слившиеся резкие выкрики. На рабочем дворе перед паддком Заният, Зульфикар, Мулонга и Амалия медленно проваживали по кругу лошадей для скачки. Лефевр и Поль отошли – так, что Кронго сразу потерял их из вида. Перль, вороная тонконогая кобыла, которую вела Амалия, и чубарый долговязый жеребец, Парис, выбраны были для этой скачки не из-за резвости, а только из-за редкостной стати. Дети Пейрак-Аппикса, с такой же, как у него, длинной пологой холкой и вислинкой в крупе, они сейчас переступали легко, вздрагивали, будто показывая – каждый обычный медленный шаг для нас мучителен, мы любим только скакать. Заният вел сухого, сильного и резвого Казуса, жеребца дикой выносливости, солово-игреневого, с прожелтью и белыми ногами, хвостом и гривой. Казус то и дело приседал, дергал непослушной шеей с обратным «оленьим» выгибом. Раджа, наоборот, был спокоен.
– Как вареный, месси, – Зульфикар огорченно остановил рыжего Раджу – полуараба, получистокровку.
Раджа мягко и неторопливо переступал на месте. Кронго видел, что Раджа сейчас вяловат, «не в себе». Он единственный мог обойти в этой скачке Казуса – если бы не плохой порядок.
– Постарайся не отстать на первой четверти, – Кронго невольно повернулся к перилам, где толпились любопытные. – На той прямой пусти… Может быть, достанешь… И разогрей его… Разогрей….
Нет, в этой скачке Раджа безнадежен… Кронго подумал, что хочет вернуться назад, чтобы слушать пресвитера. И тут же увидел Пьера. Он сразу узнал литую грудь под рубашкой, теперь рубашка была не голубой, а белой. Проваленный нос, плавающие глаза. Пьера толкали. Он увидел, что Кронго заметил его, – и улыбнулся той самой улыбкой… Той самой… Количество пальцев на перилах все время менялось. Один. Два. Четыре. Три. Когда же он, Кронго, должен отворачиваться? Один. Наконец Пьер оставил надолго два, а потом три пальца. Он улыбался, глядя в сторону, и был сжат со всех сторон, каждый сантиметр перил занимали чьи-то руки, локти, кулаки, кто-то пытался протиснуться. Пьера отталкивали. Три был номер Казуса. Раджа не в настроении. Перль и Парис еще слабы. Перль под неопытной Амалией – все это мелькнуло, даже не отвлекая от Раджи, от Ассоло, тихо хлопавшего в ладоши, прыгавшего рядом. Кронго отвернулся. Да, Казус… Хотя для всех он явный аутсайдер – но верней всего придет именно он…
– Заложили, заложили… – хлопал Ассоло. – Альпак в духе, месси, Мулельге закладывал, Бвана злой… Идемте, посмотрим, заложили… Цок, цок, цок… Месси, месси!
Казус, выдергивая шею, вертелся по двору, Заният с трудом сдерживал его. Понял ли Пьер, что Кронго показал именно Казуса? Там, у перил, Пьера уже не было. Вместе с Ассоло Кронго подошел к тыльной части конюшни. Шесть наездников сидели в качалках – пока еще Кронго не решался выпускать их сразу на круг, без проверки. Мулельге поклонился, стараясь не смотреть на Кронго. Ньоно, подумал Кронго. Наверное, если бы он пытался определить, кого имел в виду Фердинанд, когда говорил о человеке Фронта, то подумал бы в первую очередь о Мулельге. Всех этих лошадей, которые сейчас, перед скачкой, побегут в главном заезде, Кронго знает наизусть. Гнедая маленькая Мирабель под первым номером. Ее поведет Эз-Зайад. Этот барбр сидит в качалке по-своему, чуть подогнув ноги. Сухая темно-соловая Ле Гару, если бы не Альпак, пришла бы в этом заезде первой. В коляске Эль-Карр. Но почему ему, Кронго, хочется вернуться в ложу и слушать пресвитера? Может быть, его тело, его организм сами тянутся туда, чувствуя, что в словах пресвитера есть какое-то обещание… Обещание выздоровления… Одновременно с этим он думает о том, что нарочно посадил барбров, с детства привыкших к седлу, не на скакунов, а в качалку. Верхом их сажать нельзя, они уже не отучатся от варварских способов обращения. Номер третий, Болид, – угрюмый гнедой жеребец с львиной грудью. Болид может ехать без наездника, настолько он выучен и устремлен к цели. В качалке сидит Бланш. Перебирает вожжи, приподняв их на кистях. Альпак. Кронго на секунду замедлил шаг. Альпак стоял смирно и ответил ему долгим радостным взглядом. «Я готов, хозяин» – значило это. Болид… Бланш в качалке… Спокойно улыбается, глядя мимо Кронго. На Альпаке – опытный Чиано, он сейчас ушел в себя, откинувшись и упершись ногами в передок. Кронго вспомнил слова пресвитера – «не могу сказать «убий», ибо не знаю»… Бвана, последний… Его поведет Амайо. Кронго медленно поднял руку и показал ладонь. Комментатор на поле – он сидел в «джипе» – увидел этот жест и зажег фары. Грянул, выходной марш. Эз-Зайад чмокнул, Мирабель медленно двинулась к дорожке, ведя за собой остальных. В паддке ходили по кругу все те же Перль, Парис, Раджа и Казус. Скачки должны начаться сразу же после заезда, Кронго снова увидел на перилах пальцы Пьера. Пьер смотрит на выезжающих лошадей, твердо показывая четыре – номер Альпака. Да, конечно, ведь Пьеру надо знать двух победителей подряд. Кронго поймал его взгляд, отвернулся, подойдя к Амалии. Амалия неловко подпрыгивала, вставив одну ногу в стремя.
– Мсье, вы не готовы? – Лефевр не вынимал руку из кармана пиджака.
– Сейчас, – Кронго подошел к Амалии, чтобы помочь ей сесть.
Но она уже вскочила, пригнулась к гриве, прилаживаясь к седлу и разбирая поводья. У нее красивое лицо… Красивое…
– Не нервничай! – Кронго заглянул ей в глаза – но они уплыли.
– Да, месси, – выдавила Амалия дрожащими губами, и Кронго заметил взгляд Лефевра и то, что в красных жокейских брюках и туго обтягивающей грудь красной рубашке с распахнутым воротом Амалия очень хороша. Длинный жокейский козырек оттеняет лицо, глаза, посеревшие нежные губы. Тонкие и длинные черные пальцы нервно перебирают поводья. Эти пальцы – с полуоттенком коричневого и розового.
– Амалия… Да возьми ты себя в руки…
Кронго хорошо видел взгляд Лефевра и открытую темно-коричневую грудь за отворотом красной рубашки… Амалия тоже заметила его взгляд, вздрогнула, чмокнула. Перль присела, вздыбилась.
– Если будешь нервничать, будет только хуже…
– Хорошо, месси… – Амалия пригнулась, закрыла глаза.
– Доверься ей, доверься… Лошадь сама привезет тебя, если ты доверишься…
– Хорошо, месси…
Они с Лефевром прошли вдоль шумящих трибун, перед ложей Лефевр посторонился, приоткрыл дверь. В коридорчике на двух табуретках сидели знакомые негры. Лефевр кивнул, они встали.
– Наконец-то, Кронго, – Крейсс тронул стул и незаметно для пресвитера показал ладонью. – Мы просто заждались, ей-богу, тем более сейчас начинаются главные призы… Но как будто в заезде неожиданностей не будет? Ведь тут, как принято у вас говорить, один Альпак? Неожиданности могут быть только в скачке?
Пресвитер тоже обернулся к Кронго и улыбнулся своей странной улыбкой.
– Альпак – это кто? – спросил он.
– О, Альпак… – Крейсс легким, почти незаметным движением отодвинул Лефевра к двери. – Мышастый жеребец под четвертым номером… Это – знаменитая лошадь.
Пресвитер беспомощно вглядывался в лошадей.
– Мышастый? Что это – мышастый?
– Серая лошадь с черными ногами и гривой, – сказал Кронго. – Как раз разворачивается…
Крейсс улыбнулся.
– Пока вас не было, Кронго, господин пресвитер любезно дал согласие войти в жюри Кубка Дружбы. Мы уже решили, что сделаем его традиционным. Объявим о нем в печати. Может быть, разыграем через месяц, если вы не против?.. Кажется, начинают?
Лошади медленно пристраивались к развернутым крыльям стартовой машины, постепенно выравниваясь. Машина ехала все быстрее, быстрее.
– Отрывайтесь! – скомандовал репродуктор.
Ударил колокол, машина уехала в сторону, лошади почти одновременно пробежали стартовую линию. Первые несколько секунд коляски шли кучно, затем Альпак легко выделился и занял бровку, постепенно уходя вперед. Казалось, что ноги его движутся даже медленно. В беге Альпака не было погрешностей, он шел машисто и свободно, и по тому, как сидел Чиано, было видно, что наездник нисколько не подает лошадь, держа вожжи на одном уровне. На втором и третьем местах далеко за Альпаком держались в борьбе Бвана и Мирабель. Потом их обошла Ле Гару. Альпак прошел поворот, противоположную прямую и, так же раскидисто и ровно работая ногами, легко закончил бег под короткий удар колокола.
Он не понимает – что же с ним происходит. Ведь он должен сойти с ума. Но – он стоит и смотрит на озеро. Как будто все разрывается внутри, и это распадающееся, разрывающееся тут же соединяется снова, сживляется… И снова – будто от него отрывают куски. Но он остается живым… Живым… Он стоит, не падает. Да – что-то окаменело в нем. Но ведь в мире не может быть этого… Не может…
– А потом она побежала… Она побежала по деревне… Знаешь, она, наверное, долго бегала около домов и все кричала: «Спасите! Спасите! Он убьет меня!..» Знаешь, она кричала так пронзительно… Я отсюда слышала… Как заяц…
Ндуба ходит около него, что-то ставит перед ним на столе, что-то передвигает – но он ничего не видит. Он только слышит ее слова – обыденные, простые, сказанные самым обычным тоном. Но ведь в мире не может быть этого… Не может…
– Сначала все думали, что она шутит… Но оказывается… Понимаешь, дело-то какое… Оказывается, она была уже ранена в это время… Он ее ударил ножом… Она бегала и держала эту рану… Пыталась закрыть… Чтобы кровь не шла…
Она бегала – и держала эту рану. Она – бегала. Ксата – бегала. Все путается в голове. Не бежит, не побежит когда-нибудь. А бегала. Вот отчего он не сходит с ума. Он пытается найти в словах Ндубы хоть какую-то возможность исправить – исправить то, что случилось. Не может быть, чтобы это было, – невозможно. Ксата – бегала. Там, за домами. В темноте. Ксата бегала – уже раненная ножом. Да. Вот кто-то схватил его голову – и пытается разделить ее, оторвать от нее часть. Но он не сходит с ума. Ему разрывают голову – а он стоит. Он стоит, и ему кажется, что он съеживается – съеживается бесконечно, до размеров зерна. И где-то наверху над ним вырастает, колышется огромная Ндуба и продолжает говорить – говорить то, что для нее стало бытом, обыденностью.
– А потом кто-то увидел… Так, случайно… Как мимо хижины он пробежал… Балубу… И тогда люди поняли, что Ксата не зря кричит.
Он чувствует – он перестал быть зерном. Наоборот, он стал расти, шириться, он стал огромной глыбой. Огромной беспомощной глыбой, нависшей над озером. И Ндуба – маленькая, еле заметная Ндуба – теперь уже где-то внизу.
– Но было уже поздно… Он догнал ее. Там, за домами. И задушил. Знаешь – мгновенно. Я сама слышала, как крик оборвался.
Почему он не сходит с ума? Почему? Ведь того, о чем он слышит сейчас, – не может быть. Этого… Не может… Быть…
– Да и люди говорили – она перестала кричать, как будто ей подушкой рот заткнули. Поэтому их долго не могли найти – ее и Балубу.
Еще час назад он сидел в самолете. Он летел сюда. Да, час. А всего полчаса… Всего полчаса назад он трясся в старом такси, торопясь успеть. Он хотел успеть до ночи – чтобы забрать Ксату… Сразу забрать… И вот – он успел. К чему же он успел…
– Ты знаешь, а потом… Потом их нашли. Ее и его. Она была уже мертвой. Лежала за домом. А Балубу сидел над ней. Знаешь, как каменный… Сидел и молчал. Будто… ничего не слышал. Говорят – он к тому времени уже того… С ума сошел. Чокнулся. Но этого никто не знает. Потому что его тут же… Все вместе, понимаешь. Мужчины… Мужчины из деревни… Убили. Забили камнями.
Он сейчас сойдет с ума. Он хотел бы сойти с ума. Лучше бы его самого забили камнями. Почему же он стоит? Почему не умирает? Жизнь немыслима, она слишком жестока. Жизнь – жестока, Ксаты – нет. Что же происходит с ним? Неужели это возможно? Сумасшествие – оно было бы благом. Что же с ним происходит. Что же… Ведь он один виноват в ее смерти. Он один… Только один.
– Великолепно… – сказал Крейсс.
Пресвитер закрыл глаза. Кронго заметил, что Крейсс, воспользовавшись этим, еле заметно, неуловимым, легким шевелением бровей показывает: «Кронго, занимайте, занимайте его». Молодой человек в глухом черном сюртуке, по всей видимости сопровождающий пресвитера, покосился в их сторону. Он сидел, сложив руки на коленях, и смотрел в стол, изредка шевеля губами. Пресвитер взял еще одну дольку апельсина, она пропала в его рту, будто провалилась, губы задвигались, но это движение уже не относилось к жеванию.
– Всем… всем… тягость… – послышалось Кронго за движением выпуклых губ пресвитера. Голубые волдыри будто жили на них отдельно, едва не западая внутрь. – Простите, – пресвитер ясно и открыто посмотрел на Кронго. – Мне иногда кажется, что я всем в тягость. И от этого мне тяжело. Только от этого.
– Что вы, – Кронго попытался улыбнуться. – Мне было очень интересно… Мне… мне было это очень важно… Я никогда не слышал, чтобы так говорили…
– Я говорил о заповеди «не убий», – пресвитер с трудом взял бутылку и налил воды сначала Кронго, потом себе. – Но я часто думал о том, что заповеди составлены неправильно и эту заповедь следовало бы назвать по-другому… «Как убий»… Вдумайтесь – именно как умереть важно для человека, а не умереть ли ему вообще. Ибо и так знает, что смертен… Мы говорим часто «жизнь и смерть», но не это составляет самое важное… Истинно – не смерти боится человек, а того, как он умрет… И сам ты, и брат твой боятся страданий длительной мучительной смерти… И не всегда во времени она длительна, и не только в мучениях тела. А в короткий страшный миг может быть длительна бесконечно… Но не знаем, что даровано, и не можем постичь, за что даровано будет…
Пресвитер улыбнулся и отодвинул программку.
– И грех совершаем мы, когда выступаем просто против смерти… Когда выступаем только против атомной смерти, но не против тяжкой, долгой гибели отдельного человека… В одну секунду умирает он десятилетиями… Бесконечно умирает в мгновение, когтями разрывают ему грудь и мозг, и страшно ему… – пресвитер осторожно глотнул воды. – Но, говоря это, сомневаюсь, и кажется мне, что грешу сам.
Шея пресвитера напряглась и вяло опустилась. Внизу, под самой ложей, Перль, Парис, Казус и Раджа ходили по кругу за приготовленными и распахнутыми боксами. Часто звонил колокол, с трудом заглушая шум ипподрома.
– Вот что… – Крейсс, улыбаясь, обернулся к пресвитеру. – Что же мы сидим? Ведь это и есть прообраз Кубка Дружбы! Мсье, господа, давайте сыграем, давайте доставим себе это удовольствие. Господин пресвитер? Лефевр, вызовите букмекера! Кронго, вы ведь дадите нам консультацию…
Лефевр незаметно проскользнул в дверь.
– Я сторонюсь азарта… – пресвитер поставил бокал.
– Ну что вы, что вы, господин пресвитер… Никакого азарта. Просто сделаем ставки на эту скачку. Только на эту. Кронго, ведь это возможно?
Поль, прислушавшись, впустил посредника.
– Внима-ательно слушаю! – Посредник, смуглый молодящийся европеец в полосатой рубахе, с набриолиненным пробором, привычно огляделся. Видно было, что букмекер старается скрыть, что определяет, с кем будет иметь дело. – Господа! Желаем сделать ставки? Прошу торопиться, скачка начинается… Правда, по секрету… – посредник кашлянул, постучал пальцем по растрепанной программке. – Информатор побежал к судье, тот затянет, насколько возможно…
– Ну что ж… – Крейсс достал бумажник, повернулся к пресвитеру.
Посредник достал и выложил на стол аккуратные стопки билетов.
– Объясните нам, как идет игра… – Крейсс вынул из бумажника деньги. – На кого и что?
– Фаворитов пока немного, Раджа и Перль… – посредник легко наклонился, исправляя пометки в блокноте. – Господин директор, вы не помните меня? Я работал у вас старшим смены третьего яруса… Одно время ставили только на Раджу, на Перль совсем мало, жокей молод и никому не известен… Честно говоря, для нас это плохо, ставки разбалансированы… К тому же явный аутсайдер – Казус… Правда, я догадывался, что где-то крупно ставят на Перль… Так и оказалось, перед самой скачкой началось сумасшествие, только и слышно – Перль, Перль… И надо сказать, крупные. Сейчас Перль идет один к двадцати…
– А остальные? – Крейсс шевельнул бровями. – Господин пресвитер, решайтесь…
– Парис и Казус в полном забвении… как будто их не существует… Иногда подыгрывают Париса… Это и понятно… На моем этаже вообще не было ни одной ставки… Правда, сейчас уже не знаю, конъюнктура могла измениться.
– Сто долларов на Перль, – Крейсс улыбнулся.
Лошади внизу по-прежнему ходили по кругу с задней стороны боксов. Ипподром затих, Амалия во всем красном сидела на Перли, чуть свесившись набок… Мулонга в белом костюме на Парисе, черный Зульфикар на Радже, оранжевый Заният на Казусе.
– Господин пресвитер? – Крейсс спрятал бумажник. – Назовите свой номер.
– Право, не знаю… – пресвитер закрыл глаза. Улыбнулся. – Ну, если уж… Брат Айзек, дайте сто долларов… Дайте, дайте. Если я выиграю, они пойдут в кассу общины… Дайте им.
Молодой человек в черном сюртуке встал, закрыл глаза, прошептал молитву. Протянул посреднику стодолларовую бумажку.
– На кого? – посредник расправил блокнот, чуть приподнимая ручку. – Первый? Четвертый? Перль? Раджа? Может быть, все-таки первый? Советую… Он очень хорош.
– Вот на этот… желтый… – пресвитер шевельнул пальцами. – Это какой номер, третий, кажется?
– Отец Джекоб, отец Джекоб, – Крейсс кашлянул. – Вы будете огорчены, право… Вы новичок, и получится…
– Нет, нет, – пресвитер поднял руку. – Мне именно третий, да, да, третий, этот желтый, с беловатыми ногами… Будьте любезны… Да, его…
– Третий номер, Казус, – посредник ловко разложил перетянутые черными резинками пачки билетов перед пресвитером. – Скачка начинается. Больше никто не желает?
– Я не имею права, – Кронго закрыл глаза – на секунду.
Ему показалось странным, что пресвитер так твердо и определенно поставил на Казуса. Ведь то, что Казус – наиболее вероятный победитель, не знал никто, это могло быть понятно только ему, Кронго. Откуда же эта уверенность? Божественное предвидение, вдруг мелькнула мысль. Кронго повторил про себя именно эти слова – божественное предвидение. Он вспомнил приходской католический интернат, белокурую настоятельницу…
– Пошел! – крикнул голос в громкоговорителе. – Отрывайтесь! Отрывайтесь!
Одиноко ударил гонг. Бешено замелькали копыта, вылетев из распахнувшихся боксов. Над трибунами взорвался вздох. Перль вышла вперед. Амалия сидела неправильно, спина ее была слишком выгнута, а ноги слишком выпрямлены. Но тем не менее Перль опередила метров на двадцать остальную тройку. Вороная кобыла яростно работала такими же тонкими, как у Пейрака, ногами, рубашка Амалии вздулась. Кронго видел, как бело-черно-оранжевая тройка, Мулонга, Зульфикар и Заният, отчаянно подают лошадей, но просвет не сокращается. Кронго думал одновременно о том, что показал Пьеру на Казуса, и о том, что каждое слово пресвитера успокаивает и ободряет его. Это происходит само собой, не от смысла слов, а от того, как они сказаны. От тембра, интонации, шевеления синих волдырей у линии губ. Шум над ипподромом стал сильней. При подходе к повороту Раджа немного опередил идущих вплотную друг к другу Казуса и Париса и стал приближаться к Перли. Кронго успокаивал себя, убеждая, что, конечно, Перль не выдержит всю дистанцию. И опять, мешая следить за скачкой, мысль возвращалась к пресвитеру. Брат Айзек судорожно мнет руки. Он наблюдает за скачкой. Странно – Перль по-прежнему впереди. Она выходит на противоположную прямую. Амалия все так же сидит неправильно. Несмотря на это, вороная кобыла пока не дает сократить разрыв. Что-то неприятно кольнуло, шевельнулось внутри, удивило… Перль может прийти первой. Перль? А почему его это огорчает? Дело не в Пьере. Он, Кронго, совсем не обязан каждый раз точно знать победителя. Он показал Альпака – и достаточно. Он, потерявший все, потерявший уверенность, сейчас вдруг обрел ее. А может быть, именно Перль должна прийти первой… Конечно, должна. И он должен желать ей победы. Это будет указанием, что Крейсс прав. Та мелкая деталь в его жизни, которая появляется каждый раз, подтверждая истину. Он, Кронго, что бы там ни было, чувствует симпатию, которая исходит от Крейсса. Эту симпатию он почувствовал, когда на него были направлены автоматы из зеленого «лендровера». Пусть ему кажется, что Крейсс лицемерит. Каждое движение и слово Крейсса кажутся рассчитанными. И все-таки рядом с ним Кронго легко. Легко, ужаснулся сам про себя Кронго. А баржа? Но Крейсс может и не знать о барже… А есть ли баржа вообще? Крейсс белый. Именно белый – а значит, он должен чувствовать то, о чем говорил пресвитер. Над ипподромом стоит рев. Большинство ставили на Раджу. Парис и Казус рванулись на противоположной прямой. Они сейчас обходят Раджу и вплотную приближаются к Перли. Амалии нельзя оборачиваться, подумал Кронго. Только он это подумал, Амалия на полном скаку обернулась. Но это не помешало Перли прибавить и почти восстановить разрыв. Ноги Перли по-прежнему работают так же неутомимо. Кронго заметил, что у Казуса, идущего за Перлью неотрывно, как по ниточке, ход ровный, и Заният еще не прибавлял. Если бы на Казусе скакал я, подумал Кронго, я бы поднял плетку. Перль выскочила из-за последнего поворота и стремительно рванулась к финишу. Амалия лежит у нее на шее, вцепившись в поводья. Кронго увидел, как Заният поднял плетку, ловко, одним касанием ожег ею бок Казуса. Мощные ноги жеребца заходили вразброс, закидывая его с поля и приближая к Перли. Больше всего Кронго поражает в этот момент брат Айзек. Он видит его краем глаза, не отрывая взгляда от скачки. Круглые желтовато-пушистые щеки брата Айзека покрылись мелкими красными пятнами. Он вцепился в стол. Вот сейчас лошади проскочат финиш. Память Кронго замедляет, по частям восстанавливает, как передние ноги Перли выходили из-за поворота. Она шла впереди Казуса метров на пятнадцать. Заният поднимает плетку, бросая вперед жеребца. Вот почему так оглушительно ревет ипподром. Казуса вообще не считал никто. Странно, как он, Кронго, мог даже на секунду не поверить. Перль идет сейчас на полкорпуса впереди, до финиша ей остается всего около пяти скачков. Она сейчас сделает эти мощные и сильные скачки. Но скачки Казуса совсем другие. Это прыжки страшного напряжения сил. Такие скачки животное делает в ярости под плеткой наездника, в минуту смертельной опасности. В первые же два прыжка под плеткой Занията Казус настигает Перль, их головы одну секунду плывут вровень. Брат Айзек странно, будто зевая, открывает рот. Еще три прыжка – и Казус сначала на голову, потом на шею и, наконец, на полкорпуса впереди. Он проскакивает финишный створ, втягивая за собою взмыленную Перль.
Пока медленно стихал, расплываясь кругами, гул трибун, пока нехотя пересекали финиш далеко отставшие Раджа и Парис, Кронго успел подумать – неужели это и есть само собой? Пресвитер встал, брат Айзек, смиренно глядя под ноги, подает ему руку. Красные пятна сошли. Ипподром тихо и монотонно гудит. Помигав, на демонстрационном табло зажглись цифры – один к девяноста. Все правильно – Казуса почти никто не играл. Вспыхнувшие цифры вызвали короткое и яростное усиление гула – каждый поставивший доллар получит девяносто.








