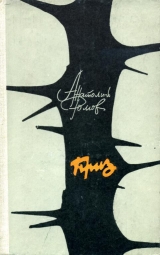
Текст книги "Приз"
Автор книги: Анатолий Ромов
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
– Ксата… – Кронго сел рядом. Она повернулась к нему – и он увидел в ее глазах злость, почти ненависть. И одновременно – горечь.
– Ну, Ксата. Н-ну…
– Молчи.
Это, вот эти ее слова, – любовь. Значит, она должна уехать с ним. Не когда-нибудь – а именно в этот раз. Сейчас. Он должен сейчас же настоять на этом.
– Что с тобой? Ксата?
– Ничего, Маврик. Молчи.
– Ксата… давай уедем.
Но тут же растворение, невесомость, небытие пропали. Ему показалось – сейчас этот разговор сделает их чужими. В нем вдруг возник испуг – испуг, что она сейчас станет чужой. Чужой – из-за этих слов. Он должен замолчать…
– Ты… не представляешь… Я… не мог… без тебя.
Она протянула руку, дотронулась до его щеки. Ее пальцы легко скользнули к его губам. Подбородку. Он застыл, замер под движениями этих пальцев – но ее рука отстранилась, снова легла на песок. Он чувствует, как сейчас она смотрит вверх, не мигая. Ее широко открытые глаза снова ушли от него, ускользнули.
– Давай уедем, Ксата.
– Давай.
Именно в этом ответе – насмешка. Добрая, не злая, но насмешка над ним, над его желанием всегда быть с ней. Насмешка – в этих ускользающих глазах.
– Ксата… Я… серьезно. Я… больше не могу без тебя.
– А ты думаешь – я могу?
Она повернулась к нему, вцепилась в рубашку.
– Как ты можешь только думать, что я могу? Как ты можешь только думать?
Она с бессилием, с ненавистью – к чему-то, не к нему – вдруг отодвинулась, оттолкнулась.
– Ну вот. А теперь запомни – мы с тобой взрослые. Мы же – взрослые. Слышишь, Маврик?
Тишина. Тишина знакомых звуков.
– Мы с тобой будем встречаться. Но – здесь. На берегу, в этом месте. Только здесь и нигде больше. Пусть это… мучительно… Но я не могу… уехать из деревни. Не могу. Пойми, Маврик… Пока – не могу. И я… Я… Ты понимаешь – я иду на то, чтобы мы встречались здесь. Тогда, когда ты будешь приезжать. Только в эти дни. Ты слышишь? Я иду на это – а не ты. Я согласна… на это.
Он молчал, прислушиваясь к привычному шуму вокруг – камышей, воды, птиц. Она сказала это со злостью. Но в то же время – с нежностью, с болью.
– Но – почему?
Сейчас он знает, почему. Если бы только он знал об этом тогда. Если бы только знал. Но он тогда думал – это смешно. Это все игра. Ксата все выдумывает. Ничего этого нет.
– Я… нужна деревне.
Она нужна деревне… Почему? Что за глупость? Зачем она может быть нужна деревне? Что, деревня без нее – пропадет?
– Ты… никому не должна быть нужна. Никому, кроме меня.
– Нужна. Пока – нужна. Понимаешь, Маврик? Нужна. Ну, миленький. Поверь.
Какой большой смысл стоял тогда за этими ее словами. Но он не понимал его. Не понимал. Тогда он ей ничего не ответил. В этих ее словах было для него что-то другое. Он действительно не понимал, почему же она может быть нужна деревне. Но какой-то особый, сокровенный их смысл все-таки стал тогда понятен ему. Сейчас он понятен ему до конца. Если бы только он догадался обо всем раньше. Если бы только он все понял. Все, что понимает сейчас.
– Ну вот. А… потом… Потом я уеду с тобой.
Она прижалась к нему – и он ощутил тепло ее дыхания.
– Уеду – я обещаю тебе. Слышишь, Маврик? Обещаю. Но… пока… я не могу. Мы будем встречаться здесь. Пока. Здесь, украдкой. Как… Как… преступники. Хочешь ты этого… или нет…
Он повернулся – и увидел ее глаза. Да, в этих глазах было сейчас небытие, невесомость, ничто. Растворение.
– Я люблю тебя, Маврик.
Небытие. Невесомость. Растворение. Какой бесконечный смысл был тогда в ее глазах. В каждом ее слове. Бесконечный. Но он не понимал тогда этого смысла. Не понимал. Он просто любил ее.
– Я люблю тебя, Ксата. Слышишь… А остальное – неважно.
– Мы будем с тобой преступниками, Маврик.
«Да. Мы. Будем. С тобой. Преступниками. Я согласен. Остальное ведь неважно, Ксата… Ты понимаешь?» Каким же он был тогда глупцом. Каким глупцом. Он ничего не понял. Ничего не понял – в Ксате.
Крик раздался утром – когда Кронго проверял денники.
– Морис! Морис, сюда!
Кричал Диомель, и, так как крик раздался снаружи, Кронго понял: что-то случилось там, у входа в конюшню. Стояла страшная жара, и первой его мыслью была досада. Досада на то, что нужно выходить, – Кронго не хотелось выходить из прохлады и полутьмы конюшни туда, под солнце и жару, в пекло. Но Диомель продолжал кричать, и Кронго вдруг почувствовал в этом крике что-то большее, чем растерянность.
– Морис! Морис, сюда! Морис, где ты? Скорей сюда! Морис!
Кронго почувствовал в этом крике даже что-то большее, чем испуг. Он выскочил из дверей и увидел отца. Отец лежал в странной позе: подвернув руку, закостенело вытянув ноги, – они были сейчас вытянуты и прямы, как палки. Первая мысль, которая возникла, была нелепой: почему отец, ненавидевший жару, лег здесь, на самом солнцепеке? Глаза отца были стеклянными, пустыми, но губы непрерывно шевелились, так, будто он пытался что-то сказать. С отцом что-то произошло, ему плохо – но возникшая мысль была другой, совсем не об этом. «Нужно унести его отсюда», – подумал Кронго. Отец что-то говорил, и Кронго нагнулся, пытаясь понять, что же означает это движение губ, что хочет сказать отец. Странно – Диомель почему-то не дал ему нагнуться, закричал в лицо:
– Поздно! Поздно, Морис!
Только тут Кронго увидел пену, которая выходила у отца изо рта.
– Морковка! Ты что, не видишь, Морис, – морковка?
Вместе с пеной, оседая на губах, изо рта отца плыли, выходили вместе с пузырями мелкие оранжевые крошки. Тут же Кронго заметил – глаза отца вдруг приобрели осмысленное выражение. Они вдруг стали совершенно ясными, и Кронго понял: раньше, до этого, движение этих губ было неосознанным, теперь же отец хочет ему что-то сказать. Что-то очень важное. Кронго пригнулся, с отвращением ощущая резкий запах рвоты.
– Да, па… Что с тобой?
– Ф-фис… Я только… хотел… Т-только… хотел… Взять… в-взять… Т-только… хотел…
В глазах отца снова что-то произошло. Они застыли, опять стали пустыми, стеклянными. В них снова, ничего не было. Диомель присел, жарко зашептал:
– Смотри – морковка… Морис, ты понимаешь? Смотри – да вот. Морковка у него в руке… Он должен был дать ее Гугенотке… Слышишь? Гугенотке… А съел сам…
Кронго увидел в руке отца – удивительно, эта рука отца казалась сейчас одновременно и расслабленной, и закостеневшей – огрызок морковки.
– Морис, ты понимаешь? Ты понимаешь, что они с ним сделали? Понимаешь?
Голова отца дернулась, закинулась. Вдруг Кронго понял – он умирает. Умирает…
– Папа! Па!!!
Кронго попробовал придержать отца за затылок – и ощутил легкое движение.
– Быстрей!.. – закричал он. – Вызови «скорую»!.. Диомель… Беги скорей… Скорей же, ты слышишь? Вызови по телефону… Из жокейской…
– Сейчас… Сейчас, Морис… – Диомель побежал к телефону.
Кронго огляделся – все вокруг было пусто. Стены конюшен. Дворики для прогулок. Никого не интересует, что происходит сейчас с отцом. Никого. Они одни. Вот это ощущение пустоты, ощущение, что никого нет. Вокруг только солнце и пустота. Они одни. Они никому не нужны. Никому не нужны эти закостеневшие ноги отца, вытянутые перед дверью. Ипподром под лучами солнца показался бы ему сейчас вымершим – если бы он не разглядел вдали, за оградой тренировочного круга, мерно двигавшиеся головы раскатывающихся лошадей. С телом отца сейчас что-то происходит: оно непрерывно, через равные промежутки, напрягается – и потом, выдержав напряжение, расслабляется, становится пустым, легким. Вот застыло – и одновременно с этим в глазах отца появилась тень смысла.
– Да, па?
Отец попытался приподнять голову. Да, он опять хочет что-то сказать.
– Папа… Потерпи… Потерпи, я тебя прошу… Сейчас приедет врач…
– Морис… – губы отца еле двигались. Движение губ было совсем слабым, и было непонятно, как же они могут сейчас выговорить хоть что-то. Слюна продолжала выходить изо рта – и тут же подсыхала.
– Морис… Я… Только… хотел… Запомни… Я только хотел… взять…
Отец попытался договорить эту фразу. О чем он хочет сейчас сказать? О морковке? Глаза отца закрылись, тело снова вытянулось, замерло. Подошел Диомель, Присел на корточки.
– Я… вызвал, Морис. Они сейчас будут.
Кронго услышал странный звук и понял, что Диомель плачет.
– С-сволочи… – Диомель беззвучно всхлипывал, слизывая с губ слезы. – С-сволочи, мерзавцы… Им было мало, что они отобрали Приз… Им… б-было… этого мало…
В воздухе возникло какое-то напряжение, неловкость – и вдруг Кронго понял, что они не одни. Он оглянулся – вокруг них молча стояли несколько конюхов и наездников из других конюшен. Отец дернулся, и Кронго тут же нагнулся – но теперь уже в этом движении отца не было требования выслушать его. В нем было что-то беспомощное, слабое.
– Маврик… – отец улыбнулся. – Маврик…
– Да, па?
Кронго почувствовал горечь, бесконечную горечь. Он вдруг понял – отец умирает. Папа, папка, па, Принц, Принц Дюбуа умирает… Он почувствовал, как судорога рождается в горле, влажная пелена заволакивает глаза… До крови закусил губу.
– Я… т-только… – отец замолчал.
– Тебе больно?
Зачем он спросил это?
– Да… – слабо сказал отец.
Он вдруг понял – ему почему-то нужно было, необходимо было спросить, больно сейчас отцу или нет. Отцу больно… Больно…
– Па, потерпи.
Почему ему так важно знать – больно отцу или нет… Людей вокруг становится все больше. Кронго видел, ощущал, как люди подходят сюда, к их конюшне. Никто из них не говорил ни слова. Подходящие просто останавливались, просто стояли и смотрели. Теперь их с отцом окружает молчаливая неподвижная толпа. Может быть – весь ипподром… Что же означает эта толпа… Это молчание… Изредка о чем-то спрашивают сзади – и замолкают, услышав ответ.
Да, это означает поддержку. Но эта поддержка не нужна. Она лишняя. Лишняя… Подъехала «скорая». Люди расступились, пропуская носилки. Кронго пошел вслед за носилками к фургону.
Потом он сидел в машине, разглядывая спину сестры. Рядом с ним качались ноги отца, укрытые простыней. Кислородная маска. Стимулятор. Две белые спины перед ним – они отделяют его от носилок, но это уже неважно. Что же означает фраза отца? Я только хотел взять… Он хотел взять. Что – взять? Что отец хотел взять? Сейчас внутри – пустота. Кронго понял – ему безразлично все. Отца уже нет. Все, что осталось от отца, – часть ног, укрытая простыней.
Потом – белый коридор. Белые двери. Лицо матери… Растерянное, ничего не понимающее… Бедная мама…
– Как… он?
– Состояние больного… ниже удовлетворительного.
Что это значит – «ниже удовлетворительного». Ниже – удовлетворительного. Бессмысленный набор слов. Нелепый смысл. Совершенно нелепый. Ниже удовлетворительного… Но, наверное, такой набор слов лучше всего подходит, когда говорят о смерти. Что же он хотел взять. Что…
– Вы – родственники Дюбуа?
Ясно – отец умер. Отец – умер. Совершенно ясно. Так говорят всегда, когда человек умирает. Вы – родственники – Дюбуа. Он вдруг понял – что-то кончилось, прекратилось. В его жизни – что-то кончилось. В жизни Маврикия Кронго, Мориса Дюбуа что-то кончилось. Как это ясно…
– Он… умер?
В любой бессмысленности, нелепости наверняка есть какой-то тайный смысл. Есть – наверняка…
– Да, он… скончался.
Кронго пытался разглядеть крайнюю ложу центральной трибуны. Там должен стоять Пьер, но Кронго не мог различить его среди людей, двигающихся в ложе, лица виделись смутно, только рубахи.
– Третий заезд… – громко объявил репродуктор. – Начинается третий заезд… Лошади третьего заезда, на старт…
К паддку от трибун подошли два европейца в белых гимнастерках, один из них, высокий, улыбнулся.
– Все в порядке, мсье, не волнуйтесь, – высокий осторожно потрогал бок под рубашкой. – Все в порядке, мсье Кронго, не беспокойтесь…
Оттого, что Пьера не было, Кронго должен был чувствовать облегчение. Но облегчения нет. Ведь это означало, что все, что он решил про себя, пропало впустую. Поэтому вид безликих рубашек в ложе был неприятен, вызывал досаду. Трибуны были расположены с одной стороны двухкилометрового овала скаковой дорожки, край их начинался от последнего поворота к финишу. Длинный трехъярусный прямоугольник с далеко выступающим бетонным козырьком был разделен пополам застекленной вертикальной ложей. Там помещалась администрация, комментаторы и судьи. У края металлической изгороди толпились любопытные, наблюдавшие за проводкой готовившихся к скачке лошадей. Сейчас, в перерыве, трибуны неровно и редко закрывало белое, красное и черное. Кронго знал, что если сидеть на лошади и медленно выезжать из паддка к старту (неровный стук сердца, судьи, следящие за правильным положением стартовых боксов, медленный путь под музыку по бровке, вздрагивающая холка у колен) – то белые и красные рубахи, черные брюки, белые и черные лица становятся неотличимы, кажутся странным вздутием, неподвижно-покрывшим трибуны. Изредка по краям и в провалах этого вздутия возникают мелкие пузыри, легкие потоки. Перед заездом вздутие всегда застывшее, неподвижное – огромное безликое лицо, смотрящее на тебя из-под высокого козырька… Сейчас это лицо было рябым, с черными провалами.. Петля из вожжей, распускающаяся и свивающаяся перед его лицом, – ее не было, ее никто не видел, он должен забыть о ней, не вспоминать. Он просто будет поступать так, как надо, как требует жизнь. Для этого он должен найти правду, ради которой он жил, – не ту правду, которой он всегда отговаривался сам перед собой, не ту, которую слышал в тысячах слов, в стертых привычных строчках газет, в книгах, в людях вокруг. Красота линий, так, кажется, думал Кронго, разглядывая двух европейцев в белых рубашках, остановившихся у паддка. Да, и еще – безупречность форм, стремительность бега… Да, именно эти слова… При чем тут стремительность бега? Есть падающая и бьющая с размаха в живот, в горло, в лицо дорожка, но эта бьющая и падающая дорожка тоже еще ничего… В сущности, ведь его профессия не только в том, чтобы гордое, сказочной красоты животное с рождения превращать в раба, в гоночный механизм, в тупую машину… Лошади с характером, входящие в силу к зрелости, часто становятся негодными для ипподрома. Но именно они могут показать наибольшую резвость… Проклятье. Это – извечное противоречие, которое ему так и не удается разрешить. Ведь часто те, чей характер ему удается сломать, которых удается обработать, – эта сломанные и есть «победители». Победители, способные только к одному – к послушной, сильной и ровной рыси, к оглушительной бессмысленной скачке под рев трибун. Это и есть правда. Но ведь правда и то, что только такая лошадь дает ему возможность ощутить счастье борьбы, счастье Приза… Приза, пока еще не взятого им… Значит, это – жертва, которую он сам заставляет приносить для себя природу. Значит, нужна и ответная жертва…
Следователь раскрыл папку и сделал вид, что листает бумаги.
– Вы понимаете, что я хочу вас спрашивать непредвзято. Обстоятельства дела как будто ясны… Это отравление… И в то же время эти обстоятельства могут быть истолкованы по-другому. Я хотел бы найти у вас помощь. Вы понимаете?
Должен ли он, Кронго, что-то говорить следователю? Должен ли что-то объяснять ему сейчас – или это бессмысленно? Да, верней всего – бессмысленно. То, что происходит на ипподроме, то, что делает Генерал, – известно всем. Наверняка это известно и человеку, который сидит сейчас в жокейской и смотрит на него – смотрит с участием, с искренним участием, Кронго видит это.
– Понимаете – мы обязаны выяснить истину. Дело получило огласку, о нем пишут. Прежде всего – я хочу выяснить, для кого была предназначена отравленная морковь. Для человека? Или – для лошади? Помогите мне.
Лицо следователя, его движения, его голос совершенно искренни. Может быть, это так и есть, и следователь действительно хочет найти. Что же найти… Истину… Того, кто подложил морковь. Может быть даже – следователь не куплен Генералом. В лучшем случае – следователь нейтрален. Но все равно – это бессмысленно. Бессмысленно, потому что отца нет.
– Мы выяснили, что у вашего отца была привычка давать лошадям очищенную морковь.
Потом – это бессмысленно, потому что, даже если бы Кронго и хотел, он ничего не смог бы объяснить следователю.
– Хорошо, – следователь смотрел на него все так же – с искренним участием. – Теперь – много ли людей на ипподроме могли знать об этой привычке?
Много ли людей могли знать об этом… Да об этом мог знать каждый. Каждый – кто этого бы захотел. Важней другое – хотели ли они отравить отца. Или только – лошадь. Ведь никто из них не знал… Никто не мог знать, захочет ли отец съесть именно эту морковь. И потом – это было бы слишком. Вряд ли Генерал решился бы убить отца – только за то, что отец решил затемнить Гугенотку.
– Что же – здравый смысл подсказывает нам, что кто-то хотел отравить одну из ваших лошадей? Тогда – мы должны выяснить: чем это было вызвано? Помогите же мне, мсье Дюбуа. Видимо, тем, что кто-то хотел устранить возможного конкурента? Ведь так? По крайней мере, здравый смысл говорит нам, что это должно быть так?
Нет, они не хотели отравить отца. Они хотели отравить только лошадь. В назидание. Для порядка. Это было – «по-божески». Да – в назидание… Что же он должен сказать следователю? Что это была месть? Рассказать о том, что происходит на ипподроме? О Зиго? О двадцати тысячах долларов? О том, что произошло во время заезда? Зиго… Двадцать тысяч долларов… Они даже сами не знают, что эти деньги присылал Тасма. Потом – сейчас уже поздно говорить о мести. После розыгрыша Приза прошло несколько месяцев. Да, Кронго понимает, ясно понимает, что это была месть. Если говорить на языке ипподрома – Тасма поступил по-божески. Он должен был отомстить – для порядка. Но можно ли объяснить – за что он хотел отомстить? За то, что отец мешал ему, когда он хотел взять Приз?
– Отравление произошло как раз накануне розыгрыша Кубка Элиты. Кажется, он уже разыгран? Неделю назад? Видите – это нас уже на что-то наводит. Давайте посмотрим, кто был заявлен на Кубок Элиты. Кто именно. Кому это было выгодно. Так ведь?
При чем здесь Кубок Элиты? Розыгрыш Кубка Элиты совпал с отравлением случайно. Да, конечно, они не хотели отравить отца. Но что ему от этого – сейчас? Ему – Принцу?
– Вот, у меня есть список. Взгляните, мсье Дюбуа… Курбюйон. Эваль. Буссек. Вы… Будем откровенны. Вы… кого из них вы подозреваете? Поставим вопрос корректней. Кто из них мог видеть в одной из ваших лошадей конкурента? Помогите же мне.
Морковку должна была съесть Гугенотка. Или – еще кто-то из лошадей. Но ведь это совсем неважно. Неважно. Не-важ-но. И – никакое следствие не поймет этого. Морковку съел отец – вот и все. Отец. Он иногда грыз морковь. Но делал это очень редко. Поэтому никто не мог знать, когда именно отец это сделает.
– Мсье Кронго…
Двое в белых рубашках, стоящие у ограды паддка, выпрямились. Лефевр. Кронго узнал его бакенбарды и крахмальный воротник. Нос грушей вверх.
– Надо идти, мсье Кронго, – приблизившись, Лефевр улыбнулся, одновременно разглядывая толпу, стоящую у перил.
Кронго заметил двух негров в светлых костюмах – тех, которые дежурили у его кабинета. Как же их зовут… Кажется – Амаду и Гоарт.
– Но… я еще не подготовил заезды… Надо проследить…
– Пойдемте, пойдемте, мсье… – Лефевр еще шире улыбнулся. – Нас ждут.
Проходя через трибуны, Лефевр держал одну руку в кармане пиджака. Кронго не мог дать объяснения этому. Шум трибун угнетал его. Кронго не мог сказать, что не любит трибуны, просто ему давно уже не было надобности там бывать. Сейчас трибуны, их воздух, их шум, их волнение окружили его. Лица вокруг – ясные, нервные, тупые, безразличные. Толкучка у касс тотализатора, короткие выкрики:
– Семь пять… Предлагаю семь пять… Один три экспресс… Кто хочет зарядить… Кто хочет один три экспресс… Верный вариант семь пять…
Кронго хорошо знал игру, ее тонкости и термины, «замазку», «подыгрыш», «перехлест», «зарядку»… Но привык с суеверной опаской отмахиваться от этих слов. Конечно, он с детства знал, что многие другие жокеи и наездники боялись, что, занявшись игрой, перестанут чувствовать лошадь. Перед самым входом в стеклянную ложу Кронго на секунду легко оттерли от Лефевра. Пьер, подумал Кронго, ощущая прикосновение бумаги, вложенной кем-то в его ладонь. Испугавшись этого прикосновения и всего, что может быть с ним связано, рука Кронго сама собой сжалась, притиснулась к карману. Еще через секунду Кронго встретил знакомые глаза, узнал креола из охраны, Поля. Рядом с Кронго никого уже не было, люди отхлынули к кассе. Кронго держал руку в кармане. Выждав паузу, вынул, оставив бумагу. По взгляду Поля увидел, что тот этого не заметил.
Он должен признаться себе – именно смерть отца все изменила в его жизни.
Он стал известен. Да, именно так. Известен – сразу после смерти отца. Он никак не мог привыкнуть к этому. Не мог привыкнуть к заголовкам на первых страницах газет. К письмам с вложенными фотографиями. К телефонным звонкам. К просьбам об интервью. Не мог привыкнуть – но уже понял, что стал известен. Он стал тем, что обозначается словом «знаменитость». Он, Кронго, Кро, он, Дюбуа-младший, действительно стал знаменит – гораздо больше, чем отец. Сразу после смерти отца о нем стали писать и спорить – и неизмеримо больше, чем о самом Принце. Он видел это. Он, Кронго, Кро, стал уже не просто т а л а н т л и в ы м н а е з д н и к о м, не просто «М. Дюбуа», в лучшем случае – «Дюбуа-2», не просто «ст. тр. конюшни». Он понял – он стал п р е е м н и к о м. Именно – преемником. Он уже привык к тому, что о нем писали – «П р и н ц Дюбуа-младший». П р и н ц – вот в чем было дело. Да, он стал преемником – воистину. Теперь он понимает, что это значило – стать преемником не только в газетных отчетах. Что значило стать с е р ь е з н ы м н а е з д н и к о м, наездником, о котором пишут, заездов которого ждут, тактику которого разбирают. Он стал всем этим. Но ведь он знал – это было несправедливо. До смерти отца он был таким же. Он не вырос, не прибавил в классе. Он ездил так же, как и раньше. Специалисты знали это. И тем не менее именно теперь на его заезды, на его технику, на его лошадей стали обращать внимание. Он сразу же стал одним из фаворитов. Его выступлений стали ждать, одно его участие в бегах уже становилась событием. О лошадях, подготовленных им, теперь постоянно говорили и писали в отчетах. Он стал вторым по известности наездником – после Генерала. Лошади из конюшни мсье Линемана сразу поднялись в цене.
Что же было еще… Он стал тем, что называется «богатый». Он впервые понял, что это значит – быть богатым. Что значит соглашаться или отказываться от крупных сумм. Он понял, что это значит – брать или не брать несколько тысяч только за выступление на радио. Только за упоминание имени. Только за присутствие в рекламе. Если бы он захотел – он мог стать совладельцем конюшни. Именно с того времени, со времени своей известности, и до сегодняшнего дня – он уже не испытывал недостатка в деньгах и мог бы получить их столько, сколько захотел.
Он понял, испытал, ощутил известность, принял ее. Но и в первые дни этой известности, и потом – она не радовала его. Он понимал, что все это произошло только из-за одного – из-за смерти отца. В нем жило безразличие. Пустота.
Единственное, чего он хотел и к чему стремился, – видеть Ксату. Только видеть Ксату, приезжать к ней – хотя бы раз в неделю. Только в этом он находил отраду, цель жизни, отдых, спокойствие. Теперь он мог делать это часто. Так часто, как хотел, – денег у него было достаточно.
Да, в нем тогда жило безразличие ко всему, кроме Ксаты. Прежде всего – к работе. Но все-таки – что-то же вывело его из этого безразличия? Да. Его вывел из безразличия случай. Именно тот случай, когда он впервые согласился б о р о т ь с я. Когда он впервые согласился участвовать в одном заезде вместе с Генералом – в розыгрыше Кубка «Бордо – Лион». В одном заезде, откровенно против Тасмы. Да, именно тогда он впервые захотел победить, захотел выступить, бросив вызов Генералу.
Он согласился участвовать только из-за одного слова. Слова, брошенного невзначай, которое он случайно услышал. Слова, сказанного мельком, которое он услышал краем уха, сидя в пустом холле, – а мог и не услышать.
Он согласился тогда выступить – не из-за денег, хотя баллы за Кубок «Бордо – Лион» были самыми высокими после баллов на Приз. И не из-за возможности заработать на ставках. Даже не из-за желания мстить. Деньги, слава, известность, месть – все это было тогда ни при чем. После смерти отца, после того, что случилось, он не хотел выступать против Генерала. Не хотел ни в коем случае. Он не хотел бороться с Тасма – но совсем не потому, что боялся. Он – не боялся. После смерти отца в нем уже не было страха. Наоборот – тогда, после всего, что случилось, он понимал, что теперь уже Генерал должен бояться его. Эта боязнь была, он чувствовал это, он, Кронго, знал об этой боязни. Знал, что теперь, после смерти Принца, Генерал не решится сделать с ним хоть что-то. С ним или с его лошадьми.
Но даже если бы Кронго знал, что Генерал на что-то решится, – и в этом случае в нем уже не было бы страха. Он, Кронго, победил тогда унижение страхом – навсегда. Да, именно – он победил не только страх, он навсегда победил унижение ожидания… Ожидания… Он, Кронго, уже не боялся именно этого – ожидания страха.
Но было ли тогда в нем самом желание мести? Была ли в нем тогда ненависть? Нет. Ни ненависти, ни жажды мщения – ничего этого в нем тогда не было. Он не хотел мстить Генералу. В нем тогда жило только одно – безразличие.
Только безразличие – ко всему. Безразличие к работе, к заездам, скачкам, тренингу – хотя он работал с лошадьми так же, как работал всегда. Но, работая, он был безразличен. Ко всему – в том числе и к Генералу.
Когда же с ним говорили о Тасме, о том, что он, Принц-младший, должен бросить вызов «великому», должен выступить, и прежде всего выступить в розыгрыше Приза, – это его не интересовало. Когда ему говорили о том, что любое его выступление в одном заезде с Тасмой станет событием, что пресса раздует схватку, что заезд станет бомбой, – когда ему говорили обо всем этом, в нем возникало отвращение.
Но в конце концов и это отвращение сменялось безразличием.
Да, ему было противно думать обо всем этом. Он не мог позволить себе мстить Генералу. Не мог позволить себе мстить победой в заезде – за смерть отца. Не могло быть мести за это, нет… Он не мог отомстить за стеклянные глаза отца, за слабо шевелящиеся губы, за оранжевые крошки в лопающейся слюне, за ноги, укрытые простыней.
Он решил выступить только из-за одного слова. Из-за слова… Слово стало поводом, не для мести, а просто – для того, чтобы он согласился участвовать в заезде.
Он помнит, как это было. Он сидел в пустом холле, в здании дирекции, его привела туда какая-то незначительная причина, кажется – он должен был уточнить в тот день списки лошадей для повышения элитной категории. В конце концов, было неважно, зачем он туда пришел, было важно другое – то, что он сидел один в пустом холле, загороженный креслом и бонбоньеркой, лицом кокну, за которым был виден тренировочный круг и часть города. Он ждал мсье Линемана, но забыл об этом и сидел скрыто. Впрочем – это было вполне естественно. Здесь было пусто и тихо, и он сидел, забывшись, без всякого интереса наблюдая за привычной жизнью впереди, за окном, на круге, за неторопливо двигавшимися по дорожке фигурками лошадей, – когда услышал, как кто-то прошел в кабинет дирекции. Снова стало тихо, потом кто-то вышел, наверняка это были те же – и по голосам он понял, что это Тасма и Руан. Они остановились недалеко от него, разговаривая об обычных классификационных заездах, которые должны были состояться завтра, – и сначала это никак не подействовало на него. Он с привычным безразличием слышал их слова, почти не вникая в смысл. Он понимал, что они не видят его, но ему было все равно, что скажут у него за спиной Генерал и Руан, заметят они его или нет. Даже слово, то, которое все изменило, слово, услышанное им, сначала не произвело на него никакого впечатления. Он просто не понял, что это слово относится к нему, – пока не вник в смысл сказанного.
Генерал и Руан говорили о заездах, и Генерал спросил:
– А кто поедет по третьей? Негритос?
– Да, – сказал Руан.
Они обменялись еще несколькими словами – и ушли. Кронго продолжал сидеть – и вдруг вспомнил, что на завтра он записан в четырех заездах. И во всех – на третьей дорожке. «Кто поедет по третьей?..» По третьей поедет… Значит – эта фраза относилась к нему? Кто поедет по третьей… Он. Он, Кронго.
Он по-прежнему следил за фигурками лошадей. Да, он вспомнил – они говорили о пятом заезде. Это он. Он – Морис Дюбуа. Маврикий Кронго. Значит – Генерал и холуи всегда зовут его только так. Кто поедет по третьей… Как – кто… Ясно – кто. Этот ответ был для них привычен, он был сказан безразличным тоном, спокойно, совсем без желания кого-то обидеть. Это слово было для них обычно. «Кто поедет по третьей?» – «Да». Они понимали без всяких слов, без объяснений, что значит это обозначение. Он – для всех, для всего клана Генерала, для двадцати конюшен – давно и навсегда был именно этим.
Почему же это так подействовало на него?.. Ведь он знал об этом. Почему же это слово так подействовало на него – тогда? Именно тогда? Сказанное случайно, мельком?
Все дело было в тоне, которым оно было сказано. Они не знали, что он их слышит. Именно поэтому все дело было в тоне. Тон выдал ему значение этого слова. Для обозначения его личности у Генерала и холуев было одно только это слово – привычное, спокойное, добротное. Он был – нечто, сказанное этим тоном. Значит – оно говорилось ежедневно. Говорилось мельком, мимоходом. Кто поедет по третьей… Ну-ка, я забыл, напомни мне, кто… Да. По третьей поедет…
По третьей поедет не Кронго. Не Дюбуа.
Ну что ж. Обида прошла. Обида была секундной – и исчезла. Хорошо. Он поедет по третьей. Он поедет именно с ним – с Генералом. Дюбуа поедет с тобой, Тасма, если уж на то пошло, ты слышишь? Дюбуа поедет по третьей дорожке на ближайший Кубок. Он, Принц-младший, Морис Дюбуа, Кронго, Кро, поедет. Какой же ближайший Кубок?.. На той неделе, «Бордо – Лион». Да, именно – «Бордо – Лион». Отлично. Он поедет с Генералом на кубок «Бордо – Лион». Он – Дюбуа.
Теперь надо просто найти мсье Линемана. Найти – и сказать ему о своем согласии выступить в одном заезде с Генералом.
Было утро, они встретились около ипподрома. Мсье Линеман стоял у своей машины… Короткий взмах рукой… Улыбка…
– Морис, привет.
– Мсье Линеман… Вы помните, у нас был разговор… О том, чтобы я выступил в одном заезде с Тасмой.
Мсье Линеман прищуривается. Как всегда, он идеально одет. Безукоризненная рубашка. Безукоризненный галстук.








