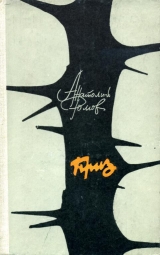
Текст книги "Приз"
Автор книги: Анатолий Ромов
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
– Так вот – я согласен. Я… готов выступить с ним на ближайший Кубок.
Мсье Линеман улыбается. В этой улыбке странно соединяются искренность – и хитрость.
– Морис… Мальчик… Приятно. Это – очень приятно.
Улыбка мсье Линемана что-то говорит ему. Это – не только радость, но и удивление.
– Но ведь ближайший у нас – «Бордо – Лион»? Да, Морис?
– «Бордо – Лион».
– И ты поедешь?
– Поеду.
– Тогда – я сообщу в прессу. Да… а – на ком?
Они остановились.
– Мсье Линеман. Я как раз об этом хотел поговорить. Я прошу вас пойти на небольшую хитрость.
Мсье Линеман поднял брови.
– Какую же? Или – с чем?
– С… записью. Мы можем пойти… на перезаявку?
Перезаявка могла быть обычным делом, случайностью – а могла быть жульнической махинацией. Замена лошадей перед самым заездом обычно применялась шестерками Тасмы – чаще всего для изменения курса ставок.
– На перезаявку? Кого же ты хочешь перезаявить?
Глаза мсье Линемана спрашивают – ты не боишься?
– Сначала записать Престижа. А перезаявить – Гугенотку.
– О-о…
Такая перезаявка была не только выгодна мсье Линеману как реклама. Вместо липового призера они выпускали фаворита. Если бы мсье Линеман решил играть, такая перезаявка принесла бы ему по меньшей мере несколько тысяч. Конечно – если бы Гугенотка пришла первой. Но в то же время – такая перезаявка сбила бы все расчеты Генерала.
– Но… мальчик… Это прямой вызов Тасме. Такая… штука… все спутает. Это – средство разозлить.
– Я знаю.
– Ну, Морис… Если ты знаешь и идешь на это. А ты… помнишь, кого записал Генерал?
– Помню. Исмаилита.
Исмаилит был лошадью класса Корвета и равен ему по секундам – но, конечно, менее опасен. Мсье Линеман помедлил. Самому ему бояться было нечего – он лишь продюсер, по существу – посторонний человек. Да и – с продюсерами Генерал никогда не связывался.
– Ты… вдруг обиделся на Генерала?
Кронго закрыл один глаз. Они рассмеялись.
– Да. Я – вдруг обиделся.
– Ну что ж, – мсье Линеман поправил на нем куртку, сделал вид, что стряхивает пылинки. – Если уж мы пойдем на это, то – за какой срок ты хочешь перезаявить?
– Ну… у вас хорошие отношения с оргкомитетом. И – с жюри.
– Понимаю. Ну что ж. Я… попробую добиться перезаявки почти вплотную. Конечно, не перед самым заездом, это нереально. Но – вплотную. Я правильно тебя понял? – мсье Линеман обнял его за плечи. – Впрочем – ты ведь прав, Морис. Пришла пора им нас бояться. Как ты считаешь?
– Я считаю – пришла.
Они сидят на веранде, на той же самой веранде перед озером, как и прежде, втроем – он, мать и Омегву. Как и прежде, слышно – возится, постукивает чем-то на заднем дворе Ндуба. И как прежде, этот обед для них не просто обед, а что-то особое, соединяющее их. Но все изменилось.
Во-первых, изменился он. Изменилось его отношение ко всему вокруг – потому что есть Ксата. Да, в том-то и дело – ведь ни мать, ни Омегву не знают о Ксате, не знают, как они теперь связаны – он и Ксата. Они не знают – так, как должны были бы знать. И в этом есть изменение – в этой особенности, в том, что его приезды сюда давно уже приобрели особый, тайный смысл, доступный только ему.
Изменилось что-то в отношениях матери и Омегву. Не потому, что нет отца… Дело совсем в другом. В глазах матери уже нет ощущения счастья. Что-то произошло – что-то, что отдаляет Омегву от матери. И хотя они по-прежнему любят друг друга, он это видит, – в их отношениях все изменилось. Теперь он понимает – это было связано с политикой, с выездами Омегву в столицу, с его выступлениями в печати. Он не понимал тогда – почему мать была против этого. Ведь все, что происходило вокруг, разговоры о предоставлении независимости, разговоры, которые шли уже несколько лет, в Париже, в столице, здесь, – все это интересовало мать, было ей близко. Он много раз слышал эти разговоры и сам с охотой участвовал в них.
Да, изменились не только отношения матери и Омегву – изменился сам мир Бангу, все, что окружает деревню. Во-первых, появились солдаты Фронта, которых сначала было мало. Те самые п л о д ы н а в е т к а х, которых когда-то в зарослях он принял за тени и которые тогда были малочисленны. В деревне их теперь зовут о н и. Не как-нибудь по-другому, а именно – о н и. Они были реальны – но для него остались тогда только тенями, которые он однажды случайно увидел. Эти тени назывались раньше «боевыми группами», потом – «отрядами Фронта освобождения». Эти отряды были формально запрещены, но они были, они представляли Фронт, то есть – все ведущие партии. Они не вели боевых действий, но были вооружены, у них были свои командиры, свои базы в лесу. Эти отряды несли охрану всех крупных деятелей из ньоно и бауса. Омегву тоже находился под их охраной. Хотя, может быть, сам Омегву тогда и не знал об этом… Ведь Бангу был за переход к независимости мирным путем, он отрицал вооруженную борьбу…
Сейчас ему, Кронго, кажется странным, что он был так далек от всего, что занимало тогда Омегву. Он был далек – и от противопоставлений, и от выяснения разницы во взглядах партии, и, конечно, – от отрядов Фронта. Он не понимал даже, чем отличаются друг от друга партии, – скажем, «Национальный конгресс за свободу» от «Партии демократического действия», коммунисты от социалистов.
Но ведь в нем было сочувствие. Даже – симпатия ко всему движению.
Но он был обособлен от всех. Он был – далек. Он хотел жить, просто – жить… Его ничто не занимало тогда, не интересовало. Только Ксата… Да – только Ксата.
Конечно, была еще и работа. Ипподром. Кубок «Бордо – Лион». Разве этого было мало? Пусть – мало. Он не чувствовал никакой вины из-за этого. Никакой.
Ведь он имел право быть далеким от всего. Он имел право – только сочувствовать. Право только желать успеха – и ничего больше… Ведь его жизнь была в другом. Совсем в другом.
Вот Ксата выскальзывает из зарослей – будто сама до этого составлявшая их часть. Вот, отделившись от кустов, приникает к нему…
– Ксата…
– Маврик…
Ему ее не хватает. Всегда… Повсюду… Во всем… Как она не может понять, что ему ее не хватает?
– Ты… давно?
Ее закинутая голова. Глаза – о которых он все время думает.
– Давно.
Уплыть… И все-таки… Эти скрытые от всех встречи… Нелепые, дурацкие, идиотские… Тайком… Он заметил в Ксате что-то новое. Вместо обычной накидки на ней рубашка и брюки.
– Маврик.
– Ксата.
Они крепко обнялись, – и, обнимая ее, он прислушался и ощутил какое-то изменение в ее руках. Или – ему показалось? Вот ее руки – цепкие, будто прилипшие к его спине. Сильные – но одновременно нежные, одновременно – знающие все о нем… И ему сейчас кажется, одновременно – далекие от него. Да – именно это ему показалось. Далекие – хотя ему ее не хватает. Она не понимает, что с ним происходит. Не понимает, как он сходит с ума без нее, как мучается. Не понимает, что так не может продолжаться.
– Пойдем… – она улыбнулась, выдохнув ему эти слова в самое ухо.
– Куда, Ксата?
– Ты знаешь, тут… есть лодка. Я не хочу, чтобы мы были здесь.
– Как хочешь.
Он пошел за ней. Они прошли несколько шагов вдоль воды – и он увидел старую лодку, полную высохших водорослей. Весло на корме. Ксата разгребла водоросли, прыгнула в лодку. Он оттолкнулся. Они уплыли далеко. И пока плыли, пока носом лодки раздвигали камыши, пока по очереди работали единственным веслом – он чувствовал себя счастливым. Да – он ничего больше не хотел в эти секунды. Раздвигая веслом воду, он чувствовал себя счастливым безоглядно. Тишина… Шелест камышей… Для счастья была нужна такая малость. И это – из-за Ксаты. Кажется, в этом ее особенность – приносить ему безоглядное счастье в самой малости, приносить без всяких усилий, легко, как дыхание…
Потом они оставили лодку… Долго шли по колено в воде к берегу, путаясь в зарослях. Он снова заметил перемену в ее одежде и понял, почему обратил на это внимание. Никогда раньше она не носила брюк, сейчас же на ней были узкие, обтягивающие бедра брюки и рубашка – расстегнутая, с полами, небрежно завязанными грубым узлом под грудью. Брюки и рубашка были армейские, брюки – почти новые, но перешиты по фигуре.
Потом они лежали и смотрели вверх, в небо.
Он ждал сейчас близости – и не верил в эту близость. Не верил – хотя все знал о Ксате. Хотя она давно была для него будто он сам, была его частью – и все-таки каждый раз он не верил, что близость между ними возможна.
Наверное, это и было счастье. Долгое, длящееся уже полтора года.
Вдруг он понял, откуда брюки. И – рубашка. Это – «они». «Я нужна деревне». Каким же он был дураком, что не понимал раньше, что значат эти слова. Конечно – она связана с «ними». Смешно. Он ревновал ее к Балубу, мучился. Но теперь он понимает, – может быть, она и не была связана с Балубу. Но она наверняка все это время была связана с «ними». Наверняка… Она нужна деревне… Значит – она нужна «им». Но ведь это глупо. Это смешно, нелепо.
– Откуда это у тебя?
– Нравится? – Ксата развязала рубашку, бросила – и рубашка накрыла камыши. Выгнулась, показывая брюки, – и вдруг поняла, что что-то скрывается в его вопросе. Повернулась.
– Ты что – недоволен? Что на мне брюки?
– Мне все равно.
– Что с тобой?
Встретив сейчас ее взгляд, он попытался понять – в чем же была разница. В чем же была разница в их отношении к «этому»?
Да, разница была. Разница была во многом. Для нее это было серьезно, для него – нет. Ведь он понимал: эти тени, отряды Фронта, их появление около деревни, возможная охрана Омегву – только игра… Игра… Пусть она для нее серьезна, но это – игра.
Именно поэтому он сейчас чувствует досаду. Да, он почувствовал себя обманутым. Значит – все это было только ради «них»? Ради теней?
Конечно. Просто – раньше он не понимал, в чем была причина ее отказа давно уже уехать отсюда… Иногда он думал, что, может быть, эта причина – Балубу. Или – то, что она должна танцевать на праздниках. Хотя нет… Конечно, нет… Все-таки он думал, что причины ее отказа уехать с ним важны для нее… Он не знал существа этих причин – но по ее тону, по тому, как она каждый раз говорила ему, что не может оставить деревню, он верил, что эти причины серьезны. Это не мог быть Балубу, это могло быть только что-то действительно важное, действительно мешающее ей уехать… Но оказывается – это так просто. Вся причина невозможности счастья, его счастья – в «них», только в «них». Все, что удерживало Ксату, – было ради них… Но что такое – они? Что они могут принести – ей, ему, деревне, кому бы то ни было? Даже – независимости? Что? Неужели она не понимает, что вопрос о независимости решается не здесь. Не появлением этих теней. И – не связью Ксаты с ними… Независимость будет предоставлена, это ясно, это видно… Но она решится не созданием «отрядов» и «боевых групп», не «тенями» и не связью Ксаты с тенями… Даже – не выступлениями Омегву. А переговорами между властями метрополии и столичными партиями. Независимость будет оговорена и наступит автоматически – со временем. Странно… Сейчас он чувствует бессильную ярость… Бессильную… Значит – связь с «ними» была ей так важна, что она не сказала ему о ней. Ничего не сказала – хотя именно эта связь и помешала возникновению счастья… Помешала тому, чего он давно ждет. Она же – ничего не сказала.
– Что с тобой? – повторила она.
– Со мной – ничего.
Он протянул руку – и встретил ее ладонь. Он не скажет ей сейчас ничего… Ничего о том, что думает. Ничего о том, что он понял.
– Маврик, ты… не сердишься?
– Нет.
Может быть, он и не прав. Может быть – она не могла ему ничего говорить. Ведь наверняка это у «них» – одно из правил. Ничего не говорить – тем, кто с ними не связан…
– Не сердись…
– Я не сержусь.
Он может сейчас найти даже что-то хорошее в этом… Ведь связь Ксаты с «ними» говорит о ее серьезности… Пусть о наивных – но хороших чувствах. Да – об искренности, увлеченности…
– Слушай, Ксата… Ты так упорно не хочешь, чтобы кто-то знал, что мы с тобой встречаемся.
– Да, – она насторожилась. – А что?
– Ничего. Просто – я подумал о том, что ничего не остается… как рассказать об этом всем.
Нет, у нее нет никого. Она его любит. Он чувствует это хотя бы по тому, как она сейчас засмеялась:
– Ну что ж. Расскажи. Всем.
– Ксата… А вдруг я случайно кому-то скажу?
Какая острая боль вдруг возникла. Он должен увезти ее. Он сумасшедший – что мирится с тем, что она до сих пор здесь. Он должен ее увезти – сейчас же, немедленно. Ее – наивную, скрытную, бесконечно милую, бесконечно любимую им. Странно только – почему он до сих пор этого не сделал.
– Не скажешь. Я знаю.
– Ты так уверена?
Он вспомнил – как не раз уже вспоминал, – как тогда, встретившись в зарослях с тенями, спросил у пустоты: «Ксата?» Но это было давно. Очень давно. И – никто не узнал об этом.
– Уверена.
Он должен ее увезти. Силой – увезти.
– Почему?
– Потому что… не нужно этого делать. Ну, Маврик.
– А… что с тобой тогда будет?
Она сделала преувеличенно серьезные глаза, приблизила к нему лицо:
– Меня убьют.
Да, она сделала это смешно. И в то же время немыслимо – что она так шутит. Значит – это все-таки Балубу. А ведь Балубу в самом деле может ее убить. Он должен увезти ее… Увезти сейчас же, как можно скорее…
– Глупая шутка.
– Только признайся – ты говорил кому-нибудь?
– Ксата, что ты… болтаешь. Это – глупости.
– Нет, признайся, – говорил?
– Нет. А может быть – тебя в самом деле убьют?
Она отвернулась и долго лежала, ничего не отвечая.
– Ну – что ты… Я смеюсь.
Он вдруг почувствовал несерьезность в ее словах – и это успокоило его. Или – она внушила ему это. То, что это было сказано несерьезно.
– Ксата. Ты… должна обещать мне… Слышишь – должна обещать. Слышишь?
– Хорошо. Я обещаю.
– Ты должна со мной уехать. Немедленно.
– Я уеду.
– Нет. Без всякого, – он взял ее за плечи. – Ксата, девочка… В этот приезд. Сейчас. Вот сейчас. Сейчас же… Ну? Слышишь? Идем на автобус. Без вещей, без всего. Слышишь?
– Маврик… Ну – Маврик, – она, шутя и увертываясь, стала целовать его.
Она сейчас поддастся. Еще немного – и она поддастся.
– Пошли, – он попытался приподнять ее. – Все остальное мы купим в аэропорту. Ну? Ксата?
– Маврик… – она легко высвободилась, не поддалась. – Ну, Маврик… Смешной… Ну ты смешной, это несерьезно, ну… Ну – давай, я тебя поцелую. Маврик, пусти. Я уеду, обещаю тебе – уеду. В следующий раз. Еще немножко, чуть-чуть. Ну? Ну подожди. Самую малость. Ну – Мавричек?
Он молчал, вглядываясь в нее. Она нахмурилась, ее улыбка пропала.
– Ну – я уеду. Все, все. Ну, Маврик? Ну – неужели ты не видишь? Ну… ну подожди немножко.
Он снова протянул руку – и снова ощутил прикосновение ее ладони.
Потом, когда он проводил ее к окраине деревни, его снова охватила досада. Она любит его, она не может без него, он знает это… Он это чувствует. Но она не хочет именно этого – уехать отсюда, уехать вместе с ним. Но это ее нежелание порождает в нем некую двойственность. Он испытывает странное состояние, он понимает, что она хочет быть его женой, хочет быть с ним навсегда… Ведь ему ничего больше не нужно. Но в то же время – этот ее мягкий, повторяющийся каждый раз упорный отказ…
Но все-таки – он чувствовал, что это возможно… Потом, когда поднялся в воздух, в самолете. Она уедет с ним – он чувствовал это. Он думал тогда: может быть, сказать обо всем Омегву? И снова смотрел на громоздящиеся внизу, уплывающие, исчезающие под крылом облака. Омегву… Нет, думал Кронго, дело не в Омегву. Дело в ощущении возможности. Была бы лишь вот эта надежда. Вот это ощущение возможности – и все сбудется.
Только теперь он понимает, как обмануло его тогда это ощущение возможности, ощущение близости счастья. Тогда он не понимал, не мог понимать, что именно существует в Ксате, что именно живет в ней – тайком от него. Вернее – он догадывался, но думал, что все это, эта ее п о л и т и к а, эта ее связь с н и м и, с Фронтом, и то, что она ничего не говорит ему, что она скрывает от него эту связь, – все это невинно. Но это было не невинно, как он думал, это было далеко не невинно. Ведь дело было даже не в том, что Ксата была близка к Фронту, что она помогала отрядам Фронта. Дело было в том, что тогда, в то время, когда никто еще ничего не знал, она должна была поступать только так – и не иначе. Она, Ксата, должна была сделать это, она должна была с в я з а т ь с я с п о л и т и к о й – именно потому, что никто еще ничего не знал. И неважно, что он сам, он, Кронго, думал, что все уже предопределено. Что он, думая о п о л и т и к е, в душе улыбался, забавлялся, думая, что это детская игра, что все наступит само собой, – то, что теперь называется отделением от метрополии, независимостью, свободой. Ведь Ксата этого не думала. Для нее это действительно было с в о б о д о й. Сво-бо-дой. И она ничего не знала, все для нее тогда было неясно. Именно – неясно. А это значило – в том, что она делала, был риск. Он сам не знает – каким был этот риск. Но она знала, что он, Кронго, далек и от этого риска, и от всего, что называлось – политикой, политической борьбой. Она, Ксата, знала это. Знала, видела, понимала все – несмотря на то что ей было только восемнадцать. Только восемнадцать… Она знала о риске – и не хотела связывать его с ним. Не хотела. Проклятье. Как все разрывается сейчас внутри. Разрывается, мучит. Бесконечно – как только он думает об этом. Ксата не хотела связывать его с риском – без его желания. Она не хотела этого делать – помимо его воли…
Утром, в день розыгрыша Кубка «Бордо – Лион», перед тем как выехать из дому, Кронго позвонил Жильберу. Он решил э т о сделать – и решил твердо.
– Жиль, привет, это я. Не рано? Хорошо… Да, я сегодня еду в главном заезде. Подожди меня… где обычно, на углу. Есть разговор.
Когда Жильбер сел в его машину, они проехали несколько кварталов молча. Наконец, выбрав пустую стоянку, Кронго остановил свой «пежо». Город только что проснулся, людей на тротуарах было немного.
– Жиль… У тебя есть деньги?
– Ну… – Жильбер пожал плечами. – В общем – есть. А что?
– Сыграй сегодня на меня. Крупно.
– На тебя?
– Не на меня – на третий номер в «Бордо – Лион». Только понимаешь – крупно? Поставь все, что у тебя есть. Все, что есть наличными. Понял? Если мало – вот. Вот, возьми, – Кронго достал из сумки несколько пачек. – Я тебе даю взаймы. Да перестань! Держи. Это – на себя. А эти поставь на меня. На мою долю. Вот – всё.
Жильбер пересчитал пачки. Улыбнулся.
– Слушай, Кро… Я, конечно, все сделаю. Поставлю, как ты говоришь. Но – ты что, так надеешься на Престижа?
– Престиж не поедет. Вместо него поедет Гугенотка.
– О-о… – Жильбер свистнул. Он все понял. – И что – об этом кто-нибудь знает?
– Те, кто знаком с членами жюри или оргкомитета, – знают. Но… все остальные… ты сам понимаешь.
– Слушай, но это же… Это же… Если ты придешь…
– Я приду.
– Да я… Я остров себе смогу купить. Если ты придешь. На эти деньги.
– Вот и купишь. На́ сумку… – Кронго протянул Жильберу пустую сумку. – Сложи деньги. И… – он помедлил. – Поставь… Найди какое-нибудь захудалое агентство. Где с информацией туго. Ну – ты сообразишь.
– Но все-таки, – Жильбер приоткрыл дверцу. – Исмаилит – все-таки лошадь. Все может быть.
– Вот поэтому и поставь.
Кронго щелкнул языком – и Гугенотка, осторожно переступая ногами, стала подравниваться с общим строем. В конюшне Генерала сильнее Исмаилита только Корвет. Но перезаявить в последнюю минуту Корвета Генерал уже не может. Не та лошадь. Да и – Корвет наверняка еще сырой… Поэтому перезаявка Гугенотки – удар… Хорошо рассчитанный. Прямой вызов всему клану. Все, что за последние несколько часов мог бы сделать Генерал, узнав о перезаявке, – это накачать своих шестерок. Больше ничего. Ясно – всему заезду теперь даны точные инструкции…
– Участники Кубка «Бордо – Лион» – на старт… Участники заезда на Кубок «Бордо – Лион»… На старт.
Разворачиваясь на старт, Кронго увидел, как Генерал, не двинув головы, что-то бросил Руану.. Это было только движение губ – но Кронго понял, что это – предостережение. Это – напутственный окрик. Умница, мсье Линеман. Он все сделал так, как и нужно было: Гугенотка перезаявлена по самым допустимым срокам. Даже если Генерал и захотел бы сейчас кого-нибудь перезаявить – он уже не сможет это сделать. Ясно, сейчас Генерал вне себя.
– Выравнивайтесь… Выравнивайтесь… Одиннадцатый номер…
Конечно, все расписано и пойдет, как и должно пойти. В ход будет пущено все. Все средства… И прежде всего испытанное оружие – Руан и Клейн. Они сейчас идут справа от него, по четвертой и пятой дорожкам. Вот стук копыт их лошадей – Орфея и Салли. Вот шахматный камзол Руана, дальше – красный Клейна. Они сделают все, чтобы зажать его, не пустить вперед, к бровке. Но Кронго сейчас спокоен. Совершенно спокоен.
– Выравнивайтесь! Выравнивайтесь!
Трибуны стихли. Впереди, постепенно увеличивая скорость, плывут крылья стартовой машины. Ноги Гугенотки движутся ровно, легко, пружинисто… Пока еще, до того момента, когда Кронго даст посыл, движения этих ног расслаблены, свободны, Гугенотка занята сейчас только тем, чтобы не отстать от крыльев машины. Слева, не уступая ему ни сантиметра, движется качалка Генерала… Исмаилит, как обычно, не отдает на старте ни пяди пространства. Жеребец идет ходко, в его движениях уже сейчас чувствуется будущий пейс. Значит, этим Генерал подает знак трибунам – он е д е т. То есть – он решил взять Кубок. Кронго знает – сейчас, со старта, Клейн и Руан постараются пристроиться к нему с двух сторон. Зажать, чтобы он был вынужден тут же выпустить к бровке Исмаилита. Но он совершенно спокоен. Нет никакого волнения. Он спокоен, хотя уверен, что они пойдут на все – раз Генерал е д е т, раз он дал знак трибунам. Ясно, в ход пущены большие деньги. Они расписали этот заезд, потому что знают, что Гугенотка – концевая лошадь. Уверены, что он, Кронго, рассчитывает на ее финиш. Классическое построение – они думают, что он будет всю дистанцию держаться на второй позиции, чтобы потом все решить на последней прямой.
Но он сейчас сделает все по-другому. Не так, как они думают. Он хорошо знает, что приемистых лошадей в заезде нет… Сейчас, в самом начале, когда лошади еще не смогут перестроиться, он бросит Гугенотку в посыл. Он сразу же, с первых секунд, вырвет ее из общего ряда – так, чтобы уже с первых метров занять бровку. Он должен оказаться хотя бы на полкорпуса впереди Исмаилита. И – постараться держаться так до самого конца дистанции, опережая все попытки Генерала отвернуть и обойти его с Гугеноткой. Исмаилит считается «машиной». Чтобы провести такого жеребца всю дистанцию за собой – нужно очень верить в лошадь. Но Гугенотка сможет… Он чувствует, хорошо чувствует сейчас – она сможет.
Вот мерный топот копыт по сторонам возрос, усилился. Надо идти на опущенных вожжах. Не показывать им ничего. И точно выбрать момент посыла… Точно выбрать… Ничего уже не видно, ничего… Только мелькающие впереди ноги Гугенотки… По тому, как она сейчас движется, он понял – она ждет его посыла, ее ход с каждым шагом обретает машистость… Ушли крылья, стартовая машина уезжает… Спокойней. Ты же знаешь, что Гугенотка выдержит.
– Отрывайтесь! – загремел репродуктор. – Отрывайтесь!
Кронго чуть приподнял вожжи, чмокнул…
– Гугошка… Гугошка, пошла…
Гугенотка, услышав голосовой посыл, резко прибавила. Кронго угадал – бросок был хорошо рассчитан и сразу вывел его лошадь из общего ряда. Трибуны загудели. В начале дистанции никто не ожидал этого.
Кронго снова чмокнул, одновременно услышав сзади – даже не услышав, а ощутив – бешеный ход Исмаилита. Он ждал этого – попытки Генерала сравняться. Да, сейчас за его спиной Тасма изо всех сил пытается выжать из жеребца все, чтобы догнать Кронго. Или – хотя бы сравняться, не пустить к бровке. Генерал наверняка уже догадался о его плане. Сейчас Тасма пытается достать его, зажать, сесть на колесо, не позволить Гугенотке вырваться. Поздно… Гугенотка заняла бровку, поймала пейс и идет на очень хорошей резвости… Очень хорошей… Молодец, Гугошка. Молодец. Теперь – дотянуть. Только дотянуть. Вот так, на небольшом отрыве, вот так, на пределе, в полкорпуса впереди, не позволяя Исмаилиту приблизиться. Улавливая каждую попытку Генерала улучшить пейс… Так они прошли первую четверть. Вот он – выход из второго поворота… Кронго оглянулся – серая, почти скрытая наглазниками морда Исмаилита мчит сзади, в нескольких метрах, наезжая, не отпуская его ни на пядь… Ноги Исмаилита работают ровно, четко, легко, на самом деле – он идет, как машина… Так кто же поедет по третьей, Генерал? Остальные лошади сильно отстали, они далеко сзади. Это мелькнуло только на секунду – и снова впереди легко работающие ноги Гугенотки. Кто поедет по третьей…
Нет, в нем, Кронго, уже нет обиды, он спокоен… Иди, Гугошка… Двигайся, милая, не уступай… Вот так… Вот так… Кто поедет по третьей… Хорошо… Иди, Гугошка. Мы поедем по третьей. Слышишь, Гугошка… Мы поедем с тобой по третьей. Пусть шумят трибуны. Пусть кричат, сходят с ума. Мы поедем по третьей.
Поворот на последнюю дугу… И снова Кронго почувствовал – Генерал пытается прибавить. Он услышал это по звуку копыт сзади, по еле заметному изменению их ритма.
– Гугошка!.. Гугошка, милая, еще немного!.. Ну, потерпи!.. Потерпи!.. – Кронго чмокнул.
Да, он все рассчитал правильно. Гугенотка сделала невозможное, увеличив сейчас и без того предельный пейс. Выход из последнего поворота. Все… Теперь только – занять бровку… Занять, плотно прикрыть и… Ни в коем случае не допускать ошибки… Занять бровку, не пустить к ней Генерала… Пусть обходит полем – если сможет… Пусть… Что творится на трибунах… Но все это потом, трибуны и все остальное потом… Не думать об этом. Кронго поднял вожжи:
– Гугошка! Умри! Гуго-о-шка!
И все-таки Генерал отвернул и смог каким-то чудом с поля подтянуть Исмаилита. И где подтянуть – здесь, уже метрах в ста пятидесяти от финиша… Неужели обойдет… Вот морда Исмаилита сбоку… Не дать ей приблизиться… Не дать… Кто поедет по третьей… Негритос… Кто поедет… По третьей… Все… Исмаилит уже не обойдет… Не обойдет… Негритос… Кто поедет…
– Гугошка… – Он уже не кричит это, а шепчет, улыбаясь. – Гугошка… Гугошенька…
Удар колокола над ухом. Финиш… Они первые… Первые… Сзади Исмаилит… Но это уже не важно… Не важно… Они первые…
Еще движутся, пружиня, ноги впереди. Еще дрожит качалка.
– Первое место…
Кто поедет по третьей… Негритос… Остальное не важно. Не важно.
– …выступавшая под номером третьим Гугенотка… под управлением мастера-наездника Дюбуа…
Они первые. Первые.
Кронго не успел еще переодеться после заезда и торжественной проездки с Гугеноткой перед трибунами, когда его вызвали в Дирекцию.
– Морис, это что-то серьезное, – сказал в трубке голос секретарши. – Поспеши.
– Что, не знаешь?
– Какие-то люди из Швейцарии. Кажется, фирма «Эстль». Твой продюсер тоже здесь.
В приемной его остановил мсье Линеман.
– Морис, кажется, тебе подвалило.
– Мне?
– Ты знаешь, я хотел бы работать только с тобой. Если ты против – я откажусь. Но извини – они дают за Гугенотку миллион.
– А что случилось?
Мсье Линеман помедлил.
– Ладно… Проходи в кабинет.
Несколько человек, сидящих в ряд за боковым столом в директорском кабинете, повернулись в их сторону. Кивнули. Директор улыбнулся. Кашлянул, подождал, пока они сядут.
– У нас сегодня… очень приятные гости.
Один из сидящих рядом с Кронго еще раз кивнул. Повернулся к нему:
– Мсье Дюбуа, мы хотели бы сделать вам серьезное предложение. Мы – это фирма «Эстль» и дирекция объединенных ипподромов Женевы и Берна.
Значит, это – фирма «Эстль». Та самая. «Отделения во всех странах мира».
– Да, я слушаю.
– Судя по предварительному разговору с вашим продюсером… и дирекцией вашего ипподрома… с их стороны возражений не будет. Мы предлагаем вам работу у нас.
– У вас? А… где?
– В Берне или в Женеве – по вашему выбору. Условия – вы будете работать у нас старшим тренером двух конюшен… Рысистой и скаковой… Ну, и, естественно, наездником. Кроме того, вы становитесь владельцем этих конюшен – автоматически после подписания контракта. Естественно, без всякого вложения капитала с вашей стороны. Но – совместно с фирмой. Это будет одним из условий общего договора. Кроме того, вы будете включены в правление – с правом открытого счета. И наконец, фирма готова приобрести лучших лошадей… так ведь, мсье Линеман? Лучших лошадей из тех, с которыми вы сейчас работаете.
Да, условия были королевскими. Совладелец конюшен и член правления…
– Это – все?
– Все. И… нам хотелось бы, чтобы вы не затягивали с решением.
Значит – прощай, Генерал… Прощайте, телохранители на дорожках… Прощайте, холуи, прощайте, сделанные заезды. Что касается лошадей – он увезет с собой Гугенотку… Потом – двух недавно поступивших трехлеток… Еще – двух или трех скаковых…
– Что вы решаете?
Надо соглашаться. Конечно. Надо ответить – этим вычурным языком, которым принято говорить в таких случаях. А впрочем – зачем вычурным…
– Ну… конечно… я должен подумать. Но в общем – я согласен.
Ведь он понимает, самое главное – он сможет взять с собой Ксату.
В квартире матери тихо. Занавески на окнах. Цветы. Волнистый попугайчик в клетке.
– Мама… ну как? Что ты решила?
Мать смотрит на него. Протянула руку, погладила по голове. Как маленького. Она все видит, все читает в его глазах. Она старается сейчас казаться радостной – преувеличенно радостной.
– Ты… у тебя все собрано?
– Да, – он решил скрыть от нее, что перед отъездом в Берн полетит в Бангу – за Ксатой.
Да, все уже собрано. Позади последние сборы. Гугенотка отправлена, ее сопровождает Диомель. Остальные лошади давно в Берне.
– Ну – мам?
– Маврик, – мать садится на край дивана, стараясь не смотреть на него. – Маврик… Я… Я долго думала… Ты не представляешь, как я рада за тебя… Но… поезжай один…
– Мама! Ну – ты что?
– Маврик… Не нужно. Я уже решила. Я… привыкла уже здесь. У меня здесь друзья… Работа… В общем – все. А ты – поезжай. Это нужно для тебя. Ты понимаешь – нужно?
Ему кажется – в этих словах матери звучит упрек. Хотя она старается сейчас дать ему понять, как она рада – рада его успеху.
– Мама… Но это же смешно. Берн. Это же – Берн.
– Мавричек… Ну – Маврянчик мой… Присядь. Вот так, – он видит глаза матери, они все понимают – все до конца. – Ну? Мой знаменитый сын? Мой самый гениальный? Ты обещаешь мне писать?
Она все понимает – и он может не отвечать ей. Уговаривать ее бесполезно. Он помнит – у нее сейчас размолвка с Омегву. Может быть – даже больше, чем размолвка…
– И потом – разве это расстояние? Пригород. Час – и я там. Я буду приезжать. Хорошо, Маврик? А ты… Ты поезжай. Желаю удачи.
Она права. У нее здесь друзья. Потом – здесь остается Жильбер.
– И пиши чаще. Не забывай свою серую, деревенскую мать. Звони.








