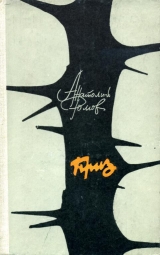
Текст книги "Приз"
Автор книги: Анатолий Ромов
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Отец в воспоминаниях детства был совсем другим, чем потом, когда Кронго вырос и они вели и скаковую, и рысистую конюшни на равных, вдвоем, как два товарища. По сравнению с тем, каким отец казался ему в детстве, он стал потом как будто ниже ростом, его светлые волосы поредели, хрящеватый большой нос покрылся сетью прожилок. Но глаза, которые Кронго запомнил еще пятилетним мальчиком, голубые, прищуренные, по-прежнему, как и в его детстве, со спокойным упрямством смотрели на мир. Глаза отца оставались неизменными. Эти глаза всегда как будто высматривали что-то в Кронго. В детстве, когда отец сажал его в качалку, эти глаза будто пронизывали все насквозь.
– Запомни, фис, все наши предки были лошадниками, – отец говорил это, стоя у качалки, держа ладонь на крупе.
Десятилетний Кронго, считавший себя уже опытным наездником, следил, как вздрагивает на крупе кожа, как дергается в стороны репица хвоста. Он разбирал вожжи, усаживался пониже, чтобы дотянуться ногами до передних упоров.
– И дед твой был лошадником, и прадед был лошадником.
– Да, па, – Кронго не терпелось скорей выехать. – Наш прадед был по матери шотландец. Да?
– Верно. Поэтому, говорят, нам и передается по мужской линии упрямство. Я ведь тебе рассказывал о «порошке Дюбуа»?
– Да, па.
– Ну вот. Если будешь сейчас молодцом и хорошо проведешь размашку, я тебе разрешу последний круг маховые.
– Ой, па! – Кронго от счастья прыгал на качалке, тянул за вожжи, и отец еле успевал задержать рванувшуюся лошадь. – Ой, па! – и тут же, нахмурившись, сердито кричал, натягивая вожжи и подражая отцу: – Тпрр-ру, чудо гороховое! Тпрр-ру! Стой-й! Пу-у-угало!
– Ну вот. И расскажу тебе о «телефоне Дюбуа». Эту историю знает весь ипподром. Старики, конечно.
Отец подмигивал, и у Кронго по спине шел холодок.
– Хорошо, папа. Я постараюсь.
Отец отходил. Кронго привычным движением опускал на глаза очки, чмокал, уже запомнив золотое правило, что лишние жесты и слова на посыле ни к чему, – и выезжал на круг.
– Понимаешь, фис… «Телефон Дюбуа» – это только твой прадед мог додуматься… Ты ведь знаешь – твой прадед умер в качалке.
– Знаю.
– Твой прадед взял Приз.
– Разве прадед взял Приз? Не Кубок, не Мемориал, а П р и з?
Отец морщится, и Кронго отлично понимает, что это значит.
– Твой прадед взял Приз, но пересек черту уже мертвым… Поэтому заезд был пересмотрен. После медицинской экспертизы первое место присудили другому.
– Пап, а мне говорили, что это вранье.
– Дураки говорили.
– Не-ет, па-ап. Ну ведь правда… Такая легенда, насчет того, что умер в качалке… И пересек линию мертвым – она ходит про каждого десятого наездника.
– Ну хорошо – легенда. И про «телефон Дюбуа» – легенда?
– Нет, па, про «телефон Дюбуа» – не легенда. Я знаю, что это было. Он обошел самого Томсона, да, па? На Базальте на Кубок Арденн? И как-то схитрил?
– Во-первых, не на Базальте. Если бы на Базальте, Базальт был абсолютно нормальной лошадью. Без всяких припадков. Твой прадед шел на Глобусе. Ну, а Томсон…
– Но Томсона же в то время нельзя было обойти. Да, па? У Томсона же не было лошади классом ниже «один-пять-пять». Ты же знаешь, ну, па? Вот, вот, вот, да, я вспомнил. На Айседоре-Два. Она брала два дерби подряд, я помню, па. Я читал. Только нигде не записано, что это был «телефон Дюбуа».
– Сам же говоришь – ты что-то слышал? Слышал?
– Слышал. Мне контролеры говорили. Старый Поль, который программки дуракам отмечает. Ну – так что было? Па?
– Томсон шел как голый фаворит. Никто ставок не брал. Кубок Арденн, шутишь? Всякая мухлевка, подсадки или прочее исключено. А прадед твой сидит себе в качалке и молчит. Помалкивает.
– Даже ф о н а р я не подал?..
– Никакого фонаря. Только когда разворачивались на парад, увидел какого-то знакомого, тот кричит: «Дюбуа, поедешь?», а прадед твой в ответ, будто в шутку: «Будешь ставить – поставь на меня. И покруче заряжай. Слышишь – покруче». Все так и подумали – шутка. Ведь все знали, что погода отличная, дорожка на редкость, ну и ждали – Томсон поедет на рекорд.
– А тот?
– Кто – тот?
– Ну – знакомый?
– А тот, представь себе, подумал, подумал – и поставил. На себя и на прадеда. И как ему прадед сказал – покруче. По сто билетов.
– Ну!!!
– Что – ну? Народу было – не пробиться. Все пришли посмотреть на Томсона. И конечно – на Айседору-Два. Томсон выезжает, форма обычная, синий камзол, черный шлем, само собой – крики. В заезде двенадцать лошадей, прадед по третьей дорожке, Томсон – по девятой. Ну, кроме Томсона там еще ехали два шведа. Да, по-моему, два. Ну и, как всегда на Арденны, две или три американские лошади, В общем – заезд собрался довольно приличный.
– Ну… Ну, па же…
– Ну, выезжают, подравниваются за машиной. Все, конечно, выгадывают по метру, по сантиметру. Первое место решено… Но ведь там же – за призовые идут куши, сам понимаешь. Кубок Арденн. Дед своего не уступает, идет вровень. Глобус – лошадка была приличная. Но – обычная история. Беда многих лошадей. Первые две трети он мог пройти очень неплохо. А на последней четверти встает – просто дыхалки нет, сил не хватает. Подходят лошади к старту, машина уезжает, и все вроде не включают пейс, ждут, уступают бровку. Смысл простой – пусть первым по бровке едет Томсон, ему так и так первое место. А мы пойдем сзади, ну там, с поля, под шумок, глядишь, третье отхватим, а повезет – так и второе. Смотрю, прадед, не долго думая, раз – и занимает первым бровку. Томсон сразу же за ним, впритык. Томсон тоже не дурак, он свое понимает. Видит – впереди Дюбуа на Глобусе, Глобус не фаворит, класс известен. Томсон если кого и опасался, то только американцев. Идут себе, но пейс с самого начала страшный. Трибуны начинают гудеть. Первая четверть – двадцать восемь секунд. Чувствуешь? Из первого поворота выходят все в том же порядке – впереди, ну, ты знаешь, во всем белом, наша форма, прадед на Глобусе, за ним впритык Томсон на Айседоре, чуть позади остальная группа. Пока всё в норме – все знали, что Томсон поедет на рекорд. А то, что Глобус повел бег – так это, все тогда думали, Дюбуа сам дурак. Сейчас, на второй четверти, в лучшем случае на третьей, Дюбуа со своим Глобусом сдохнет, встанет и отвалится в хвост. Томсон же, как всегда, придет к финишу легкой кровью, на чужих костях. Проходят вторую четверть – ничего подобного, пейс все тот же, двадцать девять секунд! Впереди – Глобус, за ним Айседора. На трибунах – что-то невообразимое! Стонут, просто криком кричат. А дед – прадед, прости, я этот заезд видел с трибун – только чуть подался в качалке, вожжи даже чуть сдал… Глобус молотит – как заведенный. Комья летят… Ну, Айседора тоже лошадь что надо. Идет сразу за дедом в затылок, тютелька в тютельку. Не отпускает ни на сантиметр. По ниточке, ноги только мелькают. Остальная группа отпала… Столба три сзади. Томсон спокоен – финиш у Айседоры страшный, тут не то что Глобус, никакая лошадь не устоит. Рядом со мной, на трибунах, безумство какое-то – ревут, стонут, шум, гвалт, ничего не разберешь. Входят в последний поворот, третья четверть – опять двадцать семь! Такого еще не было, я, знаешь, честно тебе говорю – такого ни разу не было… Диктора уже не слышно, только так – отдельные слова. Я только и понял, третья четверть – двадцать семь, на секунду лучше, чем первая. На последней прямой Глобус и Айседора далеко впереди. Выходят на прямую, ну и – Томсон тут же отворачивает – и в посыл. Ну, тут все ясно – сделает Айседора сейчас деда, как ребенка. Не шутка, «один пятьдесят». Механизм, а не лошадь. И тут, представляешь себе… Айседора его начинает делать… Четко так, без напряжения. А по Глобусу, и по его пейсу, и по всему, даже по морде, я вижу – сейчас жеребец встанет. Выдохся, силы на исходе. Идут уже нос к носу, Айседора чуть выходит вперед… Я даже отвернулся, смотреть не хочется…
– Ну и что?
– И вдруг, когда до финиша осталось метров двадцать пять… Ну, тридцать, крохи совсем, – чудо какое-то просто происходит… Знаешь – будто Айседора остановилась.
– Ой, здорово как…
– Знаешь – будто лошадь не на рыси вовсе, а стоит. Ноги мелькают, а сама стоит. Смотрю – откуда силы взялись, Глобус, как бешеный, заработал – первым к финишу. Айседора за ним, Томсон встал, хлещет ее… Куда там. Вторая… В полкорпуса.
– Ну-у-у! Па-а-а!
– Веришь – все обезумели. Что там на трибунах творилось – кто кричит, кто плачет, а кто вообще стоит, будто столбняк напал. Подошли остальные лошади… А Томсон, сразу за финишем, что-то там дергается в качалке, машет рукой, что-то кричит. Я, конечно, вниз и бегом к падку. Мне было тогда, вот как тебе, лет десять… Пробрался через дорожку – и к судейской. А там – столпотворение… Жокеи, наездники, конюхи. Айседору водят в стороне. Томсон ругается, слез с качалки, что-то орет. На прадеда показывает, кричит – «жулик!». И еще что-то. А прадед ногу свесил, лицо невозмутимое. Мне только подмигнул. Так ты знаешь, что тогда Томсон орал?
– Что?
– «Телефон! Я тебе покажу телефон! Сволочь, телефон придумал! Господа судьи, он жулик! Он придумал телефон! Проверьте упряжку! Жулик! Я тебе покажу телефон!»
– Что это значит – телефон?
– Понимаешь… Прадед, зная, что Глобус боится шума, туго-туго забил ему перед заездом уши. Ватными заглушками. А к заглушкам прикрепил ниточки. И пропустил их, протянул – прямо по вожжам. Ниточки-то тонкие, их незаметно. Пока шли дистанцию, прадед ниточки не трогал. Ну вот. А когда остались те самые тридцать метров и прадед почувствовал, что Глобус вот-вот встанет, – он и дернул за ниточки. Заглушки, конечно, вывалились. Ну, а ипподром… Я же тебе говорил – ипподром к концу дистанции гремел. Будто землетрясение началось. Ну, у Глобуса, естественно… все загрохотало в ушах. Он и обезумел. Для такой лошади это – все равно если бы вдруг за спиной зарычал тигр. Глобус услышал шум, крик, испугался, рванулся, как бешеный. Сам посуди, последняя четверть – двадцать шесть секунд. А общее время – повторение рекорда, минута пятьдесят. Можешь посмотреть хроники.
– Ой, па-а… Ой, как здо-о-орово… И ему ничего не было? Прадеду?
– А за что?
– Ну – за ниточки? Томсон же кричал?
– Ну и пусть кричит. Ниточки… Судьи проверили упряжь – все в порядке. Сбруя правилам не противоречит. Хотя – это уже мне отец потом говорил – твой прадед эти ниточки и заглушки на всякий случай незаметно смотал и выкинул в урну. А в общем – ему было все равно. В тот момент он уже думал только о том, как он перед Глобусом за этот «телефон» ответит. Говорят, потом, уже после того, как прадеду вручили Кубок Арденн, все бросились искать эти ниточки и заглушки. Не знаю, насколько верить, обшарили будто бы все урны на ипподроме.
– Ну и что?
– Не нашли. Считают, что их сразу же взял и унес какой-то любитель сувениров. Короче, от этого заезда только вот это и осталось – «телефон Дюбуа». Это ведь Томсон кричал: «Телефон! Я ему покажу телефон!» Ну и – все подхватили. А Глобус… – отец замолчал. – Знаешь что…
– Что? Ну, пап? Что-о?
– Что с ним было потом? С Глобусом?
– Что?
– Веришь или нет – он обиделся.
– Обиделся? Глобус? Разве так бывает?
– Еще как бывает. Не понял Глобус этой шутки… ну и вот… сначала не хотел твоего прадеда прощать. Ну, знаешь – обычные штучки. Отворачивался. Норовил лягнуть. И главное – ездить перестал. Знаешь, что это значит – когда лошадь перестает ездить? На любом посыле – секунд пять минус…
– Зна-аю… А почему он – не хотел? Ну – простить?
– А ты как думаешь?
– Наверное, Глобус считал, что это – подлость.
– Точно.
– А потом… простил? А, пап?
– Да. Еще бы не простить. Прадед у него после этого каждый день торчал в деннике.
– Но он должен же был понять. Глобус.
– Он и понял. Прадед твой умел с лошадьми объясняться, понимаешь. Он смог Глобусу как-то объяснить, зачем он это сделал.
Кронго медленно шел домой. Что бы там ни было, ипподром будет работать. Дома он поднялся наверх, сел рядом с кроватью. Филаб была хорошо укрыта, на окнах стояли цветы. Сквозь распахнутую фрамугу врывался приторно-горький запах морской воды.
– Как ты, Фа?
Она закрыла на секунду глаза. Он почувствовал неслышные шаги, уловил движение – рядом остановилась Фелиция.
– Ипподром будет работать, Фелиция, – Кронго взял горячую и сухую руку жены. Она красива – даже сейчас, в мелких морщинках, с опухшими глазами. – Фелиция, я хотел вас попросить снова работать на ипподроме. На старом месте…
– О, месси… Вы добрый, добрый.
– Все в порядке, Фа, – Кронго вглядывался в глаза Филаб. Она отвечала на этот его взгляд, ей хотелось отвечать. – Ты понимаешь, я должен спасти лошадей. Ты ведь понимаешь?
Желтые веки медленно опустились.
– С мальчиками… лишь бы ничего… С мальчиками.
Он сказал это тихо, сам себе. Филаб болезненно растянула губы, и он понял, что она пытается улыбнуться.
– Мне придется снова пойти на ипподром. Надо набрать людей. Ты потерпишь?
Она пожала его руку. Он осторожно поцеловал губы. Они были жаркими, неподвижными.
В ту ночь он не мог спать. Он сидел на веранде и смотрел на озеро. Он не мог освободиться от воспоминания о том, как движутся губы Ксаты, как руки осторожно наносят грим на скуластые щеки, как морщится маленький нос. Но главное: прислушиваясь к тишине ночи, он не мог понять, почему так неожиданно, так просто оживает ее красота, легкий, спокойный ритм ее красоты в этой странной, все понимающей улыбке.
Он видел, как она танцует. Видел издали, через головы стоящих на площади жителей. Она вошла в круг – и отпустила покрывало. Покрывало сползло, легло на землю – а она уже танцевала. Теперь она уже не жила, не говорила, не двигалась, не думала. Она танцевала, как танцуют африканки в этих краях, совершенно обнаженная. Да, все тело ее было открыто. Ее тело было раскрашено яркими, резкими красками, ритуальными тонами ньоно, которые для каждого жителя звучат как табу. Пронзительно оранжевым. Белым как мел. Ярко-голубым. Кронго, затаившись, видел Ксату, видел каждый ее жест, каждое движение. Он наблюдал этот танец, будто сливаясь с ним – и в то же время отстраненно. В нем не было ревности к тому, как она танцует. Вот так – открыто для всех. Ему казалось, что он понимает до конца язык ее резких и одновременно плавно текущих поз, значение ее танца, понимает язык ее тела, язык жалоб и приказов, которые Ксата посылала, танцуя, тем, кто на нее смотрел. И Кронго вдруг понял, что не только он, но и вся деревня в этот момент понимает то, что говорит Ксата.
Потом стала танцевать вся деревня, и он ушел, углубился в заросли, незаметно скрылся. Он шел куда-то, не помня себя, не понимая, куда идет, благодаря судьбу за то, что хотя бы знает, что ритуальные танцовщицы в деревнях ньоно дают обет безбрачия. Это значило – Ксата чиста, целомудренна и неприкосновенна.
Он помнит, он сделал тогда все, чтобы отговорить себя. Отговорить себя от того, что Ксата хоть чем-то может его привлекать, что она может нравиться ему, что она, эта девушка, ритуальная танцовщица деревни Бангу, может хоть что-то для него значить. В том числе – что ему может нравиться вот эта обнаженная и в то же время целомудренная наглость ее тела. Он говорил себе, что Ксата – африканка из африканской деревни, чуждая ему, далекая от него, далекая от его воспитания, привычек, взглядов, образа жизни. Ксата бесконечно далека от него и от того, что составляет его сущность, она первобытна, она, наконец, не поймет многое из того, что ему понятно – как воздух, что составляет часть его существования.
Но, глядя на молчащую поверхность озера, он понял, как смешно и жалко все это звучит. Нет понимания выше, чем то, которое он ощутил несколько часов назад, увидев глаза Ксаты. Услышав это: «Вы мне не мешаете». Да, он знал женщин. Он был уже привычен к их ласкам. Он даже был увлечен многими. Он считал, что понимает, что такое – «любовь». Но сейчас он понимает, что нет «любви». Нет того, что для всех, и для него в том числе, означало раньше это слово. Есть Ксата. Есть ее тело, глаза, волосы, взгляд. Есть только Ксата и то, что он чувствует, думая о ней. Ему сейчас двадцать четыре года, он молод, он бесконечно силен. Но он ничего не знает. И ничего не знал до этого. Потому что – не знал Ксаты. И прежде всего не знал, что значит это слово, вот это слово – «лю-бовь». Это значит – «смерть». Потому что сейчас он раздавлен, смят. И в то же время – возвышен. Это случилось. Он не может врать себе, он знает, чувствует, что это – нет, не любовь, понятие «любовь» слишком плоско для его чувств, а «это», то, что случилось, случилось только потому, что он встретил Ксату. Как бы потом ни изменилась его жизнь, вот это, суть этой девушки, суть Ксаты, запрещающая ему лицемерить и врать, движение ее рук, вздрагивание губ, беспомощность взгляда, все, до конца вошедшее в него, ставшее его сутью, даже – детская первобытная наглость ее обнаженного тела, ее откровенный и целомудренный танец – все это стало теперь и его сутью, сутью, которую понимает только он. Это стало его смыслом, его мучением, его радостью и печалью. Все это стало его жизнью. Да, он уже тогда воспринял Ксату радостной и бесконечной мукой, которая навсегда вошла в него. И от которой он никогда не сможет избавиться. Уже тогда в нем не было сожаления об этом. Не было – была только боязнь, что хотя бы часть этого он может утратить.
Теперь он понимает, теперь он до конца понимает, в чем была особенность Ксаты.
Первое, о чем он подумал наутро, проснувшись, – была Ксата. Увидев слабую тень и солнечный свет в проеме хижины, он вспомнил все о ней – и ощутил тревогу. Тревогу, боязнь – потому что он мучительно хотел сейчас ее увидеть. Желание это было почти бредовым, несбыточным. Увидев реальность солнечного света, и тени, и того, что он знает о Ксате, он думал – не может быть, чтобы это могло случиться. Но ведь она же здесь, в деревне. Он видел ее вчера, он знает, что она живет, что существует.
Потом он вспомнил, как она танцевала, и застонал – это было невыносимо.
Но ведь Ксата не знает ничего о нем. Она даже не знает, что он хочет ее увидеть. И этот припадок мучительной ревности при воспоминании о ее танце – он ни на чем не основан. Она ведь н е з н а е т.
Он лежал и смотрел в проем. По звукам, по особой хрупкой тишине он наконец понял, что один в доме, хозяйки и матери нет. Неужели осуществимо его мучительное несбыточное желание увидеть Ксату? Где же он ее увидит… На берегу. Конечно, на берегу. Жители деревни ходят на берег озера. Туда должна прийти и Ксата.
Он встал, оделся и пошел на озеро. Он шел сквозь давно проснувшиеся заросли, сквозь шум обсохших и начинающих прогреваться камышей, сквозь треск раздвигаемых листьев. Пришел на обычное место, туда, где всегда купался. Разделся и вошел в озеро – но не испытал привычного облегчения. Сделав несколько гребков, почти не чувствуя ласковых прикосновений воды, он повернул назад, вышел на берег и оделся. Он должен был разыскать Ксату, он не мог сейчас что-то делать, о чем-то думать, пока не увидит ее. Он стал обходить озеро – медленно, крадучись, скрываясь в деревьях и кустах, долго наблюдая за каждым, кого встречал у воды. И каждый раз, замечая людей, думал, что это Ксата, – и ошибался. Вот полосатая накидка… Какое было бы счастье, если бы это оказалась Ксата. Он подошел бы к ней и просто рассказал бы ей все, что с ним происходит. Женщина, присев на корточки, что-то делает, вытянув руку. Нет, это не Ксата. Он прошел еще – и увидел над водой коричневую спину. Не Ксата. Это купаются мальчишки. Озеро было большим – и все-таки он обошел почти весь берег, сейчас, пока еще не кончилось утро, довольно часто встречая людей.
Потом наступил день, озеро окутала жара, берега стали пустынными.
Нет, пойти в деревню, спрашивать у кого-то о Ксате он не мог. Он должен был увидеть ее наедине. Так, чтобы об этом никто не знал. Он понимал – только тогда он сможет избавиться от того, что сжигает его внутри, сказать, что он не может без нее, что он задыхается. Да, сказать это было бы избавлением, освобождением. Да, он задыхался – оттого, что возможность увидеть ее была слишком реальной, слишком достижимой. Вдруг он понял – ему именно нужна сейчас даже не любовь Ксаты, не призрачная возможность взаимности. Есть просто потребность – сказать ей о том, как ему необходимо ее видеть. Да, Ксата просто должна понять важность этого, важность того, что он должен увидеть ее. Она должна понять то, что он понял о ней. То, что он понял все – понял наглость ее обнаженного танцующего тела, понял целомудренность каждого ее движения, понял силу, беспомощность и бесконечное понимание ее взгляда. Кроме того, он должен увидеть ее. Увидеть ее нос, щеки, губы, глаза. Увидеть молча, ничего не объясняя ей. Увидеть – и, если возможно, смотреть бесконечно. Смотреть ничего не объясняя. Смотреть – столько, сколько возможно. Смотреть, только смотреть – больше ему сейчас ничего от нее не нужно.
Но этот мираж не сбылся. Он понял, что нужно возвращаться. Он пришел в хижину, мать уже ждала его.
– Что с тобой? – она заглянула ему в глаза, и он через силу улыбнулся:
– Ничего, ма.
О том, что с ним происходит, он не мог сказать никому. Даже – матери. Даже – Омегву.
– Печально, Маврик… – мать улыбнулась. – Но нам скоро уезжать.
Он вдруг вспомнил – да, действительно, они должны скоро уезжать. Но как же Ксата? Он должен увидеть ее до отъезда. Вдруг он понял – теперь отъезд, Париж, ипподром, дела, которые его там ждали, лошади, заговор против Генерала, отец – все потеряет смысл, если он сегодня, в крайнем случае завтра не увидит Ксату.
– Накупался? – мать потрепала его по голове. Он постарался скрыть от нее свое состояние, постарался обмануть ее – и это ему удалось.
– Да. Вода отличная, ма.
– Отдыхай. Приедем в Париж, в это пекло… О-о… Там уже не подышишь.
Наблюдая, как мать расставляет на веранде стулья, как раскладывает еду, он говорил ей что-то незначащее, смеялся, шутил. Он будто пытался отвести мысли матери от своего состояния. И мать, как ему показалось, встревоженная сначала чем-то – чем-то неясным, что она ощутила в нем, успокоилась. Он увидел, что она опять почти счастлива – тем счастьем, которое она ощущает только здесь, когда бывает вместе с ним и Омегву. Они сидели за столом, ели, наблюдая за застывшим внизу озером, и он не замечал, что повторяет про себя: Ксата.
– Ма… – он задержал ложку у рта, делая вид, что мысль эта пришла ему в голову случайно. – Ритуальные танцовщицы… Ну, у ньоно… Они что – дают обет безбрачия?
– Маврик, ты же знаешь, что дают.
– Но ведь они не безбрачны. И не безгрешны.
Он надеялся, что мать возразит ему, но она спокойно сказала:
– Нет. Конечно, нет.
Мать сказала это таким бесстрастным тоном, что у него все обожгло внутри. Он еле удержался, чтобы не застонать, не замычать от ярости. Но пересилил себя – и выдавил, мучительно чувствуя безразличие этого вопроса:
– И – это в самом деле?
– Ради бога, Маврик… – мать по своей привычке отломила хлеб. – Кого сейчас интересуют ритуальные танцовщицы? И вообще – ты что, веришь, что обеты выполняются?
– Ммм… – он что-то промямлил.
– Ешь. Вкусно?
– Вкусно. А что – Омегву сегодня не придет?
– Нет. Он устал. Работал с утра. Хочешь, пойдем к нему? Вечером?
– Спасибо… – он попытался придумать какую-то причину, чтобы не идти к Омегву. – Хочется побродить. Напоследок.
– Ну, как знаешь.
– Мам… – он опять старался скрыть свой интерес. – Ну, все-таки… Ты ведь должна знать… все эти обычаи.
– Ты о чем?
– О ритуальных танцах.
– Я так же далека от этого, как и ты.
– Ты не хочешь рассказывать?
– Ну что ты пристал? – мать протянула руку, ласково погладила его по затылку, будто пробуя на ощупь волосы. – Маврик… Это в твоей манере – пристанешь, так уж не отвяжешься. Пока все не выяснишь.
– Ладно, ма. Я просто так.
– Люди давно уже не живут по обычаям.
Вечером он пошел в деревню. Он искал ее. Он даже сидел на одной из скамеек на площади – но Ксату не встретил.
У ипподрома на «джипах» сидели белые и черные в серой форме, без знаков отличия.
– Мсье Кронго? – европеец соскочил с «джипа». Ему не больше двадцати, на гладкой коже впалых щек, под острым носом свалялся юношеский пушок. – Лейтенант Душ Сантуш, командир патрульной роты. – Душ Сантуш, улыбаясь, махнул рукой, и к нему подошли еще двое. – Мсье Кронго, мы приданы вам для охраны объекта. Попутно выполняем задачу конвоирования военнопленных.
Вдоль стены ипподрома сидела длинная вереница оборванных африканцев. Все они держали руки за головами.
– Будут какие-нибудь указания? – в глазах Душ Сантуша сквозила собранность.
Почти на каждом военнопленном Кронго видел следы побоев. Чья-то рассеченная скула. Красный наплыв на лиловом.
– Не смотрите так, мсье Кронго, – лицо Душ Сантуша искривилось. От этого он сразу стал старше лет на пять. – Отца… Подвесили его на двух сучьях… Вырезали ему…
Лейтенант до крови закусил губу. Ближний к ним военнопленный отвернулся, будто боялся, что его начнут бить. Душ Сантуш жалко, по-детски сдерживался, чтобы не заплакать.
– Вы понимаете, что?
На его усиках висел пот. Военнопленный – тот, что отвернулся – теперь неподвижно смотрел на Кронго. Все лицо военнопленного было разбито, губы превратились в месиво, но Кронго узнал эти глаза, эти застывшие изогнутые брови. Да, его забрали в армию – совсем недавно. Нос, похожий на крышу пагоды, с вислыми краями.
– Мулельге?
Военнопленный не шевельнулся. Один из конвойных поднял автомат.
– Господин Душ Сантуш, – Кронго попытался вспомнить. – Господин Душ Сантуш, это мой старший конюх, Клод Мулельге. Он мне нужен.
– Поднять! – рявкнул Душ Сантуш.
Конвойный махнул автоматом. Мулельге встал. Странно – почему Кронго думает сейчас не о том, что тело Мулельге иссечено, а о том, что лошади спасены? Теперь есть на кого оставить конюшни.
– Вы можете взять его, если ручаетесь, – Душ Сантуш отвернулся: желвак у его скулы двинулся. Конвойный вопросительно посмотрел на него. Поднял одну бровь. – Отдай, Поль!
Мулельге тупо смотрел на Кронго. Уловив кивок, двинулся за ним. Они шли по центральному проходу главной конюшни. По звукам Кронго чувствовал, что конюшня неспокойна, слышался частый стук копыт, шарканье. Лошади застоялись.
– Здесь.
Мулельге заученно остановился. Не глядя на Кронго, открыл дверь под табличкой «Альпак». Кронго видел, что Мулельге весь дрожит, его недавно били.
– Мулельге, поможете мне… набрать людей… Завтра…
Мулельге кивнул.
– Как вы себя чувствуете? Вам плохо?
Кронго показалось – звякнуло где-то, стукнуло. И пропало. Лоснящаяся коричневая шея Мулельге напряглась. На ключице неторопливо бьется толстая набухшая жила. Это понятно только африканцу. Ньоно привязывают провинившихся к муравейнику. Они находят преступников везде, в любом городе, заматывают синим бинтом рот и бегом несут в джунгли. Тело преступника и срубленное дерево составляют одно целое. Сухой стук ствола, непонятный белому.
Альпак, повернувшись, смотрел на Кронго. В темных глазах стояла доброта. Черные подтеки под глазами рябели капельками слизи. Альпак дернулся, когда Мулельге попытался накинуть уздечку. Волна гладкой шеи дрогнула, движение мышц возникло – и уплыло к широкой груди.
– Все хорошо, – сказал Кронго.
Альпак чуть присел на задние ноги, дрогнув длинными черными пястями… У него идеальная спина – короткая, прямая, с отличными почками. Круп с еле заметной вислинкой.
– Мулельге, вы понимаете, что иначе нельзя? Мы должны спасти лошадей.
Нос Мулельге, похожий на крышу пагоды, был покрыт засохшей кровью.
– Можно выводить? – Увидев, что Кронго ждет ответа, Мулельге добавил: – Месси Кронго, я понимаю.
– Хорошо, веди.
Копыта Альпака зацокали в проходе. Культ лошадей, скачки, бега привезли в Африку белые. Черному непонятна любовь к лошади европейца – любовь к любой лошади. К любой собаке, кошке. Черные не понимают такой любви. Можно любить какую-то лошадь, но не всех лошадей.
Мулельге, чмокая, оттягивал уздечку в сторону. Солдаты Душ Сантуша сидели и лежали в центре ипподрома, около дорожки. Военнопленные сгрудились понурой толпой у трибун; рядом курили два белых автоматчика.
– Конек, а? – сказал веснушчатый солдат с облезлым носом.
Альпак дернул головой, Мулельге повис на уздечке. Кронго казалось, что черные изможденные лица ненавидят его. Они пропускают его сквозь строй. Глаза навыкат… Лиловые губы в трещинах…
Пятилетний Кронго висел на руках матери. Только что кончился заезд. «Можешь потрогать». Губы матери улыбаются. Перед ним потный шершавый круп. Он бьется под ладонью, дышит, колется, живет. «Ты не боишься лошадки?» Он не ответил матери. Он вцепился в круп, как в волшебный подарок. Уже тогда он понимал в лошади больше, чем мать, и видел то, что для нее было скрыто. Отец – с кривой улыбкой, пляшущий в седле, добрый чужой человек в жокейской шапочке. Молодой, белозубый… Все это промелькнуло – и исчезло.
Да, сейчас, когда Мулельге выводит Альпака, когда лежат и сидят вокруг солдаты, снова возникла мысль – тягостная, ненужная. Кронго подумал о том, что он все-таки не должен был ехать сюда. Что его просто потянуло… Надо было остаться в Европе. Но зачем он об этом думает. Он ведь может придумать тысячу оправданий тому, что случилось.
Через день он снова отправился к озеру. Ему вдруг показалось, что желание увидеть Ксату стало другим, переменилось, стало уже не мучительным, болезненно-непреодолимым, а легким, почти – будоражащим, почти придающим силы. Сначала ему казалось, что он уже устал от этого желания, даже – оно причиняет ему тупую боль. Теперь он понимал, что это желание нужно ему, необходимо. Он уже решил преодолеть себя, пойти в деревню и просто спросить, где живет Ксата. Просто – найти ее.
Поэтому, пробираясь сквозь заросли, почти забыв о возможности встретить Ксату именно здесь, наедине, как он хотел, – он, увидев у самой воды ее темно-голубую накидку, не сразу поверил, что это она. Но Ксата повернула голову – и он оказался рядом.
Ксата смотрела на него со странным, легким напряжением – и одновременно с насмешкой. В этом напряжении, в этой насмешке он почувствовал какое-то обещание, ожидание чего-то, что может случиться, – обещание, о котором он даже не смел подумать.
– Здравствуйте, сударь, – еле заметно поклонившись, сказала она. – Как спали?
Вдруг он понял, не веря еще себе: в этом шутливом поклоне, в этом кривлянье как раз и было обещание. С трудом понимаемый им намек – именно в этом кривлянье, в этом насмешливом и одновременно пытающемся что-то скрыть: «Здравствуйте, сударь».
Он вдруг понял – все его опасения, все страхи, что он ее не встретит, были напрасны. Но она уже отбросила свой шутовской тон, она стояла, держа у горла накидку, внимательно изучая его. Нахмурившись, будто пытаясь что-то разглядеть в нем, в его глазах, в движениях его лица. Он понял: в этом взгляде живет сейчас напряженная, мучительная искренность – но ведь искренность и есть обещание. Но этого не может быть, подумал он. Но это сейчас не удивляет его, он воспринимает это как должное. Он видит сейчас красоту Ксаты – удивительную, неповторимую. Видит соразмерность ее лица, ту же прозрачную глубину глаз. Эта глубина и эта соразмерность остались такими же, какими были тогда, когда Ксата сидела в хижине. И снова он ощутил сладостное чувство, что-то обещающее ему, за которым обычно должен был следовать испуг, – и понял, что в нем уже нет испуга.








