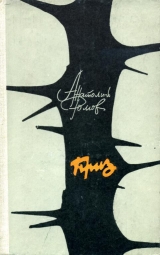
Текст книги "Приз"
Автор книги: Анатолий Ромов
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
– Вы выиграли девять тысяч долларов… – улыбается посредник. – Сейчас пришлют ведомость, и вы получите всю сумму…
Пресвитер стоит перед Кронго и Крейссом и шевелит губами. В этом шевелении что-то робкое, растерянное. В глазах пресвитера, серых и ясных, вина, что он выиграл, будто пресвитер совершил то, что он ни в коем случае не должен был делать. Сейчас он просит прощения именно у него, у Кронго.
– Господин пресвитер… Я от всей… Вас поздравляю… – Крейсс поднялся со стула.
Ударил марш. Заният внизу вывел на дорожку Казуса. Жеребец покачивал головой, увитой красными лентами. На шее Занията зеленел огромный венок. Брат Айзек смотрит на пресвитера.
– Мистер Кронго, я надеюсь, – пресвитер улыбнулся, и Кронго понял, что он сказал это с особым значением. – И все-таки сомневаюсь, сомневаюсь. В сомнении пребывает душа, в сомнении великом… Что есть человек и что есть бог…
Пресвитер вышел. Кронго шагнул к двери, но перед ним осторожно встал Лефевр.
– Подождите, мсье Кронго, подождите, – Лефевр улыбался, чуть-чуть отводя глаза в сторону. – Немножко подождите, не уходите.
Кронго обернулся, не понимая, почему его не выпускают. Прямо на него с улыбкой смотрит Поль. Этой улыбкой красивый креол как бы приглашает, приказывает – и вы тоже улыбайтесь в ответ, не смотрите просто так. Это выражение глаз у меня странное, но улыбайтесь, улыбайтесь. Крейсс сидит спиной, он пишет, будто не замечая, что Кронго не выпускают.
– Но… мне надо, – Кронго попытался взяться за ручку двери. – Господин… комиссар…
– Ничего, ничего, мсье, не беспокойтесь, – Поль прижал низ двери ногой. – Сейчас, сейчас.
– Кронго, сядьте, пожалуйста, – Крейсс обернулся. Поль, переглянувшись с Лефевром, отнял ногу от двери, отошел, придвинул стул. – Кронго, я вам очень благодарен, – Крейсс потер двумя пальцами виски. – Что у вас там в кармане, давайте, не тяните.
О чем Крейсс? От бега, от слов пресвитера мысль перешла к этому.
– Кронго, вы же понимаете, что за пресвитера я вам готов простить что угодно… – Крейсс кивнул Лефевру, тот отошел от двери. – Я даже запишу вам это как заслугу перед государством. Поль, объясни, как все было… Да садитесь вы.
– Я сам видел, мсье комиссар, у четвертой кассы… – Поль осторожно придвинул к Кронго стул. – Из рук в руки. Передал и отошел к окошку.
– Ага… – Крейсс неторопливо закурил. – Его взяли, конечно?
– Он давно на набережной, его отвезла патрульная группа.
Крейсс отложил сигарету.
– Кронго, я могу вам прочесть все, что написано на вашей бумажке, – комиссар открыл ящик стола. – Я абсолютно уверен, что вам листок передали случайно, вы не знаете никого из задержанных… это ведь так?
Крейсс расправил мятый прямоугольник, который уже видел Кронго.
– Итак… Так, так, так… Ну, это неинтересно… Ага. Вот… С благословения своих хозяев палач Крейсс проводит политику зверств и геноцида. Но дух народа не сломить… Так… пытками и террором… Ну, и так далее… – Крейсс потянулся за сигаретой. – Так, вот конец… Ага… Именем народа… Суд народа приговаривает военного преступника Крейсса к смертной казни. Палачу не уйти от возмездия… Приговор будет приведен в исполнение. Давайте ваш листок, Кронго, ведь это смешно.
Кронго машинально достал скомканную бумажку. Крейсс осторожно расправил комок.
– Одинаковые… Кронго, поймите, вы не посторонний. Вы теперь наш, а не их… Сегодня они грозят убить Крейсса, а завтра очередь дойдет и до вас. Кронго, не сердитесь, но если мы волки, вы художник, вы сильны своим искусством… Перед ними и перед нами вы пташка беззащитная… Вы элемент, генетически чуждый этой стране…
От точек по золотистым зрачкам Крейсса расходились светлые трещинки. Взгляд был твердым, маленькие веки изредка начинали моргать.
– Вам не нужно это, не нужно, поймите… Ни то, чем занимаются они, ни то, чем занимаемся мы… Вы на своем месте.
Крейсс пошевелил пальцами, и Лефевр открыл дверь.
– Идите и простите, – Крейсс взялся пальцами за виски. – Да, Кронго, еще минутку… Они не пытались установить с вами связь?
Стоя в дверях, Кронго видел, как Крейсс закрыл глаза, упершись в веки тыльной стороной больших пальцев. Встряхнулся, энергично подвигал губами.
– Впрочем, не нужно, Кронго, не нужно… Я и так зря затеял разговор… Одного взгляда на вас достаточно. Кронго, мы почти ровесники, вы должны понимать… Не может быть, чтобы вы ничего не понимали…
Крейсс встал.
– В случае, если вам что-нибудь понадобится… Вы понимаете, Кронго.
Крейсс протянул руку, мягко сжавшую пальцы. Вместе с этим мягким осторожным пожатием, вместе с чуть влажноватой прохладной ладонью, которая живет одновременно со взглядом золотистых зрачков со светлыми трещинками, вошло воспоминание.
Два восемнадцатилетних парня дали ему тогда, в Париже, оплеуху… На улице, ему было всего четырнадцать лет, и он их встретил случайно… Он так и не понял, за что. Но это не имеет никакого значения. Обиды нет, и нет боли… А есть то, что он здесь. Но это решила мелочь – связка ключей от бунгало. Золотушный тогда ему подмигнул: «Держи, это за третьей портовой, мой собственный… Белье в шкафу… Перед отъездом отдашь….» Оплеуха, которую ему дали в Париже… Бумажка, которую случайно сунули ему в руку и которую он положил в карман, – все это само собой. И взгляд Крейсса, спокойный взгляд золотистых зрачков со светлыми трещинками. В памяти Кронго снова восстановилось, как приближалась к финишу Перль. Не было никакого сомнения, что она придет первой. Это и есть само собой. Ей оставалось каких-нибудь пятнадцать метров… Но вот за ее спиной медленно возник Казус. Он поднимает колени так, будто хочет подтянуть их к горлу, он прилипает к черному телу Перли, страшным усилием отдирает ее от себя, чтобы первым пройти финишный створ… Само собой…
И сейчас, прислушиваясь к темноте, прислушиваясь к ночи, которая нависает над ним, прислушиваясь к океану, к треску цикад, к почти беззвучным шагам Фелиции наверху, – он так же остро ощущает смерть Ксаты, как и тогда. Эта смерть так же остро живет сейчас в нем, так же остро получает свой отзвук и свою боль, как и тогда, почти двадцать лет назад… Все это время она не умирала для него… Ксата – не умирала. Вернее – именно все это время она умирала. Умирала бесконечно. Все эти двадцать лет. Она умирала бесконечно – в нем. Боль ее смерти, боль ее крика – вот этого крика, который он отчетливо слышит, когда она бежала, раненная, за домами… Все это – умирало. Боль этого заячьего крика до сих пор живет в нем… Но в нем живет и боль ее любви… Ее нежности… Он не может забыть ни одной секунды этой нежности. Этой любви. И никогда не сможет. Никогда.
Что же с ним было – тогда, после ее смерти? После слов Ндубы, После окаменелости. После бесконечного столбняка, Он шел по шоссе. Да – после того, как он понял наконец, отчетливо понял, что Ксаты нет. Он ушел. Он попытался привыкнуть к мысли, что ее больше никогда не будет. Потом его подобрали. Куда-то везли. Но это казалось ему невозможным. Привыкнуть к этой мысли. Мир не мог существовать без Ксаты. Не мог. Мир не мог существовать без нее. Без обезьянки… Без обезьянки с оттопыренным ухом… Которая умела только одно – танцевать. Но ведь ухо было ни при чем. Она была самая красивая. Самая красивая… И это беспрерывно металось в нем. Беспрерывно… Это стучало в голове. Разрывало. Душило. И он понимал – это стучит каждая секунда их нежности. Их любви. Каждая секунда – оживала. И металась. Тогда… Она оживает и сейчас – с прежней силой. Так же, как оживала, и протестовала, и кричала ему – нет. Нет… Этого не может быть… Не может. В мире не может быть этого.
И сейчас, отдаленная временем, каждая секунда их нежности и любви кричит. Продолжает кричать. Кричать что-то – понятное только ему.
Он уехал в Берн. Сел в самолет – после того, как его подобрали в нескольких километрах от Бангу. После того, как высадили из автобуса у аэровокзала. Он бесчувственно сидел в самолете. Бесчувственно, не понимая ничего. Если он сейчас не умер, не сошел с ума, – значит, уехать в Берн для него будет самым лучшим. И самым лучшим, спасительно лучшим будет – бесчувственно сидеть в самолете… Пить, не напиваясь… Бесчувственно проваливаться в какие-то гостиницы… И – ничего не принимая, не желая ничего понимать – выслушивать какие-то слова… Все это – бесчувственно, безразлично.
Но ведь он остался жить. Остался. Он не умер, не сошел с ума. Он остался жить – несмотря на то что умерла Ксата.
Потом… Да – потом. Потом были месяцы. В Женеве, в Берне. Даже – годы. Он втянулся. Да… что называется… втянулся. Втянулся… В работу. Работа была единственным, что могло тогда заглушить боль. Тогда. Хотя бы на время. Работа была спасением – спасением от нежности и любви, которые беспрерывно продолжали кричать в нем. Спасением от сумасшествия. От собственных мыслей. От ежедневного умирания.
Но проходило время. Сколько же? Три года. Пять лет. Да. Именно – проходило несколько лет. Эти несколько лет прошли – и боль стала затихать. Затихать? Нет. Нет, она не прекращалась, она оставалась в нем. Она жила в нем по-прежнему, он знал – боль никуда не уйдет, он уже не сможет никогда от нее избавиться. Но, оставаясь, боль приобретала другое качество. Боль, оставаясь памятью о Ксате, преображалась, становилась уже чем-то иным, чем была вначале. Он уже мог ее терпеть. Иногда даже это было просто тупое ощущение утраты – не больше. И даже иногда – он мог ее забывать… Сначала – лишь на короткое время, на несколько дней. Потом – на несколько недель…
Чем же были эти дни и недели?.. Чем? Он не помнит. Все было однообразно. Карусель заездов. Работа в конюшне. Берн. Женева. Потом… Потом пришло то, что и должно было прийти. Вызовы международных федераций. Поездки. С этим совпало – увлечение скачками. Да, это было основным – его успех в работе со скакунами. Успех был во всем, хотя он и не ждал его, – в подборе лошадей, в соревнованиях, в международных скачках. Но это была только работа. Только работа, ипподром – и ничего больше. Много лет сразу же после ипподрома его окружала бесцельность, бессмысленность… Он не знал, чем занять время; Он привык держать себя в форме… Да – выпивка, может быть… Клуб. И – все. В его жизни тогда не было женщин. Совсем не было, долго – до того времени, пока он не встретил Филаб.
Филаб. Он встретил Филаб. Он ведь встретил Филаб.
Но и Филаб, первая встреча с ней, все, что произошло потом, в бунгало, – все это было лишь случайностью. Эпизодом – который мог так и остаться лишь размытым воспоминанием о шуме океана, о золотушном и связке его ключей. Этот эпизод совсем не должен был стать тем, чем стал, – женитьбой, рождением детей…
Наверное, все дело было в том, что Филаб его любила. Он ощущал ее любовь непрерывно, в течение многих лет – совсем не желая ощущать… Эта любовь была ему не нужна. Не нужна…
Однажды, в один из приездов, после скачек, сидя все в том же бунгало, он вдруг подумал: начало этой любви, превратившейся потом почти в свою крайность, чуть ли не в унижение, – начало всему этому положило удивление… Филаб была удивлена его холодностью. Удивлена – тем, что до сих пор она нужна ему только иногда. Что он не отвечает на ее письма и звонки. Что он скрывается, что он холоден.
Да, причиной ее любви было удивление… Она была готова ждать. Она была готова приехать к нему в Берн. Или – дожидаться, пока он сам приедет к ней, пусть ненадолго, пусть не к ней самой, пусть – из-за какого-то Кубка. Лишь бы – хоть изредка его видеть. Хоть изредка.
Филаб не знала, конечно, чем был вызван его первый приезд в столицу – из Берна. Чем можно было объяснить его согласие на участие в местном Кубке, который считался третьеразрядным. Ему вдруг захотелось услышать язык ньоно. Просто – поговорить, перекинуться двумя словами с кем-то на улице.
С манежа доносилось негромкое щелканье пальцев, ласковый голос, чмоканье. По звуку копыт, их легкому дробному перетоптыванью Кронго определил, что жеребенок бежит по вольту тротом, почти рысью. Голос конюха, который гонял жеребенка, сходил на шепот, но здесь, в коридоре, звучал неестественно громко:
– Алэ… алэ… Цо-о, цо-о… Так, так… Хорошо, хорошо, маленький… Алэ, алэ! Цо-о… Цо-о… Алэ, алэ.
Эти слова, глухое щелканье копыт, разговор конюхов и жокеев рядом, в раздевалке, примыкающей к залу, были знакомы и понятны Кронго с детства. Они окружали его всегда, как воздух, он привык к ним, вырос с ними, не замечал их.
– У-у, – кряхтел один из конюхов. Кронго узнал голос Седу, потом понял, что ему делают растирание, по старому обычаю бауса. – Ой, миленький… Ой, пощади… Ах, какой хороший… Ух, какой хороший… А вот… А вот… Вот так… А вот по спине… Ой, кончаюсь… По спине… Ох, хорошо!.. Ох, хорошо!.. Вот… Вот.
Кронго прошел в конторку, взял лист бумаги.
– Ложись на спину… – шлепнула ладонь.
– Второе удовольствие после бабы… – захрипел голос Седу.
Кронго понял, что он переворачивается. В просвете двери была видна часть помещения. Кронго разглядел Амайо, Фаика, Тассему, Мулонго, Литоко, недавно взятого в жокеи. Тщательно вывел на листе – «Литоко». Поставил вопросительный знак. Литоко… Неужели Литоко? Но почему именно Литоко?
– Господин директор! – Тассема помахал в просвете рукой. – Не хотите массажик? Давайте к нам!
– Ух, хорошо! – крикнул Седу. – Ух, хорошо! Баб не пускать!
– Нет, спасибо, – Кронго зачеркнул вопросительный знак, потом само слово «Литоко». – Спасибо.
– А ты что, баб боишься? А, Седу?
– Пониже, пониже… – сказал Седу. – Ух… Ух… По-цыгански все делаешь… Я тебе не длинноносый… Разве так делают… Ты с живота начинай…
– Ладно… – сказал голос Мулельге. – Лежи, а то сейчас… оборву… Живот не выпячивай…
Но этот человек, тот, о котором думает Кронго, человек Крейсса, может быть самым незаметным. Таким, как Фаик. Фаик, старший конюх молодняка, с вечно испуганными глазами. Но почему Фаик? Почему не Тассема, не Седу? Нет, Литоко верней, Литоко взят недавно. Кронго снова вывел на листе «Литоко».
– Она ляжки себе натерла, – будто отвечая ему, сказал голос Литоко, и конец фразы покрыл хохот.
– Алэ, алэ… – донесся с другой стороны голос с манежа. – Так, маленький… Цо-о… цо-о… цо-о… Алэ…
– Ну, Литоко! Ну, Литоко! А ты… – сквозь хохот вырвался фальцет.
– Литоко, ты проверял? Ляжки проверял?
– Да я б на его месте… Девка сок…
– Смотри, как лошадь ногами держит…
– Ну да… Тебя бы она подержала…
– Не трогай девку…
Об Амалии. Да, конечно. Кронго вывел на бумаге букву «А», поставил вопрос. Амалия? Слишком молода. Но не исключено. Совсем не исключено…
– Кончаюсь… – вздохнул Седу. – Мулельге, пощади… Хорошо… Так, чуть пониже… хорошо… так… так…
– Борода, молчи. Тебе тут не хлев на ферме, тут наши порядки…
– Ладно, порядки… Порядки всегда одни…
Глаза, вот что, глаза, подумал Кронго. Он вспомнил выражение глаз Лефевра, Поля. Если он хочет узнать, кто здесь, на ипподроме, человек Крейсса, он должен вспомнить выражение глаз. Это выражение похоже – и у Лефевра, и у Поля, и у тех двух негров, Амаду и Гоарта. Сам не понимая зачем, Кронго раскрыл лежащий на столе журнал работы с молодняком. Слева были неровно вписаны фамилии конюхов, справа, под строчкой «работа», – имена жеребят. Амайо – Чад, Крикет, Карс, Стелла… Фаик – Кондор, Аллюр, Аладин… Бланш – Диамант… Бланш. Крючконосый, с парижским выговором. Бланш. Кронго поставил против фамилии Бланш крестик. Как он сразу не подумал о нем. Но зачем он поставил крестик? Ведь крестик заметят.
– Цо-о… – донеслось с манежа. – Цо-о… Алэ… Алэ…
Это Бланш. Голос Бланша. Да, конечно. Жеребенок Диамант. Он мог бы узнать этот голос раньше. Кронго зачеркнул слово «Литоко». Но почему ему важно знать, кто именно человек Крейсса? Какое это имеет значение? Никакого.
– Моя б воля, я б этих длинноносых… – сказал Тассема. Кронго прислушался. О чем они говорят?
– Тсс… – шикнул другой голос. – Не тявкай.
– А что «тсс»? – Тассема понизил голос. – Все свои, – хохотнул. – Месси Маврикий? В этом вопросе дурак ты. Да брось, ньоно чистокровный… Фамилия, ты что, не понимаешь…
Кронго заметил, как Фаик незаметно глядит в просвет двери.
– Наш, наш… – сказал Седу. – Все равно не шуми.
Интересно. Почему ему, Кронго, приятно это слышать…
– Давай попону… – было слышно, как Мулельге хлопнул Седу по спине. – Заворачивай его скорей.
Кронго мелко, тщательно порвал листок с написанными фамилиями. Взял бритву, осторожно соскоблил крестик. Но чего он боится? Зачем он это делает?
– Амалия! Иди сюда, Амалия! – крикнул Литоко. – Загляни, загляни, не бойся! На минуту!
– Ну, что вам? – тонко спросил голос Амалии в наступившей тишине. – Дураки.
Хлопнула дверь, все густо захохотали. Кронго ссыпал клочки бумаги в корзину, встал. Глупости. Он не должен думать об этом. Его это не должно касаться. Он вспомнил странное чувство легкости, которое он испытал, сидя рядом с пресвитером и Крейссом в ложе. Может быть, не нужно противиться этому чувству. Но тогда, может быть, он должен узнать, кто на ипподроме человек Фронта. Но тоже – зачем? Он просто устал, просто устал. Он должен работать, работать… В раздевалке стоял гниловатый запах жгучей смеси и курева. Остывающие Седу, Амайо и Чиано сидели, по горло завернувшись в попоны. По их лицам крупно и густо тек пот. Губы Седу блаженно отвисли, белки глаз виновато повернулись, наблюдая за вошедшим Кронго.
– Все в порядке, месси, – Мулельге осторожно поглаживал Седу по плечам, чтобы пот лучше впитался в попону. – Кариатиду водили с поддужными… Бвана, Ле Гару, Мирабель сейчас на дорожке… Бвана прошел маховые за одну пятьдесят семь… Чиано сидел, он сам скажет…
– А Альпак?
Этот вопрос возник сам собой после цифры «одна пятьдесят семь». Время Бваны всегда было хуже времени Альпака. То, что Бвана сейчас на маховых показал скорость выше рекордной, только подтверждает предположение Кронго, что Альпаку нет равных в Европе и Америке.
– Альпак… – Мулельге сделал Кронго знак бровями, Седу скосил глаза, Тассема незаметно постучал согнутым пальцем по груди.
Суеверие, подумал Кронго. Они боятся, что Альпак оборотень.
– Альпак сегодня.
Мулельге не договорил, потому что земля под ним дрогнула, задребезжали стекла. Конюхи выскочили, на пол полетели попоны. Взрыв раздался снова. Мулельге вытолкнул Кронго из двери манежа, подталкивая, побежал с ним по дорожке.
– Ложись! – закричал выскочивший навстречу автоматчик. – Ложись, кому говорю! Буду стрелять! На землю! Все на землю!
Мулельге бросился на дорожку, увлекая за собой Кронго. Чувствуя сухую землю, которая терла щеку, Кронго видел, как цепь автоматчиков в серой форме бежит к конюшням и манежу. Снова тупо вздрогнула земля. Еще раз…
– В порту… – выплевывая попавшую в рот пыль, тихо сказал Мулельге. – В порту… взрывают… Танкеры из Европы…
– Лежать! – крикнул автоматчик.
Мулельге осторожно повернул голову, и Кронго по направлению его взгляда увидел конюхов, стоящих у наружной стены манежа с поднятыми руками.
– Вы знаете, вы знаете, месси… – Мулельге скосил глаза, придавая какое-то особое значение своим словам. – Тут с Альпаком… Они ведь говорят, оборотень… Так вот… Я тут ни при чем… Но конюхи…
Щека его была плотно прижата к дорожке.
– Но это глупости… – Кронго видел черный дым, клубами поднимавшийся далеко за ипподромом. – Я знаю его со дня рождения.
– Глупости, месси, глупости… – в глазах Мулельге был явный вопрос – могу ли я вам доверять? – Глупости-то глупости, но Ассоло хочет перебираться в другую конюшню… Если он уйдет, других силой не заставишь…
Они услышали, как кто-то бежит.
– Болван! – Кронго узнал голос Душ Сантуша. – На передовую захотелось? Это директор ипподрома.
Кронго почувствовал, как лейтенант под локоть поднимает его.
– Простите, господин директор.
Автоматчик стоял навытяжку. Душ Сантуш снял фуражку, вытер пот.
– Мсье Кронго, простите. Часовой превысил власть, он будет наказан. В порту только что взорваны четыре танкера…
Мулельге смотрел под ноги. Кронго уже не пытался что-то прочесть в его взгляде. Они подошли к манежу. Рядом с солдатами, пожевывая погасшую сигарету, стоял высокий европеец в штатском. Кронго хорошо помнил его, этот европеец прохаживался во время открытия ипподрома вместе с Лефевром у паддка. Глаза европейца кажутся очень большими, огромными, но только теперь Кронго понял, почему. Под ними мелко дрожат длинные набухшие мешочки. Они напоминают срез луковицы, окаймляя каждый глаз, а сами глаза от этого кажутся очень большими, будто вылепленными из глины. Кронго попробовал подсчитать мешочки и насчитал четыре под каждым глазом.
– Пощупай… – сквозь сигарету прошепелявили губы европейца.
Один из охранников, Кронго уже хорошо знал его, это был Гоарт, неторопливо засучил рукава. У Гоарта чуть удлиненный, матово-шоколадный подбородок, на нем редко вьются волосы, слипаясь в иссиня-черную бородку. Вот Гоарт что-то прошептал, подошел к краю стены, там стоял Мулонга. Сделал легкое движение, словно обнимая; на какую-то долю секунды Гоарт застыл, казалось, он задумался. Будто очнувшись, пощупал спину Мулонги. Потом кисти Гоарта погладили бока, вернулись к груди. Мулонга медленно поднял голову.
– Стоять смирно, – сказал Душ Сантуш. – Смирно.
Мулонга вытянулся. Гоарт подошел к следующему. Обыскивая, он чуть прикусывал губу, глаза его уплывали под веки, лицо каменело.
– Подонки, сволочи… – Душ Сантуш расстегнул ворот. – Четыре танкера, как хлопушки. Сволочи… Там было трое наших… Вырвал бы им кишки…
Кронго следил, как кисти Гоарта ловко перебегают по боку конюха, которого он обыскивает. Мелькнуло – ничего в моей жизни уже не будет. Не будет.
Проезжая по улице, Кронго удивился этой, возникшей снова мысли. Он обратил внимание на нескольких белых старух с повязками. На повязках было что-то написано, но он не мог разобрать – что. Потом он увидел молодую женщину с ребенком, загорелую, с каштановыми волосами. Он не удивился тому, что она тоже была с повязкой. Патрули с автоматами… Кронго казалось, что шофер нарочно медленно ведет машину. Так, чтобы дать возможность другим машинам как можно чаще останавливать их. Кронго с неприязнью вглядывался в круглую, бархатную, охряную щеку шофера, в медленно, бесстрастно шевелящиеся губы. Мальчишка, ему нет и семнадцати. О чем он думает? Что у него на уме? Что означает эта пилотка под погоном, эта сильно выдвинутая вперед верхняя губа – будто его обидели, – медленно шевелящиеся скулы? Стараясь подавить раздражение, Кронго стал следить за машинами. Ему казалось, что все они стараются обойти их «джип». Он вспомнил движение рук Гоарта. Но, может быть, четыре взрыва, потрясших землю под ним, потом черные клубы дыма, повисшие, как облако, привели его к мысли, что ничего в жизни уже не будет. Нет, все дело в Гоарте, в том, как он застывал, прислушиваясь, а руки двигались сами собой, медленно и чутко, будто лаская тело стоящего. Опять остановка. Пожилой европеец. Местный, слышно по выговору. Повязка на рукаве. Кронго вгляделся, пытаясь прочесть надпись на повязке: «…дские добровольцы». Что значит это «…дские»? Наконец европеец повернулся, пропуская их. «Городские добровольцы» – увидел Кронго. Но почему же это чувство, ощущение, что ничего не будет. Думая об этом, Кронго услышал громкий голос, который пронесся мимо. Голос был знаком: «Мсье… Мистер Маврикий». Кронго понял, что кричали из прошедшей мимо машины, Шофер скосил глаза:
– Догнать? Остановить?
– Да, пожалуйста… Остановите.
Непонятно знакомый голос. Черная машина, идущая рядом, прижимала их к тротуару. Круглое отрешенное лицо, руки, сжавшие баранку. Черный воротник под самое горло. Но это же брат Айзек. За ним пресвитер. Дряблые складки кожи, окружившие шею. Красноватый загнутый нос. Жалкая улыбка. Пресвитер, а кричал брат Айзек. Но глаза пресвитера совсем не те, которые помнил Кронго. Ему показалось, что в них нет уже чистоты и ясности, которые удивили его тогда, в ложе, В них страх, только страх. Скрип тормозов. Пресвитер тщетно пытается открыть дверцу, – и Кронго вышел раньше.
– Мистер Маврикий… – пресвитер тяжело дышал, с тоской глядя на Кронго. – Я давно увидел вас… я вам кричал…
Значит, это кричал он, а не брат Айзек. Но как он мог кричать так сильно? Брат Айзек кивнул Кронго. Дернул ручку тормоза под баранкой, беззвучно шевеля губами молитву. Сказал:
– Отец Джекоб, я вас очень прошу…
– Брат Айзек, брат Айзек… – пресвитер покачал головой. – Мистер Маврикий, меня кладут в больницу… У меня водянка…
Его глаза будто упрашивали Кронго – «не сердитесь, что я говорю такую глупость, выслушайте меня, для меня это очень важно – то, что у меня водянка».
– Я сегодня был на обследовании, – губы пресвитера складывались в улыбку. – Я понимаю, водянка – это ничего серьезного, врач говорил мне…
– Да, конечно, – сам не зная почему, сказал Кронго. – Конечно… мсье Джекоб. Ничего серьезного.
– Я так рад вас видеть, – пресвитер со странно заискивающим выражением взял его руку. – Мне с вами спокойней… Скажите, только скажите, может быть, мне не ложиться? Говорят, больница плохо действует… Одна моя знакомая, у нее тоже была водянка…
– Отец Джекоб… – брат Айзек сказал это, не открывая глаз. – Отец Джекоб…
– Конечно, конечно… я понимаю, брат Айзек… – пресвитер виновато заморгал. – Я держу вас за руку… брат Кронго… Мне так легче… Вам не неприятно? Брат Кронго?
– Нет, нет, мсье Джекоб… – Кронго подумал, что сказал это слишком поспешно. Он чувствовал слабое горячее сжатие пальцев пресвитера. Может быть, и ему самому тоже сжать пальцы в ответ?
– Я рад, что согласился… – пресвитер с трудом облизал губы. – Я рад, что согласился быть в жюри… Я уверен, что этот ваш Приз Дружбы пройдет успешно… Но на всякий случай… Мало ли что… я хотел вам сказать… Человек в какой-то степени беспомощен, потому что находится и во власти природы, и во власти бога… Воля дана ему, чтобы понять сущность этого… Человек не исчезает после смерти, но растворяется в природе и в боге. – Пресвитер торопился, будто кто-то мог помешать ему. – Но во время жизни он волен поступать так, что душа его будет перемещаться внутри бога в ту или иную сторону… Я говорю немного несвязно, простите меня… Но я хочу, чтобы вы это знали… В человеке происходит взаимовлияние бога и природы, и человек способен это понять…
Пресвитер осторожно подвинулся, но все еще не выпускал руки Кронго. Брат Айзек по-прежнему шевелил губами.
– Постарайтесь… Постарайтесь запомнить, – пресвитер наклонил голову, будто пересиливая боль. – Материя развивается по своим законам, а кто их создал, бог или они сами создались, неважно… Ибо материя не возникла раньше или позже бога, так как для понятий бог и материя нет «до» и «после»… Но они различны в корне… Бог пронизывает материю, но это также не имеет для них значения, ибо для них нет пространства…
– А человек? – перестав шевелить губами, спросил брат Айзек.
– Человек – третья субстанция, которая помимо своей воли возникает при постоянно возрождающемся и прекращающемся сближении двух вечных… И для природы, и для бога одинаково нет времени и пространства… Они есть только для человека… Жизнь – вечное стремление природы к богу, и в центре, как вольтова дуга, возникает человек… Он может длиться какое-то время, потом гаснуть, и снова – отталкивание и притяжение, и возникновение дуги… Спиноза считал, что необъятность бога, «это», наполняет небо и землю и все воображаемое пространство до бесконечности, а значит, и все мерзости и гадости есть одна из разновидностей бога… Он ошибался… Да, «это» производит в себе самом все глупости, все бредни, все гадости, все несправедливости рода человеческого… На одну хорошую мысль приходится тысячи глупых, мерзких… Но «это» – не сущность в высшей степени совершенная, не бог, а вольтова дуга, возникшая при очередном сближении природы и бога. Она порождает их, эти глупости и несправедливости, в борении, страшном, кровавом, мучительном…
– Но разве лучше не станет человек, отец Джекоб? – глаза брата Айзека открылись, он отрешенно щурился. – Скажите, отец Джекоб?
– Бог начинает стремиться к природе и отталкиваться от нее, но эти пульсации не зависят от воли человека, само его возникновение – лишь результат этих сближений… может быть, разновидность сближения каждый раз будет иная, может быть, улучшенная. Может быть, человек – далеко не самое совершенное, что создал господь бог… Человек этой пульсации, такой, как мы с вами… Хочу верить, хочу верить…
– Страшно… – брат Айзек закрыл глаза. – Я человек.
– А мне уже нет, – пресвитер улыбнулся. – Мне легче. Брат Маврикий, мне легче. Вы не сердитесь, что я называю вас «брат»? Я поеду в больницу. Я уже не боюсь.
– Нет, – Кронго чувствовал, как рука пресвитера медленно отпускает его ладонь. И в самом деле, глаза пресвитера стали другими, страх, стоявший в них, исчез, ушел куда-то, затаился на дне. – Но как же… Мсье Джекоб…
Он должен его спросить. Он должен спросить.
– Брат Джекоб. Называйте меня «брат». Брат Джекоб… – пресвитер сел глубже, запахнул полу сюртука. – Брат Джекоб, брат Джекоб… Называйте меня брат Джекоб.
– Но как же… брат Джекоб… То, что вы согласились… Что вы приехали сюда… Неужели вы верите, что… Что все у нас именно так, как вам говорят?
– Знаю… – синие волдыри на губах пресвитера приблизились к линии рта. – Знаю и отвечу. Все усилия тщетны, брат Маврикий… Все, все… И мои, и ваши, и этого… этого… Все тщетны.
– Крейсса, – подсказал брат Айзек.
– Да, Крейсса… И, видя тщету этих его усилий, хочу принести хоть какое-то добро… Но, может быть, слеп и не вижу истины…
Брат Айзек незаметно показал Кронго глазами – «он устал».
– Я буду думать о вас, брат Маврикий… Я буду молиться за вас… Не прошу молиться за меня, ибо то, что дали мне, больше любой молитвы…
Кронго захлопнул дверь, и она тут же уплыла из-под его руки, исчезла. Ничего хорошего в его жизни, того, что он представлял себе всегда, всю жизнь, уже не будет – опять возникло вместе с «городскими добровольцами». Но почему он об этом… Руки Гоарта и слова пресвитера, все еще стоящие в ушах, странным образом смешались. Он думает о лошадях, об Альпаке, о рекордном времени Бваны – но это не приносит облегчения.
Он помнит – в тот день он приехал в Берн из поездки и до ночи следил, как размещают прибывших с ним лошадей. Усталый, злой, он еле добрался домой и лег спать. Поэтому он никак не ждал звонка – звонка Жильбера, который раздался ночью.
– Да… – треск звонка вырвал его из сна, и спросонья он никак не мог понять, кому это могло быть нужно – будить его сейчас.
– Кро… Кро, это я, Жильбер. Ты читал газеты?
– Что?
– Я говорю – ты читал газеты?
Он попытался сообразить – что же может быть в газетах. Что такого, из-за чего ему может сейчас звонить Жильбер. Что же… Что… Да – как же он забыл. Независимость… Да. Независимость. О ее приближении все время писали. Об этом давно уже пишут… Но он забыл об этом. В последнее время он просто не следил, за газетами. И особенно – в последние дни, когда заканчивалась поездка. У него просто не было времени… Не было секунды даже – чтобы заглянуть в газеты.








