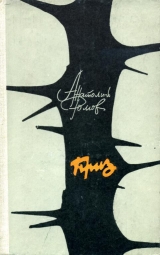
Текст книги "Приз"
Автор книги: Анатолий Ромов
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Дружелюбный взгляд.
– Люди, которых… – Кронго снова встретился с глазами Крейсса. – Которые погибли… были единственными специалистами.
Почему он это говорит?
– Слушайте, Кронго, – Геккер постучал пальцами по столу. – Я не сторонник ипподрома и бегов, как уважаемый мсье Крейсс. Лично я просто продал бы всех этих лошадей. Мне кажется, так будет лучше для экономики. Но я понимаю, Крейсс убедил меня, что это наша национальная гордость. Давайте говорить, как земляки.
Крейсс все это время смотрел на Кронго так, будто говорил: «Не очень слушайте этого тупицу, дайте ему высказаться, но мы-то ведь понимаем, чего стоят его слова».
– Диктуйте, – Крейсс взял ручку. – Набросаем примерный текст. Наверное, так – государственный ипподром… Нет, лучше – государственный народный ипподром… Так ведь лучше? Объявляет прием на работу… Кого? Как лучше написать?
Кронго постарался не отводить глаза от его твердого взгляда.
– Помогите же мне, – сказал Крейсс. – Людей, знакомых с уходом… Так?
– Да, – выдавил Кронго. Что бы ни случилось, он должен быть честен. Он ведь не собирается сотрудничать с Крейссом. Нет. Но почему ему легко с ним?
– А дальше?
Кронго вспомнил – Альпак. Альпак должен быть спасен. Все остальное можно отбросить.
– Повторите, пожалуйста, – попросил Кронго.
– Государственный народный ипподром объявляет прием на работу людей, знакомых с уходом за лошадьми, а также… что – «а также»? – Крейсс постучал ручкой.
– А также имеющих навыки верховой и колясочной езды. – Кронго следил, как быстро бегает ручка. Ну вот и все. Больше он ничего не скажет.
– Спасибо, – Крейсс отложил блокнот. – Мсье Кронго, запомните – новая власть не давит на вас, не требует ни сотрудничества, ни политических гарантий. Не требую этого и я. Вы, мсье Кронго, наполовину белый, и этого достаточно. Даже колеблясь, вы придете… к осознанию необходимости того, что случилось в стране. Хочу только предупредить – работа ваша должна быть честной и лояльной.
Кронго показалось, что в интонации Крейсса сквозит просьба: «я вынужден говорить так, потому что мы не одни, вынужден употреблять официальные слова». Кронго встал.
– Вот вам вечерний и ночной пропуск, – Геккер протянул листок с поперечной черной полосой. – В случае любых затруднений немедленно звоните мне.
Жара ударила в лицо, обожгла шею. Сейчас, выйдя из кабинета Крейсса, Кронго захотелось расслабиться, забыть обо всем. Просто пройтись по каменным плитам. Сесть в один из шезлонгов на пляже и сидеть, глядя в океан. Он не мог отделаться от того, что там, в кабинете, было что-то особое, что сейчас стояло в горле, как шелуха.
– Мсье, не желаете ли цветы?
Белые. Молодые. Старшему не больше двадцати лет. Он протягивает ему цветы. Вот он улыбнулся, и волнистые светлые волосы вздрогнули на плечах. Щеки и нос усыпаны веснушками. Синие глаза, на голое тело надета женская рваная кофта.
– Любовь, – парень протянул Кронго цветок.
Девушка с ним рядом обняла парня за шею, осторожно провела языком по его веснушчатой щеке. На ее груди болтается медальон. На красном фоне – черный силуэт негритянки.
– Мсье, это мои друзья, – парень, поднял руку, и Кронго заметил на ней металлическую цепочку, несколько раз обмотанную вокруг запястья. – Это Фред… Фред, поклонись… Это Генри… Это Памела, самая красивая… Это Роман… А вот это…
Он провел своей девушке по губам, и она ласково укусила его за палец. Лицо ее было некрасивым, с маленьким, чуть загнутым книзу носом, мелким ртом. Но выделялись глаза – огромные, янтарно-желтые, матово ускользающие из-под удивленно вскинутых ресниц. За ней, медленно ударившись о гранитную набережную, встала волна, на мгновение застыла в брызгах, грязных от песка.
– Ее зовут Дана, меня Стив, – парень погладил Дану по затылку, она поклонилась.
Худые ноги Даны были по-детски чуть утолщены в коленях, вокруг бедер туго обмотана чисто выстиранная желтая тряпка, светлые волосы собраны на затылке в жгут.
– Мсье, возьмите этот цветок… – губы Стива иногда как-то странно подпрыгивали, съеживались, распрямляясь между каждым словом. Будто его кто-то начинал гладить по пяткам, щекотать, и он испытывал удовольствие – но продолжал говорить. – А как зовут вас? О, мсье…
– Меня? – Кронго помедлил. – Меня – мсье Маврикий.
– О, мсье… Простите, мсье… Можете не говорить…
– А… что вы хотите?
Кронго не понимал, почему этот странный разговор не удивляет его – как будто так и должно быть.
– О… что мы хотим… – Стив посмотрел на подошедшего негра-патрульного, высоко поднял обе руки. Солдат улыбнулся, перекинул с плеча на плечо автомат. – Дружба! – Стив улыбнулся. – Привет, друг!
Солдат спокоен. Он принимает все как должное.
– Любовь! – Стив повернулся к Кронго. – Мсье Маврикий, учтите, я всегда буду теперь называться… – губы его вытянулись трубочкой, будто его сейчас пощекотали особенно приятно и он предвкушал слово, которое скажет. – Я всегда буду называться Карел. И зовите меня, пожалуйста, Карел. Кей, эй, ар и эль. Это в честь моей девушки. Дана!
Блондинка улыбнулась.
– Она славянка, и Карел – имя ее деда. Отец ее миллионер, но она сделала усилие и отреклась от него. Правда, у нее теперь нет денег, зато у нее целый мир. Возьмите же цветок.
Кронго пришлось взять красную растрепанную гвоздику.
– Простите, мсье, – Стив встряхнул головой, убирая со лба волосы. – Вы верующий?
Дана снова тронула языком его щеку.
– Не знаете, – Стив улыбнулся. – И я не знаю. Вернее всего, я неверующий. По крайней мере… как… как остальные. Но я верю в освобождение от страданий. Это моя вера, которой я поклоняюсь благочестиво и свято.
– Дукха, – сказала Дана. – Дукха-самудая… Дукха-ниродха… Дукха-ниродха-марга…[1]1
«Есть страдание, есть освобождение от страданий, можно освободиться от страданий, есть правильный путь к освобождению от страданий» – одно из положений буддийской религии (санскр.).
[Закрыть]
За ее плечами снова встала волна.
– Что она? – спросил Кронго. – Это что-нибудь значит?
– Примерно то же, что сказал я, – Стив прищурил глаза. Отставшие от общего потока завитки волос за плечами Стива прыгали на ветру.
Кронго заметил, что одна из девушек, смуглая, хорошенькая, в упор смотрит на него.
– А если страдание есть, от него нужно бежать, – Стив кивнул Дане, взял у нее сигарету, жадно затянулся. – Уезжать, улетать. Чур нас, чур от страданий. Нужно освобождаться от них, мсье, всеми способами. И не искать это освобождение, где искали раньше, – в женщинах, карьере, деньгах. Если деньги – причина страданий, нужно освобождаться от денег. Если женщина – причина страданий, нужно отказаться от женщины. Если суета – причина страданий, нужно избегать суеты. Мы приехали сюда в трюме, без денег, без билета. Мы не голодали, не мерзли, были спокойны и счастливы. А здесь нашли страдание. Страдание, суету, желание утвердиться. Вам не скучно меня слушать?
– Нет, – машинально сказал Кронго.
– Памела смотрит на вас, – Стив улыбнулся.
Памела – хорошенькая. Памела – это хорошенькая.
– Извините, что я с вами так откровенен. Памела недавно с нами. Она еще не привыкла. Она хочет стать гитанисткой. Может быть, мы сможем ей помочь. Но это очень трудно. У нее не хватает чистоты.
– Гитанисткой? – Кронго вдруг вспомнил об Альпаке. Почему?
– От слова г и т а н а… Надо быть свободной в любви… Дана… Вот, Дана… Она – гитанистка. У нее могут быть сразу два любовника. Но только при этом надо остаться чистой, искренней. Грязь ведет к страданию.
– Стив, значит, ты решил? – спросила Дана.
– Конечно, – Стив обнял ее за плечи. – Дана, ты любишь Генри?
– Люблю, – Дана покраснела, стараясь уйти от взгляда Кронго.
– Ну вот, Дана, будь искренней. Будь всегда искренней. Скажи, к чему ведет грязь?
– Надо искренне любить, – Дана улыбнулась, и краска сошла. – И тогда не будет грязи. Я искренне люблю. Искренне. Я люблю и Генри, и тебя. Двоих.
– Ладно, хватит об этом, – Стив потрепал Дану по голове, и ее завязанные узлом волосы рассыпались по плечам. – Мсье, наверное, нужно спешить. Мы тоже скоро уезжаем. Как только будет пароход. Здесь слишком тяжело.
Глаза Даны грустно посмеивались. Кронго заметил, что, когда она смотрит на него, возле ее губ собираются чуть заметные морщинки-точечки, сверху и снизу, но они становятся видны только тогда, когда она поворачивается затылком к солнцу. Она, заметив его взгляд, осторожно приложила свою ладонь к его ладони, печально улыбнулась. Что-то шевельнулось и защемило в груди вместе с ее прикосновением. Морщинки-точечки, волосы, рассыпанные по плечам, холодная слабая рука, лежащая на его кисти. Она готова отдаться ему, он это чувствует. Кронго никогда ничего подобного не ощущал. Похоть, пытался оборвать он сам себя, конечно, похоть. Обычная похоть, слепое влечение. Лицо Даны рядом с лицом Стива на фоне океана было добела освещено солнцем. Дана казалась ему сейчас скачущим легким телом, ощущением всесильности, охватывающим все существо, – когда дорожка мягко и отчаянно бросается в лицо, а потом уплывает вниз, и так бесконечно – уплывающие назад противники, мелькающие ноги их лошадей, уплывающие от твоей силы, большей, чем их, от того, что ты слился с этим легким телом, безоглядно несущим тебя вперед.
– Любовь, – тихо сказал Стив, глядя на патрульного.
– Что, месси? – негр положил автомат на колени. Посмотрел на Кронго. Улыбнулся. Он сидел на парапете.
– Любовь, – обняв Генри за шею, сказала Памела.
– Простите, месси, я человек прямой, – патрульный медленно зацепил ремень автомата за плечо. – Ведь на вас стыдно смотреть.
– А вы не смотрите, – сказал Стив.
– Вы как цыгане, – негр улыбнулся. – Ведь если честно говорить, это грязь, грязь, месси. Посмотрите на себя.
– И все равно я вас люблю, – сказал Генри.
– Тьфу, – патрульный сплюнул. – Расходитесь потихоньку. Смотреть стыдно.
– И все равно любовь, – улыбнулся Генри.
– Вы на себя посмотрите, – патрульный мотнул головой, хохотнул, но теперь уже зло. – Ты, оборванец… У меня у самого девчонке пятнадцать, что, если она к такому попадет… У тебя же грива, не волосы… Обрить надо…
– Любовь, – улыбнулась Дана.
– Месси, я их знаю, – негр, пытаясь сдержаться, ласково погладил автомат. – Я вижу, вы местный… Они и своруют, недорого возьмут… Моя бы власть, я бы их всех в санпропускник, а потом… потом…
– На прощанье – еще раз любовь! – Стив церемонно поклонился Кронго.
Кронго заметил, как Дана, уже отойдя, обернулась и помахала рукой – обращаясь только к нему.
– Ладно, – рука на прикладе автомата дрожала, щеки негра стали свинцовыми. – Посмотрим, любовь… Вывели из себя… Дерьмо волосатое… Если бы вы знали, как… Как…
Он нервно усмехнулся, привычно выхватил зубами из-за отворота рукава сигарету, закурил.
– Простите, месси…
С детства, сколько он себя помнит, в парижской квартире матери собирались люди. Он привык к тому, что они приходят, он как-то по-особому привык к ним, не придавал значения тому, что это за люди, зачем они каждый вечер едят, пьют, разговаривают в их квартире. Потом, взрослея, он постепенно понял – многие из этих людей были очень близки матери, это были не только ее друзья, но и те, кто давали матери работу, среди них были редакторы, издатели… Но то, что они давали работу, происходило как-то само собой, не считалось главным; многие приходили просто из-за того, что им нравилось бывать здесь, просто – из-за того, что здесь можно было вести себя как угодно, оттого, что здесь все были равны.
Как-то сразу, внутренне, Кронго понял, что эти приходы гостей нужны матери. Больше того: в том, как мать их ожидала, как отвечала на звонки, как бросала все дела ради них, как перед приходом гостей вместе с домработницей бегала по магазинам и потом вместе с ней разбирала на кухне коробки, полные еды и бутылок, – во всем этом он чувствовал, что эти частые сборища для матери что-то очень важное, чуть ли не главное в жизни. Он знал, что отцу эти приходы гостей не нравятся, отец всегда находил предлог, чтобы уйти из дома или лечь спать, даже не показавшись.
Сколько раз маленький Кронго был свидетелем ссор отца и матери из-за этого; и важность приходов гостей, того, что они значили для матери, он понял именно из-за этих стычек, в которых мать всегда была непримирима.
– Нгала…
– Что? – мать, обычно помогавшая в эти минуты домработнице или делавшая что-то по дому, при этих словах отца поворачивалась.
Она делала вид, что пытается понять, что же сейчас хочет сказать отец, хотя Кронго видел – на самом деле она все отлично понимает. Ее маленький нос морщился, красивые, резко очерченные губы поджимались, глаза становились злыми. Уже по одному этому «Нгала», не очень уверенно сказанному отцом, она понимала и чувствовала, что именно было причиной разговора, что вызывает его неудовольствие. Кронго помнит – мать поступала в таких случаях всегда одинаково. Она срывала передник и тихо, будто боясь, что с передником что-то случится, опускала его на первый попавшийся предмет. Если же мать стояла посреди комнаты, она тихо бросала передник на пол. После этого, раскачиваясь, пружинясь на каждом шаге, будто собираясь прыгнуть, подходила к отцу и останавливалась вплотную к нему, нос к носу.
– Что тебе не нравится?
Отец, как казалось Кронго, сначала хотел ей объяснить что-то очень сложное, что-то очень важное для него. Но, по привычке сморщившись, не выдерживал и говорил обычно одно и то же:
– Нгала, мне… не нравится эта орава. Не нравится гора окурков после них. Не нравится, что они жрут, будто приехали из голодного края…
– Слушай, – мать говорила это громким шепотом; казалось, она выдавливает слова, как шелуху, случайно попавшую ей в рот.
В эти минуты Кронго остро чувствовал, как они далеки, как не понимают друг друга. Отец сокрушенно закрывал глаза, лицо его становилось неподвижным, несчастным, странно глухим.
– Не закрывай глаза, – по-прежнему это был шепот, и по-прежнему мать его выдавливала. – Я тебе сколько раз говорила – не лезь в мой мир, – после этого она повторяла слова, выделяя каждую букву и мыча: – В-в м-мой-й м-мир-р-р. Ты меня понимаешь?
Отец обычно молчал. Иногда он тихо говорил:
– Прошу тебя, Нгала… Не при ребенке…
– Нет, давай при ребенке. У меня есть свой мир. Я не виновата, что тебе его не понять, – мать говорила тихо, с ненавистью, но так, что эта ненависть звучала почти ласково. – Прости – не понять. И не корчи из себя глухого. Не корчи. Я не лезу в твоих лошадей. Это твое дело. Занимайся ими сколько хочешь. Но и ты не лезь в мои дела. Ты понимаешь меня, милый?
Кронго помнит – ему нравилась мать в эти минуты, нравилась ее ярость. Отец не мог долго сопротивляться.
– Ну, ладно, ладно, Нгала. Хорошо.
– Нет, подожди, – глаза матери все еще ненавидели отца.
– Нгала, ну хорошо, закончим.
– А сколько они съедят – не твоя забота. Ты понимаешь – не твоя забота? Н-н-е-е! т-т-воя-а! з-з-забота!
– Ладно, Нгала, ладно. Я ведь не об этом.
– А я об этом.
Мать несколько секунд молча и ненавидяще смотрела отцу в глаза, и отец всегда не выдерживал, сдавался. Обычно после этого он пытался обнять ее или тронуть за плечи. Но мать, уже ожидавшая этого жеста, увертывалась гибким, пружинистым движением. Лицо ее при этом становилось спокойно-непроницаемым, так, будто все вокруг уже переставало существовать для нее, – и она шла искать передник.
Вспоминая сейчас это время, Кронго не помнит всех, кто собирался тогда у них. Бесконечное число лиц, всех оттенков и рас, белых, коричневых, иссиня-черных, был даже один полинезиец, – громкие имена, среди которых многие встречались в газетах. И – Жильбер.
Да, конечно, прежде всего Жильбер. Конечно, Жильбер стоял среди них особняком. Жильбер был совершенно непохож на всех. Они понимали друг друга – все эти годы. Больше того – Жильбер, единственный из всех, пристрастился к бегам и ходил туда всегда, если выступал Кронго.
Жильбера Кронго впервые увидел, когда ему самому было двенадцать. Жильбер был на десять лет старше, – значит, тогда ему было двадцать два. Кронго помнит, как в тот вечер Жильбер, впервые пришедший к ним, сидел, исподтишка рассматривая мать и изредка вставая. Было видно, что мать нравится Жильберу, но впервые Кронго не испытал при этом, как обычно, ни ревности, ни досады. Еще – он ясно помнит, что Жильбер был тогда голоден и скрывал это. Мать отрывалась время от времени от общего разговора и, как-то нарочно интимно глядя на Жильбера, говорила:
– Жильбер… «Велосипеды»…
Жильбер кусал губы, корчился, как будто его пытали. Гости смотрели на него, стараясь поддержать, – но Кронго видел, что Жильбер голоден, видел, что ему не до гостей, и остро понимал, как это унизительно – слышать вот это «Жильбер… «Велосипеды»…» – среди шумного стола, среди гостей, которые абсолютно чужды этому гордому и странному негру. Гостей, которые, совершенно не желая слушать «Велосипеды», с фальшивой поддержкой сейчас смотрят на Жильбера.
– Жильбер, ну пожалуйста… – мать улыбалась. – Ну, Жильбер.
– Хорошо, – Жильбер вставал, делая это явно через силу, казалось – он сейчас упадет от стыда. – Но… «Велосипеды» – это плохо. Я что-нибудь другое.
Кронго видел, как прекрасно сложен Жильбер, видел странную гордость его лица, красивого необычной, дикой, красотой, с выпяченными губами, приплюснутым носом, каждый поворот, каждое движение которого, каждое вздрагивание кожи были вызовом и одновременно наполнялись какой-то неясной горечью.
– Я что-нибудь другое… – Жильбер медлил, не зная, как назвать мать, трогал, будто проверяя на прочность, свою рваную куртку и наконец говорил на ньоно: – Пожалуйста, Нгала.
– Нет-нет, – мать поднимала руку, делая вид, что не слышала призыва, и приглашая остальных поддержать ее. – У Жильбера масса талантливых стихов, но это лучшее… Жильбер?.. Ну? Как это… «Велосипеды – мир цепей…»
Здесь были редакторы, писатели, здесь были те, кто знал Омегву, и наверняка мать тогда неспроста призывала Жильбера читать стихи. Наверное, тогда все шло в ход, чтобы получить хоть одну рецензию для него – начинающего и никому не известного поэта. Кронго хорошо помнит эту первую строчку из стихотворения Жильбера: «Велосипеды – мир цепей…»
– Ну, хорошо, – Жильбер, все еще мучаясь, вытягивал руку, будто что-то откидывал от себя. Подбородок Жильбера медленно поднимался, и Жильбер тихо говорил, глядя в пространство, ненавидя кого-то и чему-то радуясь: – Велосипеды… Мир цепей…
Тогда Жильбер казался Кронго не студентом, не начинающим поэтом, а каким-то таинственным бродягой, то ли матросом, то ли боксером. Да, он был похож на боксера – именно этим своим лицом, вздрагивающим, ненавидящим, вечно готовым к вызову.
Прочитав «Велосипеды», Жильбер с несчастным видом выслушивал похвалы, потом читал еще.
Потом, когда его наконец оставили в покое, Жильбер вышел на кухню. Увидел, что Кронго стоит у окна и молча показывает на тарелку с ветчиной. Жильбер все понял – и, все так же несчастно улыбнувшись, толкнул его локтем в бок:
– Слушай… Давай… Я сейчас поем – и прошвырнемся… А то я тут задыхаюсь…
Кронго давно уже чувствовал себя взрослым. Но его поразило тогда это отношение Жильбера к нему – совершенно как к равному.
С детства ему были ненавистны слова «мир искусства», «писатели», «художники», то, как их произносят, какой многозначительностью наполняют – те, кто не знает, что это значит. В гостях у матери существовал именно этот «мир искусства», и Кронго поневоле с детства выслушивал чуждые ему, живущему ипподромом, долгие разговоры, резкости, столкновения, споры, не удивляясь, если гости вдруг начинали кричать друг на друга, а иногда даже – кто-то уходил, хлопнув дверью. О, как хорошо с самого детства Кронго понимал значение этих переглядываний, полушепотом сказанных намеков – «при нем нельзя» или «это абсолютно свой человек», «не трепись», «а что?», «а вот потом узнаешь», «это дерьмо» или «он все прекрасно понимает». Именно тогда, от гостей, от разговоров, которые он поневоле слышал, Кронго узнал и принял как должное слова, которые, будучи только произнесены, уже вызывали крики и споры: «истоки», «корни», «негритюд», «национальное самосознание», «народ». Иногда кто-то включал музыку, кричал: «Давайте потанцуем!» И все танцевали. И маленькому Кронго, тайком подглядывавшему в дверную щелку, было стыдно, когда кто-то приглашал его мать и танцевал с ней, кто-то смел это делать, тесно обняв ее, прижавшись к гибкому, красивому материнскому телу. Мать танцевала удивительно легко и хорошо, она прекрасно чувствовала ритм, музыку. Но Кронго всегда особенно удивляло и поражало ее лицо во время танца – отрешенно-бесстрастное и в то же время беспечное, счастливое… сухо-спокойное и одновременно – живущее танцем, становящееся воплощением танца. Иногда гости начинали кричать, шутливо переглядываясь: «Нгала, просим!», «В круг талантливую писательницу!», «Нгала, Нгала!». Мать всегда притворно возмущалась, ахала, смешно закатывала глаза: «Ах, опять эти танчики-шманчики!» Но все знали, что мать согласится, и Кронго, мальчиком всегда стеснявшийся смотреть, как мать танцует, одно время даже не любивший этих минут – то ли из-за детской ревности, то ли оттого, что в этом ему виделось что-то постыдное, – потом, подростком и юношей, больше всего любил смотреть именно это – именно то, когда мать танцует одна. В те годы, когда он стал юношей, мать в свои сорок лет была особенно худа и особенно красива. Он помнит – все восхищались этим, никто ей тогда не давал даже тридцати. Уступая крикам, делая при этом вид, что стесняется, закрываясь руками, смешно хихикая, показывая всем, что она «деревенщина», а никакая не писательница, мать выходила на середину комнаты – и одним только этим выходом вызывала тишину. Разговоры замолкали, оставалась только музыка… Он хорошо помнит – все смолкало тогда, абсолютно все… Кронго чувствовал, как тонкий и пронзительный холодок обнимает шею, волнением схватывает горло. Сейчас в мире живет только ритм, его неумолимые яростные удары… Лицо матери, отрешенное, просветлевшее, вдруг оказывается окруженным странным миром движений – бесконечным, несмолкающим ритмом – подрагиванием плеч, перестуком пяток, вращением рук, вздрагиванием бедер, живота, колен. В этом мире движений все вдруг приобретает особый смысл и все что-то значит… Даже – глаза… Вот эти – напряженные, как будто уже не подчиняющиеся матери – сверкания белков, выкатывания глазниц, повороты зрачков… И снова он слышал только удары… Удары… Все живет только ритмом… Кронго чувствовал – мир в эти секунды замирает, замирает… Остается только танец, только он один – и ничего больше.
Движениями колен, подрагиванием бедер, поворотами рук, негритянским неистовством ритма мать сейчас что-то объясняет, что-то рассказывает всем – гостям, ему, всему миру… Что-то бесконечно веселое и бесконечно печальное, и это так понятно, так понятно…
Сближение с деревней, вот это понимание всего, что было в ней чужим, произошло неожиданно, когда он меньше всего ожидал этого. Пришел Омегву и попросил найти мать. Он ушел в деревню, стал искать мать и зашел в хижину, которая была чем-то вроде деревенского клуба. Готовилось какое-то сельское представление. В хижине было несколько комнат, отделенных друг от друга плетеными перегородками. За одной из перегородок он услышал сдержанные, подавленные возбуждением женские голоса, смех, подшучивания. «Значит, будут танцы», – подумал он и решил, что останется смотреть танцы. Он сидел в пустой комнате, не решаясь пройти за перегородку. Потом вошла старая седая негритянка, дружелюбно посмотрела на него. Он помнит – старуха, выждав, обернулась и сказала на ньоно кому-то, кто стоял за дверью:
– Ксата, сюда нельзя, здесь мужчина.
Молодой голос – в этом голосе было что-то, что заставило его сразу подобраться, он помнит, нотки этого голоса создали в нем какое-то напряжение, уже тогда, в первый раз, в нем звучало для него какое-то странное ожидание – сказал:
– Подумаешь. Ничего, потерпит.
Вошла та, которую старуха назвала Ксатой. Первое, что он почувствовал, было ощущение удивления. Удивления, что в мире – в любом, в черном, в белом, в красном, в каком угодно – может быть такая красота. Такая ослепительная, спокойная, ясная, простая.
– Вы уж извините… – Ксата, улыбнувшись, тут же отвернулась.
Он понял, что значит эта улыбка: по обычаю женщин ньоно девушка должна прятать глаза от незнакомого мужчины. Странно: он так отчетливо помнит Ксату именно в тот момент и отчетливо помнит, как она вошла, небрежно, наспех придерживая рукой спадающую с плеч накидку и досадливо соблюдая этот обычай. И хорошо помнит, что уже тогда заметил ее дефект, заметил, что у нее было оттопыренное ухо. Именно одно – как у какого-то настороженного зверька. Но теперь он понимает – этот дефект, это маленькое беззащитное ухо, чуть отодвинутое, было частью ее красоты.
– Да, пожалуйста, я сейчас уйду, – он еще не понимал, что произошло. Он был так потрясен красотой Ксаты, что чувствовал, будто его ударили. И в момент удара, в момент, когда Ксата села и стала гримироваться для танца, он лихорадочно искал защиты от этого удара. И вот, как защиту, как спасение от этой свалившейся на него красоты – что же он искал тогда в Ксате? В ней, которая, подводя глаза, настороженно закусив губу, отлично сознавала, как эта красота действует на него? Что же он искал? В эти секунды он пытался найти в ней хоть какой-то дефект, какой-то изъян… Да – он стал искать что-то, что было бы несовершенным в ее внешности, в этой красоте. И увидел, сразу же заметил это оттопыренное ухо… И – уцепился за него… Так, будто этот дефект что-то обещал ему… Так, как падающий в пропасть хватается за траву. Странно – именно из-за этого уха он на секунду почувствовал облегчение.
А там, за стеной хижины, все в это время было как обычно. Он слышал глухой звук барабанов. Должны были начаться танцы.
Но Ксата заметила эту его попытку. Она почувствовала – не видя ничего, – что он смотрит на ее ухо, и с какой-то полунасмешкой еще больше закусила губу, будто давая ему понять, что все впустую. И он понял, что он наверняка не первый, что в поисках спасения от красоты Ксаты многие пытались найти защиту от этого удара, и искали изъян в ее красоте, и видели это ухо, и пробовали зацепиться за него, и это не помогало – потому что Ксата была совершенна и это ухо было неотъемлемой частью ее красоты.
– Вы мне не мешаете.
Он не заметил, как старуха ушла и они остались одни. Это «вы мне не мешаете» было сказано спокойно, без всякого выражения, и было спасением для него, потому что он не хотел уходить. Ксата по-прежнему, склонившись над зеркалом, осторожно раскрашивала лицо – так, будто Кронго здесь не было. Ей было около семнадцати лет, и он, вглядываясь тогда в ее лицо, в пухлые, нежные, доверчиво беззащитные губы, в маленький, с легкой горбинкой нос, в коричнево-матовые, гладкие, сильно скуластые щеки, в огромные глаза, в которых странно уживались, жили одновременно испуг и уверенность, – он пытался понять, что же является главным в этой невозможной, раздавившей его, пугающей красоте. Но ведь ничего же нет, просто это негритянская девушка, девочка, почти ребенок. Но нет – в Ксате был какой-то секрет. Но тогда он так и не мог найти этого секрета. Потом, вспоминая эту первую встречу, он помнил, ему казалось, что секрет этой красоты был в ее глазах. В удивительной силе, которая жила в этих темных и одновременно прозрачных глазах, силе, которой Ксата была награждена от рождения.
Ксата продолжала гримироваться – так, будто его и не было. Поймав взгляд Ксаты, он вдруг с удивительной ясностью понял, что эта сила беззащитна. Когда Ксата, отрываясь от зеркала, изредка смотрела на него, его удивляла бессознательная, не осознанная самой Ксатой сила ее глаз и беззащитность этой силы, беззащитность, которая, как он вдруг понял, могла владеть всем миром. Казалось, Ксата просто не знала, что она красива. Не понимала, в чем секрет этой красоты.
– Я сейчас уйду, – сказал Кронго.
– Да, пожалуйста, сидите, – Ксата, короткими мелкими движениями поднося к щекам древесный кармин, выводила мелкие круги на щеках, и он понял, что она будет танцевать «священный танец». – Вы, наверное, смеетесь над нашей деревней.
– Нет, почему же… Ну что вы… – он вдруг понял, что слова путаются, он говорит не то, что хотел бы.
Он был растерян, подавлен, язык не слушался его. Но ведь он понимал: для того чтобы понравиться Ксате, он должен вести себя не так. Этот не слушающийся его, заплетающийся язык, это несвязное «ну что вы» – гибельны. Он должен вести себя по-другому, по крайней мере – должен хотя бы казаться спокойным. Ксата, как всякая женщина, увидит его растерянность – и все будет кончено.
Но сейчас, глядя на тонкую, хрупкую руку Ксаты, глядя, как эта рука движется мелкими шажками, легкими поворотами кисти от губ к щекам, нанося грим, он понял, что Ксата в ы ш е. Ксата увлечена гримом и не замечает его взгляда, но он тут же понял это и сказал себе – Ксата и ее красота в ы ш е. Выше всего, и прежде всего – выше того, о чем он сейчас думает. Он не может прикинуться или показаться спокойным – если он не спокоен. Он должен быть таким, какой есть – до последнего движения, до последней мысли. Красота Ксаты не терпит лжи.
Наверное чувствуя его состояние, но думая о чем-то другом, Ксата нахмурилась. Ему показалось, что Ксату испугало что-то, и он тут же попытался понять – что могло ее испугать.
– Вы… – обе ее руки делали теперь плавные движения, нанося последние мазки. – Недавно приехали?..
Она наверняка все знает о нем, знает, сколько раз он сюда приезжал, знает все – в том числе и о матери, и об Омегву. Тогда – зачем она спрашивает об этом? Кронго сейчас страстно хотелось, чтобы она проявила к нему интерес. Ему хотелось рассказать ей обо всем, что с ним связано. Об отце, об ипподроме, о бегах, о Гугенотке. Но Ксата посмотрела на него – и он испугался прозрачной темноты ее глаз, спрятался от нее, вдруг понял, что она и так, без рассказа, все о нем знает. Знает – хотя далека, бесконечно далека от Парижа, от отца, от Гугенотки, от его мира. Он хотел ей ответить – но не мог. Язык не слушался его, просто не слушался. Но это не было трусостью или робостью, это было какое-то странное, непонятное ему состояние. Кажется, она поняла и это – и приняла как должное. Через несколько секунд за дверью чей-то молодой голос сказал: «Ксату не видели?» Уже давно над площадью за хижиной глухой рокот барабанов превратился в нарастающий призывный гром.
– Ну, все… – Ксата встала, закутавшись в накидку.
Сейчас он лихорадочно искал в ее глазах, в неторопливых жестах, в любом ее движении ответ – хотя бы намек, что она хоть что-то хочет ему сказать, хоть как-то проявит свой интерес к нему. Но она ничего не сказала, отвернулась, выскользнула в дверь.
Отец всегда работал с ним старательно, на совесть, и уже с девяти лет приучал не только к качалке, но и к верховой езде.








