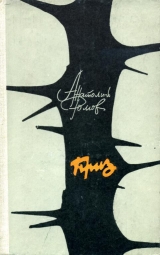
Текст книги "Приз"
Автор книги: Анатолий Ромов
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Но все это он ощутил в доли секунды – и это как будто ощутил кто-то другой, который одновременно жил в нем отдельно, – сам же он как будто продолжал игру, которую она предложила. И продолжал с удивившей его легкостью… Беззаботно, просто – так, будто он всю жизнь был готов именно к этой игре и именно к этим словам.
– Здравствуй… те, сударыня.
Она засмеялась. Сняла накидку и оказалась в купальнике – два лоскутка материи, которые почти не прикрывали ее тела.
– Я видела, как вы ходили здесь вчера… сударь. И позавчера.
Он помедлил – его по-прежнему удивляла возникшая в нем сейчас легкость, собственная готовность бесконечно продолжать этот разговор.
– Ходил – сударь.
– Хорошо. Ходил, сударь, – она подстелила накидку и села.
Подумав, подвинулась. Полувопросительно повернулась к нему – и он с нежностью и одновременно с болью и раздражением увидел, как прекрасно, как по-детски доверчиво раскрылись ее губы, прежде чем она сказала:
– Садись?.. Я подвинусь.
Ему казалось – в своих мечтах, в желании встретиться с ней он преувеличивал ее красоту. Но сейчас он увидел – мечты его были жалкой копией. Она была прекрасней, чем он думал. Намного прекрасней. Он сел рядом с ней и ощутил – только на мгновение, на секунду, – как кожа ее руки прикоснулась к его коже. Ему показалось – это прикосновение было прохладным. Будто он случайно дотронулся до поверхности озера. Или – до холодной утренней листвы.
– Ты… долго еще будешь здесь?
– Нет… Наверное, дней через пять уедем. Самое большее – через неделю.
Она вздохнула. Он искоса наблюдал за ней – и опять в нем возникла боль. Боль – потому что он видел сейчас совершенство, бесконечное совершенство ее тела. Сильного, стройного и хрупкого – таким и должно быть тело танцовщицы.
– А ты знаешь – я была в Париже.
– Да? – он помедлил. – И… что?
– Ой… Там было прекрасно.
Он задохнулся – его опять мучила ревность. Она была в Париже – и, конечно, не одна. Но ведь нет никаких оснований для ревности… Нет – есть… ее повез туда какой-то мерзавец. Конечно… Появиться с такой девочкой в Париже… Сидеть с ней в кафе, с гордостью показывать знакомым… Сенсация. Да, она была там с каким-то подонком. Это – обычная история. Типа Зиго. Наверное, с каким-нибудь профессиональным обольстителем… Или – еще хуже – с каким-нибудь лысым дураком из департамента культуры. С идиотом… С которым не пойдет даже приличная проститутка. Конечно – он таскал Ксату по барам. Обещал ей «показать Париж». Она же – н а ц и о н а л ь н ы й к а д р. А потом они возвращались в гостиницу.
– Прекрасно?
Ксата покосилась на него. Ее губы дернулись – каждое их движение было сейчас искренне, они не могли врать, не могли обманывать.
– Да. Ну – хорошо… Но…
– Что – но? – он сказал это со злостью.
Она вздохнула. Стала искать что-то на земле. Нашла камешек, аккуратно очистила, сдула песок, положила между ступнями. Потом надавила пяткой – и камешек вошел в землю.
– Мне… не понравилось.
Какое облегчение он испытал.
– Не понравилось?
– Мне… то есть понравилось. Но только, ты знаешь, все… Какое-то чужое. Нет – я понимаю, это все красиво. И… все хорошо. Но вот – я же ничего не могу поделать?
– Да.
– Ну вот.
Он снова задохнулся – но теперь уже от возникшей в нем странной смеси чувств. От грусти, любви, необузданной радости, нежности. Как смешна его ревность. И вообще – как смешно все, что он думает о Ксате. Но он не выдержит сейчас – именно потому, что она прекрасней, чем все его представления о ней. Чем все, что он думал – пока снова ее не встретил.
– Ну, что мы собираемся делать? Сударь? Будем купаться?
Уже услышав это, он снова будто вслушался в то, как она это сказала. Этим ироническим вопросом она будто стряхнула, отогнала хрупкую, невесомую ткань откровения. Это вызвало у него досаду – но не больше.
– Купайся. Я посмотрю.
– Хорошо.
Она посмотрела на свой купальник – и улыбнулась. И он понял, что она хотела бы снять два этих лоскутка.
– Отвернешься?
Его раздражение вдруг перешло в злость. Он видел уже ее обнаженной – тогда, во время танца. Почему же сейчас он должен отворачиваться? И она поняла это. Она прочитала эту злость в его взгляде – и улыбнулась. Она не знала, что сказать ему. Наконец, как ребенка, тронула за плечо:
– Отвернись. Так надо. Ну? Досчитай до трех.
Он молчал.
– Хорошо, – она опустила руку. – Я буду в купальнике. Ты не пойдешь?
– Н-нет, – в горле у него пересохло. Он с трудом выдавил это слово.
Она была прекрасна – и чиста. Он видел сейчас ее тело, оно было таким же, как тогда, два дня назад, когда она танцевала на площади. Только сейчас это тело было без краски – просто оно было закрыто двумя лоскутками. И он не понимал еще, не мог себе представить, как совершенно она сложена.
– Ну? – она улыбнулась. – Подожди. Я быстро.
Да – в этих ее словах была только чистота. Одна чистота – и ничего больше. Но как же могут совмещаться – первобытная торжествующая наглость ее тела – и чистота? Она прыгнула в воду и поплыла к середине озера. Он вдруг ощутил горечь и муку – только оттого, что отказался сейчас прыгнуть в воду, отказался плавать с ней рядом. Как было бы хорошо, извиваясь, плыть с ней рядом в чистой воде. Вдруг он понял, остро почувствовал – он рад оттого, что она сейчас не разделась, это и было той чистотой, которую он от нее ждал.
Сначала он думал о близости с Ксатой как о чем-то несбыточном, недостижимом, немыслимом. Но странно: думая так, он одновременно понимал, что это должно случиться, что они станут близки. Так, будто в этом для него уже не было никакого сомнения – и это уже не удивляло его. Каким-то образом он понимал, что это произойдет. Но – каким? Странно, почему в нем не было удивления? Ведь он страстно желал близости с Ксатой. Он желал этого так, как не мог желать ничего на свете. Но одновременно с этим знал, что преграда, которая стоит между ними и которую они сами воздвигли, упадет не сразу. И захочет ли она – но он ведь чувствовал, что она хотела этого?
Он помнит, когда первый раз почувствовал, что это случится. Это было на четвертый день их знакомства, после того, как они купались. Они долго, до изнеможения плавали в озере, замерзли и лежали теперь рядом, завернувшись в ее накидку. Он почувствовал, как ей холодно, и обнял ее. Теперь ладонями, и кожей рук, и всем существом он ощущал холодную легкость, упругую силу ее тела. Но тело это было сейчас ему чужим. Она лежала на спине, и губы Ксаты выражали странное удивление. Будто она удивлялась сейчас чему-то в себе. Он почувствовал, как весь дрожит от возбуждения – так, что у него стучат зубы. Пересиливая себя, пересиливая это возбуждение, он спросил, заикаясь и стуча зубами:
– Ты ч-ч-что?
– Не знаю, – Ксата казалась испуганной. – Я… не хочу.
– Не хочешь? – спросил он.
Он вдруг прекрасно понял, чего именно она не хочет. Она не хочет близости, не хочет сейчас физического слияния с ним. Она говорит об этом открыто, не стесняясь его. Вот она лежит, прислушиваясь к себе, – и удивлена сейчас этим. Тем, что – не хочет.
– Почему? – спросил он, не осознавая всей нелепости этого вопроса.
– Не знаю, – в ее улыбке опять появилось извинение. Улыбка скоро стала гримасой. – Я не хочу… Просто – не хочу.
Его вдруг охватила радость. Потом радость сменилась испугом, потому что он понял – сейчас ее отказ и недоумение наполнены особым смыслом. Она допускает мысль, она совсем не возражает против того, что они будут близки. Просто сейчас она отказывается от этого. Но отказывается не потому, что он неприятен ей. Наоборот, только потому, что сама она, вернее, ее тело сейчас не хочет близости. Она же сама, о н а – хочет близости и отказывается от нее сейчас потому, что что-то мешает ей. Потому, что она не может на это пойти. Потому, что близостью с ним перейдет какую-то границу, нарушит традиционный обет. Значит – потому, что, отдав ему себя, изменит кому-то, изменит, по понятиям ньоно, целому племени. Конечно, этот отказ и эта традиция давно уже ничего не значат… Но все-таки она решилась что-то н а р у ш и т ь – ради него. Пусть даже что-то незначащее – но именно это вызывает в нем сейчас счастье, нежность, бесконечную, бескрайнюю радость. И в то же время – он чувствует испуг, он боится, что эти прекрасные мгновения пропадут.
– И… не нужно, – сказал он, прижимаясь губами к ее холодному плечу. Он чувствовал, ощущал, как плечо постепенно согревается от его прикосновения.
Ксата посмотрела на него – в ее глазах сейчас было сожаление, мучительное сожаление.
– Но… – она беспомощно пожала плечами. – Поцелуй меня.
Он прижался губами к ее губам. Они были прекрасны, нежны, пахли свежестью и поддались ему – но сейчас он ощутил в них только холод.
– Что же происходит? – она высвободилась.
Она смотрела на него сейчас с недоумением, с упреком. Он же, обнимая ее, чувствовал, как, высвобождаясь, она все-таки доверяет себя его руке. И вдруг понял – что так до конца и не оценил ее красоту, не ощутил бесконечность этой красоты. Почему же эта красота, будучи осознанной, вызывает то странное мучение, которое живет сейчас в нем?
– Я ничего не понимаю… – она легла на спину, почти отстраняясь.
– Ничего… Лежи.
– Но почему? – почти плача, сказала она.
– Это… Так и должно быть. Лежи. Просто – лежи. Хорошо?
– Хорошо, – она успокоилась, прижалась к нему.
Странно – он сейчас куда-то плыл, плыл вместе с ней. И, ощущая, что плывет, уплывает в бесконечность, почувствовал, как она беззвучно плачет.
Он шевельнул рукой, на которой она лежала, как бы говоря ей этим: «не надо». Она сказала, по-детски дыша ему в плечо:
– Когда это случается, исчезает все. Остается только земля. Земля, вода и воздух.
Странно: услышав это, он не испытал ревности.
– У тебя уже было это?
Она промолчала, и он сказал:
– Прости.
– У меня это может быть только с одним мужчиной – и больше ни с кем.
Она лежала молча. Он прислушался к себе – и по-прежнему почувствовал, что плывет куда-то. Он не удивился, когда она спросила:
– Что ты сейчас чувствуешь?
– А ты?
– Знаешь – я куда-то плыву.
– И я.
Это случилось – но он еще не мог осознать до конца значение всего, что произошло.
Он сидел на веранде, смотрел на озеро и пытался понять, что же скрывается за словами – «безумие любви». Если считать, что он сейчас влюблен, что он любит, бесконечно любит, и к тому же знает, чувствует, видит, что его любит Ксата, – значит, он и испытывает сейчас именно безумие? Безумие любви? Особенно – после того, что случилось там, у озера. Да – он испытывает безумие любви. Сумасшествие. Но ведь он не безумен? Наоборот – сейчас все переменилось в нем и вокруг. Все наполнилось особым скрытым смыслом, особой радостью и даже – особой печалью, которых он раньше не видел, не замечал. И это отличается от того, что было раньше, – резко, несопоставимо, так, как отличается небо от земли. Так когда же он был безумен? Не раньше ли, когда он не замечал всего этого? Когда не замечал скрытого смысла вещей? Не замечал особого значения каждой песчинки, каждого кустика? Ведь раньше он был слеп. Какой досадой сейчас наполняет его этот бесцельно прожитый отрезок жизни… Он был абсолютно слеп. И все, что открылось сейчас ему, – ведь все это открылось только потому, что он знает, что Ксата его любит. Любит… Как же он понял, что она его любит? Никак. Он просто ощущает это сейчас – каждой клеткой, всем своим существом. Он знает – она где-то рядом, где-то в деревне. Она ходит, что-то делает, что-то говорит, что-то напевает. Но все, что она делает, не главное для нее. Так же, как для него теперь не главное все, что он делает или – будет делать. Главным – всегда, вот именно, всегда – будет для него то, что она его любит. И для нее главным также будет лишь то, что он любит ее. Какой же он был слепец, пока не понимал – что это состояние и есть главное состояние человека. Как он не мог догадаться или – представить, что оно, это состояние, просто, как сама земля, естественно? Ведь сейчас, вот сейчас, в это мгновение, он видит это. Теперь он знает, что это состояние присуще миру. Как он не мог понять особенностей этого состояния, к которому совершенно неприменимо слово «безумие». Наоборот – безумием было не знать раньше этого состояния. Безумием было не понимать, что, когда это наступит, все изменится.
Поздно ночью он лежал на кровати у распахнутого окна. В темноте слышался шорох цветочных тараканов. Заснуть невозможно. Тишина была долгой, тянулась бесконечно. Кто-то идет по палисаднику. Нет, ему это кажется… Смысл этого шороха, этого запаха, этой пустоты… Как сдавливает грудь пустота… Бессильно, бесцельно. Он считал еще год назад, что нашел себя. На самом деле он человек со странной, непонятной профессией, вечный неудачник… Безусловно, кто-то идет. Стук. Кронго сел, нащупал шлепанцы. Осторожно подошел к двери, взял халат, натянул. Он не может зарабатывать деньги… А он должен был это делать, должен был давно уже жить, ни о чем не думая, жить, чтобы жить, жить для себя… Жить в любой стране, свободно, легко, независимо. Снова стукнули. Один раз, второй, третий. Кто это может быть? Родственники Филаб?
– Кто там?
Как странно окружает ночной воздух его самого, его халат, его руки. Вплотную к двери раздалось неразборчивое. Казалось, что сказали: «Свои».
– Кто? – Кронго услышал щелчок выключателя.
– Честные африканцы, – тихо сказали за дверью.
– Месси Кронго… – Фелиция мелко тряслась в глубине гостиной. – Месси Кронго, это наши. Месси Кронго, лучше открыть, это наши. Они пропадают.
– Мы не сделаем вам ничего плохого, Кронго, – сказал тот же голос. – Откройте. Только не зажигайте свет.
Кронго прислушался. Почему он молчит?
– Вы слышите, Кронго?
– Хорошо, сейчас открою, – Кронго нащупал щеколду.
Тихо звякнул запор. Он не успел даже приоткрыть дверь. Двое бесшумно проскользнули и прижались к стене. Высокий бауса в тропическом европейском костюме махнул рукой.
– Добрый вечер, – бауса криво усмехнулся. У него были широкие плечи, от всей его фигуры исходила мощь. И в то же время – впалые щеки, большой подбородок с ямочкой, резкие рубцы морщин. – Извините, закройте, пожалуйста, дверь. Мы ненадолго.
Кронго задвинул щеколду.
– Нам надо поговорить с вами, – второй, низкорослый, коренастый, с ритуальными шрамами на щеках, махнул Фелиции, и она, пятясь, ушла. – Вы не узнаете меня? Я председатель районного совета Фронта, моя фамилия Оджинга.
– А-а… – Кронго протянул руку. Оджинга крепко сжал ее. Да, Кронго уже видел это лицо.
– Меня можете звать Фердинанд, – высокий бауса опять улыбнулся – одним углом рта. Эта его привычка улыбаться одним углом рта сразу бросалась в глаза. Кривая улыбка, будто он смеялся сам над собой. – Некоторые зовут товарищ Фердинанд.
– Садитесь, – Кронго кивнул на кресла. – Я зажгу свет.
– Ни в коем случае, – Фердинанд сел и вытянул ноги. Оджинга подошел к окну, выглянул.
– Океан, – не оборачиваясь, сказал Фердинанд.
Кронго прислушался. Все те же цветочные тараканы мягко шуршали в темноте. Ему казалось, что неясный свет ночника мешает этим двум рассмотреть его лицо, увидеть, что он честен, что он не собирался никого предавать, что он хочет только спасти лошадей.
– Скажите, Кронго, – Оджинга будто утонул в кресле. – Разве правительство не предоставило вам все условия? Когда мы пригласили вас, разве мы не заплатили из казны за всех лошадей? Скажите, хоть чем-нибудь мы обидели вас?
– Мы не сомневаемся, Кронго, в вашей честности, – Фердинанд провел рукой по лбу, потом полез в карман рубахи и вытащил скомканную газету. – Вы добросовестно, работали эти девять лет. Но это объявление…
Кронго попытался собраться с мыслями. Он должен сказать этим двум только суть. Остальное уже будет зависеть не от него.
– А что мне было делать? На моих плечах лошади. Я не могу их никуда отправить. Я остался один, со мной только два конюха. Корма на одни сутки.
Оджинга неподвижно смотрел на него, будто изучал. Фердинанд, наоборот, устало моргал.
– Да, ваши лошади стоят миллионы. Они принадлежат государству. И поэтому мы должны их спасти. Но все встало с ног на голову, Кронго. И успех общего дела, и ваш личный успех. Все теперь будет зависеть от вашей совести, от вашей политической сознательности.
Кронго молчал. Фердинанд усмехнулся своей кривой улыбкой, будто издеваясь и над самим собой, и над Кронго.
– Я знаю все, что вы хотели бы мне сказать. Я много раз слышал этот стандартный пароль безразличных. Вот он – «я далек от политики». Так ведь, Кронго, вы это подумали? Отвечу вам – и я был далек от политики. Я был очень далек от политики.
Наступила тишина. Фердинанд аккуратно сложил и спрятал газету. Оджинга закрыл глаза, будто прислушиваясь к какой-то мелодии, разобрать которую мог только он один.
– До тех пор, пока я не почувствовал одного, – тихо сказал Фердинанд. – Пока я не почувствовал, что это вопрос воздуха, которым мы дышим. Это очень глубоко, под сердцем. Это вопрос жизни и смерти.
Тепло плеч Филаб – тогда, когда он лежал в бунгало, – вот что вдруг вспомнилось Кронго. И мерный шум океана.
– Вы были у Крейсса?
– Да, – Кронго вернулся из воспоминания.
– Слушайте меня внимательно… – Фердинанд склонил голову набок, его кривая улыбка пропала. – Товарищ Кронго… Мсье Кронго… Вы были в логове дьявола. Трудно поверить, что он не пытался вас завербовать. Его агенты всюду. Они работали в штабе армии, в государственном аппарате. Были выданы почти все активисты Фронта… Большинство членов центрального комитета… Только благодаря этому им удалось осуществить переворот…
Оджинга поднял руку, Фердинанд застыл. Что-то неясно прошуршало в кустах, стихло.
– Запомните, среди людей, которых вы наберете на ипподром, будет агент этого дьявола. Вам понятно? Не пытайтесь узнать его, не суйтесь в это пекло. Там будет и наш человек. Предупреждаем вас об этом только для того, чтобы вы знали: любая попытка вывезти лошадей из страны будет пресечена. Вы понимаете, как мы с вами откровенны.
Оджинга вытащил пистолет, Кронго услышал треск окна на кухне. Рука Оджинги застыла, придерживая пистолет, губы улыбались.
– Бауса?
– Эта женщина живет у нас… – пояснил Кронго.
Оджинга кивнул, пистолет исчез.
– Но если… – Кронго попытался убрать желтые и зеленые круги, которые плыли перед глазами. – Если так…. Если будет так, как вы говорите… я ведь увижу?
Оджинга поднял руку, они с Фердинандом тихо встали. Послышался слабый шум мотора, усилился.
– Кого? – Фердинанд понял, о чем говорит Кронго. – Нет, ни нашего, ни человека Крейсса вы не узнаете. Даже я на вашем месте и то вряд ли узнал бы оборотня.
Звук мотора затих.
– Мы уходим, – Фердинанд легко пожал локоть Кронго. – Вы больше нас не увидите. Вам нужно спасти лошадей. Ни секунды времени, поймите. Помните, что я сказал. Все до мелочи.
– Но подождите… – Кронго вдруг понял, что Фердинанд с его кривой улыбкой, с его фланелевой гимнастеркой, выглядывающей из-под щегольского пиджака, с его провалами морщин – единственно реальное в его жизни, за что он может сейчас уцепиться. – Но ваш человек… Может быть, вы скажете… Если…
А Крейсс? Крейсс, с которым ему легко? Фердинанд приоткрыл дверь.
– Нельзя. Если что-нибудь случится, он сам вам скажет.
Первым проскользнул Оджинга, за ним Фердинанд. Они исчезли в дверной щели беззвучно, так, будто были бесплотны. Кронго некоторое время стоял, пытаясь по звуку определить, куда они пошли. Он ничего не слышал – ни справа, где был лестничный спуск к океану, ни впереди. Может быть, слева, где сквозь палисадник вела дорожка к переулку? Потом он услышал звук – так шуршит бумага. Но это были лишь шаги Фелиции. Веки старухи шевельнулись, зрачки совершили оборот. Это был ответ – Филаб не спит. Семь лет эта полная старая кассирша просидела за длинным стеклом в кассовом зале тотализатора. Иногда она приходила к нему в кабинет и, опустив глаза, осторожно протягивала бумаги. Что в этой старухе есть еще, он не знал.
Поднявшись наверх, он увидел, что Филаб плакала. Это было видно по глазам. Ему сейчас хотелось уйти от неизбежности того, что сказал Фердинанд. Тонкая слабая кисть жены напоминала об ощущении той Филаб, шестнадцатилетней, тогда, в бунгало. Того ощущения он уже не может вернуть. Ему сейчас просто жаль этот закинутый подбородок, эти высохшие слезы на желтых щеках, натянутую кожу горла.
– Тебе что-нибудь нужно?
Глаза неподвижно смотрели вверх. Это означало «нет», но он понимал, что ей нужно. При всей нелепости ей сейчас нужна его любовь. С робостью, с беспредельной надеждой и эгоизмом любви ее слабая рука напоминает ему об этом. Рука не ждет его верности и жалости, а ждет любви.
– Спи. Хорошо?
Глаза закрылись и открылись.
– Спи, – он отчетливо представил себе, как завтра утром проснется и пойдет к ипподрому.
Тишина. Тишина озера. Тишина раннего утра. Тишина Ксаты.
– Ты сегодня уезжаешь?
Тишина. Пронзительная тишина. Что же это за тишина. И больше ничего. Какая же тишина вокруг.
– Да. Я сегодня уезжаю.
Он понимает сейчас молчание Ксаты. Понимает – до мельчайшего, самого последнего его смысла. Какая легкость, какая необыкновенная легкость.
– Но я приеду.
Какой огромный смысл. И – как ему легко оттого, что она и он – оба понимают сейчас этот смысл.
– И потом – я не смогу от тебя уехать. Никогда. Ты слышишь?
– Слышу.
– Я никогда уже – слышишь, Ксата, – не смогу от тебя уехать. Ты понимаешь?
– Да, я все понимаю.
– Все?
– Все. Только – приезжай скорей.
– Слушай… Слушай, девочка. Может быть – ты уедешь со мной? Прямо сейчас? Со мной и с мамой?
Она улыбается. Вот поцеловала его.
– Ну что ты. Меня не пустят. Родители. И вообще – все.
– Кто – все?
– Ну… – он почувствовал, как она на секунду съежилась. – Неважно.
– Да?
– Не сердись. Я могу с тобой поехать потом. Если ты хочешь.
Какая же тишина. И – может ли быть большее счастье? Нет, он сейчас умрет.
– Ты еще спрашиваешь?
Он почувствовал – именно почувствовал, а не увидел, – как она улыбается. Он хотел было, спросить ее: «Что ты?» – но передумал. Улыбаясь, он ждал, что она скажет – почти понимая, что она должна сейчас сказать.
– А ты… захочешь взять такую? Смешную?
– Смешную?
– Да – такую смешную обезьянку, как я? Да еще – с оттопыренным ухом?
Как прекрасно, что она это говорит. И – какой удивительный смысл в этом. Какая в нем сейчас нежность.
– Ведь я ничего не умею. Я умею только танцевать.
– Ты считаешь – этого мало?
Вот ее рука. Вот прикосновение кожи. Вот она сама.
– Конечно.
– Тогда и я ничего не умею. Я умею только работать с лошадьми.
Она медленно повернулась, и он почувствовал каждое ее движение – только почувствовал, но не увидел.
– Это очень много. Это – все.
И вот они уплыли – уплыли в бесконечность. И снова вернулись на землю. И, вспоминая, как они уплывали, лежа рядом с ней, вернувшейся вместе с ним из этого сладостного безвременья, он вдруг подумал – я медуза. Я медуза, о которой говорил Омегву. Нет, я не только медуза. Я – это озеро. И эти кусты. И земля. Обе его руки и обе ее руки были сейчас сцеплены – и он остро чувствовал, ощущал себя слившимся с ее руками, так, будто их руки срослись, перестали быть разнородной плотью, навсегда соединились, продолжая их обоих.
– Ты знаешь – раньше я больше всего на свете любила океан. Я любила выходить к нему. Сидеть на берегу. Долго-долго. Или – могла бесконечно плыть в нем. Чувствуя, как он меня держит.
Как важно все, что она говорит сейчас. Все – до последнего слова.
– Да?
– Да. Ты – мой океан. Сейчас, когда я чувствую, что я с тобой… я понимаю, что иногда может быть счастье… И человеку дается океан. Ты понимаешь?
– Понимаю.
– Ты – мой океан. Я… растворяюсь в тебе. Ты даже больше, чем океан. Ты понимаешь?
Какая тишина. Какая бесконечная тишина. Бесконечная. Тишина – это и есть Ксата. Это высшее счастье – бесконечность. И можно уплыть в эту бесконечность – вместе с ней.
Лица, жадно ищущие его одобрения, освеженные серым воздухом раннего утра, выравнивались в шеренгу – желтые, совсем светлые, черные, коричневые. Среди лиц было два, Кронго все время возвращался к ним взглядом. Молоденькая африканка, выбившаяся в первый ряд, за ней еще одна. Эта, вторая, – стройная, одетая в новый сарафан. Заметив его внимание, стройная засмеялась и незаметно кивнула подруге. Она была зажата плечами двух барбров.
– Люди, прошу два шага назад… – Мулельге поднял ладони, отодвигая этим жестом ждущих. – Сегодня всех не сможем просмотреть… Примем назад, люди… Осадите назад, немножко осадите назад…
Первая линия чуть качнулась. Ассоло, изгибаясь и семеня, провел по внутреннему двору сивую кобылу Бету – одну из самых смирных лошадей. В облике неподвижной конюшни, внутреннего двора, на котором жокеи обычно прогуливали лошадей перед скачками, произошли изменения. Это было похоже на лагерь. Раздавались выкрики. Худой африканец в лохмотьях называл по списку номера. У ворот стояла очередь.
– Люди! – Мулельге сложил руки над головой, крест-накрест. – Люди, тише!
Ноздри молоденькой африканки раздувались. Ей около шестнадцати. На беговой дорожке «джип». Душ Сантуш откинул назад фуражку – легким движением локтя. Помахал Кронго рукой.
– Люди! – Мулельге развел крест. – Прежде всего, если есть те, кто уже работал и был уволен… Заният, я вижу тебя, выйди… Отойди влево… Вот сюда, встань сюда… И ты, Мулонга… Зульфикар… Выходите, выходите, встаньте в стороне… Вы останьтесь… Люди, спокойней!
– Как тебя зовут? – спросил Кронго.
– Амалия, – африканка улыбнулась, будто ждала этого вопроса.
Глаза ее поплыли вбок, застыли, вернулись к Кронго. Зрачки блестели. В ней была просыпающаяся женственность – свежая, чувственная, и она сейчас не скрывала это. Да, ее лицо, по-детски широкое, каждая линия которого казалась закругленной, было красиво.
– Зачем ты пришла? Ты что-нибудь умеешь?
Он сразу оценил легкость и сухость ее фигуры.
– Я хочу быть жокеем.
– Сидела когда-нибудь на лошади?
– Три года, месси, – зубы ее, когда она открывала рот, чуть поблескивали от обильной слюны. – Я работала уборщицей. В цирке. Сидела на пони, лошадях.
– И все?
– Я могу показать… А потом… Знаете, как в цирке говорят… Училась прыгать на сетке. Батут.
Кронго медлил, прежде чем что-то сказать. Цирк, пони, лошади. Откуда только не пришли сюда все они! Она легкая, не больше пятидесяти килограммов. Какая разница, женщина или мужчина. Все-таки сидела. Из старых наберется не больше десяти. На две конюшни, беговую и скаковую. Но ему нужно десять наездников… И десять жокеев… По крайней мере, десять человек – очень легких, пусть даже не умеющих сидеть. Там, у демонстрационной доски, у финишного створа, все чисто. Значит, кто-то уже убрал тех, убитых. Но кто именно убрал? Солдаты?
– Хорошо, отойди в сторону.
Амалия улыбнулась. Покосилась на барбров, закрыла глаза.
– Месси, я работал на ферме, – сказал пожилой барбр.
Мулельге отодвинул слишком выступивших, пошел вдоль строя.
– Каждый, кто знает лошадей! Каждый, кто знает лошадей… Кто ездил верхом? Кто умеет сидеть в коляске? У нас это называется – качалка?
Толпа молчала.
– Ну? Кто-нибудь ездил верхом? В коляске?
– Начальник, начальник, – из задних рядов пробился молодой мулат с бородкой клинышком. – Зачем обижаешь? Проскачу, лошадь ногами удержу, деньги получу. Верно, ребята? Ну, что молчите?
Один из барбров усмехнулся. Мулельге хмуро оглядел мулата, кивнул. Ассоло подвел Бету, Мулат взял поводья, легко вскочил в седло. Бета, почувствовав руку, вздрогнула, загрызла удила.
– Давать на дорожку? – улыбнулся мулат.
Барбр поднял руку, и мулат нехотя слез.
– Ха… – барбр лег грудью на круп.
Не дотрагиваясь до поводьев, мгновенно очутился в седле. Повис на одной ноге, дотянулся до уздечки. Приник к лошадиной шее. Бета закружилась, взметывая копытами песок. Старая лошадь крутилась, как жеребенок, быстро перебирая ногами. Белый плащ барбра слился с крупом Беты, казался попоной.
– Ха!
Бета остановилась как вкопанная. Ноздри ее дрожали. Глаза нашли глаза Кронго. Барбр тоже следил за его глазами. Барбры с детства могут только чувствовать лошадь – но не понимать. То, что затеял он, Кронго, не так безнадежно. Еще хотя бы человек шесть. Он объяснит им, он будет следить.
Барбр слез. Бета потянулась – шеей и губами, все еще глядя на Кронго, заигрывая с ним.
– Это скаковая английская лошадь, – Кронго легко отстранил переносицу Беты. – Никогда больше не ущемляйте у нее сухожилия. Запомните.
– Берем обоих. Отойдите в сторону, – Мулельге не обращал внимания на сложенные руки.
– Кто еще умеет сидеть на лошади?
Седой манданке по-прежнему смотрел на Кронго. В этом взгляде было понимание, что его не возьмут.
– Не боитесь грязной работы?
Манданке вздрогнул. Поклонился. Мулельге похлопал мусульманина по плечу.
– Отойдите, молла, мы вас берем. Кто еще умеет на лошади?
Кронго заметил взгляд – теперь в эту сторону смотрел и Мулельге.
– Вы знаете лошадей?
Человек был худ, одет по-европейски, кожа матово-серая, как у жителя центральных районов. Но изогнутый крючком нос… Тонкие длинные пальцы.
– Местный?
Негр, щурясь, разглядывал что-то в небе.
– Городской?
– Городской, Жан-Ришар Бланш, – негр широко улыбнулся. Он явно говорил на парижском арго.
– Сядете на лошадь?
Странная, деланная улыбка. Но что-то в нем есть.
– Попробую, – Бланш долго, как слепой, ощупывал и мял поводья.
Он явно держал их первый раз в жизни. Положил руку на холку, попытался вскочить. Не получилось. Бланш с трудом удержал Бету за шею, примерился снова. Наконец вскочил, еле-еле удержался. Он был худ, костляв. Бета переступала ногами, дергала головой.
– Вы хотите работать жокеем?
– Кем назначите, – Бланш говорил в такт движениям, трясясь и стуча зубами. – У меня нет работы. Есть диплом. Мне не на что жить. Я люблю лошадей. Чертова лошадь.
Он пытался во что бы то ни стало удержаться. Улыбка, манера глядеть, наглая и застенчивая, по-прежнему не нравились Кронго.
– Хорошо. Мы берем вас. Мулельге, помогите ему.
Уцепившись за Мулельге, Бланш сполз вниз. Прихрамывая, пошел к остальным.
– Мулельге… Наберите рабочих на конюшни, на свое усмотрение.
Но ведь кто-то из них будет работать на Крейсса. А кто-то – на Фронт.
Но это не имеет значения. Он не должен думать об этом.
Он тогда вернулся в Париж, занялся с отцом лошадьми. Но главное, что он чувствовал, была наполненность Ксатой. Наполненность Ксатой и ощущение перемены в самом себе. Удивительно – но теперь он воспринимал как должное совсем иное значение смысла вещей, которое ему вдруг открылось. И так же как должное воспринимал вот это свое соединение с ней, вот именно – наполненность Ксатой, которую ощущал постоянно.
Раньше, участвуя в заговоре, в том тайном приготовлении к заезду на Приз, которое затеял отец, в скрытой от всех работе с Гугеноткой, участвуя во всем этом вместе с отцом, – он тем не менее смотрел и на заговор, и на всю затею отца отстраненно, чужаком. Пусть даже этот чужак искренне вносил свою помощь и с сочувствием следил за этими усилиями. Но он был чужаком в этом предприятии. Во-первых, потому что не верил в конечный успех, не верил, что молодая лошадь, пусть даже с прекрасными данными, сможет обойти Корвета. Во-вторых, он понимал, что затея отца, даже если Гугенотка возьмет Приз, все равно ничего не принесет ему, кроме неприятностей. Отец потеряет гораздо больше, чем приобретет.








