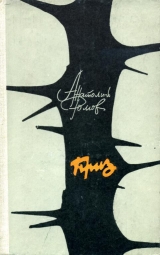
Текст книги "Приз"
Автор книги: Анатолий Ромов
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
– Как вы здесь?
– Хорошо, хорошо, все в порядке. Живем потихоньку… Садись… Я пока сбегаю за молоком. С дороги же нужно что-то поесть…
– Да не беспокойся.
– Хорошо, что приехал, хорошо. Ты ведь кокосы любишь… Любишь?
– Люблю.
– Ну, я сейчас.
Ндуба ушла. Кронго хотел спросить ее – что случилось, почему жители стояли на берегу – но передумал. Ему сейчас совсем не обязательно было выяснять – что произошло на том берегу… Совсем не обязательно узнавать, почему произошла драка. И что будет – с Балубу или с кем-то еще. Он приехал к Ксате. Ему хочется сейчас думать только о Ксате. Только о Ксате… Сегодня вечером он встретится с ней – остальное неважно.
Но он продолжал думать о Балубу – и в нем снова возникло ощущение чужести. Он снова испытал это знакомое чувство, снова ощутил себя чужим всему, что было связано с деревней – кроме Ксаты.
Но оказалось – и не нужно было ничего выяснять. Не нужно было ничего спрашивать – Ндуба сама заговорила об этом, когда он сидел на веранде. Он глядел на поверхность озера, отхлебывал молоко из маленького глиняного кувшинчика, а Ндуба передвигалась за его спиной, что-то убирала, что-то переставляла, непрерывно вздыхала, – и он понял, что хозяйке не терпится чем-то поделиться с ним, что-то сказать ему. Но – что же? Он подумал: конечно, это наверняка связано с тем, что случилось на том берегу.
– Что ты, Ндуба? Что-то случилось? – он поставил кувшин на стол. В нем возник острый, мучительный интерес.
– Да нет… – он слышал, как тряпка мерно трется о доски. – Ты прямо… приехал… Нет, конечно. Ты-то ни при чем. А тут у нас… Наши деревенские. Парень один умер. С того конца.
– Парень? – Кронго спросил это, стараясь говорить как можно равнодушней. Да, это – о Балубу. Значит – раненый умер.
– А я думала – ты видел. Он как раз, – Ндуба вздохнула, – когда ты приехал… На том берегу…
Тряпка перестала тереться о пол. Слышно было, как Ндуба достает ступу, что-то пересыпает.
– А… – он постарался скрыть интерес. – Отчего… умер? Этот парень?
– Да тут есть у нас один, – он услышал шуршанье – Ндуба стала что-то неторопливо растирать в ступе. – Сумасшедший… Хотя – нормальный он. Просто – из-за этого дела. Он… сын вождя.
– Сын вождя?
– Ну да, – Ндуба продолжала что-то растирать. – Балубу. У нас же тут… В деревне… Если сын вождя… Ты же знаешь. А он… Из-за девушки из-за одной.
– Из-за девушки?
– Она… На праздниках она танцует. Хорошая девушка.
– Ну и что? – Кронго почувствовал, как что-то сжимается внутри. Ксата. Это – Ксата.
– Ну вот. Из-за нее… Ну… из-за танцовщицы. Из-за Ксаты этой.
Из-за Ксаты. Из-за Ксаты этой. Ну да. Это могло быть только из-за Ксаты. Только из-за нее.
– А… что? – спросил он, пытаясь преодолеть себя, преодолеть то, что возникло сейчас в нем, – преодолеть боль, злость, ревность, которые кипели, сжигая все внутри, непрерывно усиливаясь. – Что из-за… Ксаты?
– Представляешь себе. Приревновал. Он… Балубу этот.
– Что – он?
– Вообще-то – парень он хороший. Никого не трогает, – Ндуба продолжала тереть – мерно, не торопясь. – Парень-то он ничего. Но – из-за Ксаты будто с ума сошел. Стал как бешеный.
Что же еще спросить? Что же еще спросить у Ндубы…
– Давно это он?
– Давно уже. Как почудится ему… Даже не просто ходит кто около нее… А просто – посмотрит кто не так… Как бешеный делается. Напьется. И по деревне бегает. С ножом.
– А… что она? Эта… Ксата?
– Да ничего… Смеется. Ей-то что.
Нет, все это не так. Он должен как можно скорей увидеть Ксату. Особенно сейчас, после того, что узнал. Он должен выяснить… Не может быть, чтобы у нее было что-то с Балубу…
– Ну и вот. Он… Этого парня. Который умер. Приревновал. Ну и – до смерти.
– И – что?
– Да парень-то был не виноват… Балубу просто… от любви своей совсем с ума сошел. Парень на нее даже не смотрел.
Ндуба перестала тереть и ушла на кухню. Наступила тишина. Кронго почувствовал прохладу – она шла от озера, от начинающей постепенно охлаждаться воды. Но эта прохлада не радовала его сейчас, он думал только об одном – узнать как можно больше из того, что скажет ему Ндуба. Ему казалось – это поможет хоть как-то унять то, что жжет его сейчас, унять эту мучительную боль.
– Ты что? – крикнула хозяйка из кухни, хотя он молчал. Вышла на веранду.
– Нет, ничего, – сказал он.
– Аа… Мне показалось.
– А что… она? Ну… она его тоже? Ну, что там – между ними?
– Не знаю, – Ндуба помолчала. – Кто их знает… Он сидел, не веря еще, что все переменилось. Все.
– Она красивая. Ох, красивая она, Ксата. Если б ты видел. Просто – красавица. Да у нее и мать такая была. Тоже… танцевала.
Может быть, ничего не переменилось. Ничего. Он уцепился за эту спасительную мысль.
– Вообще-то у нас с этим строго. Сам понимаешь. Обычай. Да ладно, заболтала я тебя. Сейчас будем обедать.
– А что же… с Балубу?
– Никто не знает. А что…
Все переменилось. Все переменилось, думал он тогда.
– Судить будут. Или… в городе. Или… у нас, на сходке. В лес пока ушел. Явится, никуда не денется.
Он увидел Ксату в тот же вечер – около озера, в разламывающейся от напряжения хрупкой тишине у воды, на том самом месте, где они всегда встречались. Он услышал шорох и обернулся. Он стоял у самого берега, думая о ней, и это была она – и, пока они стояли друг перед другом, в эти несколько секунд, он вдруг понял, как был глуп, ничтожен… Как он был мал рядом с ней, рядом с ее молчаливыми глазами, в которых он прочитал все без всяких слов. Как он был мелок, как недостоин ее, когда сомневался в чем-то. Но это мелькнуло только на секунду – и ушло. Она молча вцепилась в его рубашку, уткнулась в плечо, затрясла, задергала. Он видел – она сейчас изо всех сил удерживается, чтобы не заплакать, кусает губы, морщится. Она удержалась, стала говорить, непрерывно стуча по нему кулаками, стала что-то доказывать ему – жарко, шепотом, с детской обидой, со странной злобой:
– Я не могу без тебя!.. Слышишь!..
Она колотила по нему кулаками. Снова вцепилась в рубашку.
– Я не могу без тебя… Откуда ты взялся такой… Слышишь!.. Я не могу без тебя! Не могу! Не могу-у! Маврик, я не могу…
Она заплакала, бессильно повиснув у него на руках. Она плакала, уткнувшись в его плечо, продолжая бессильно, с горькой обидой что-то шептать, пытаясь найти в нем ответ:
– Слышишь, Маврик… Почему, ну скажи… Почему же я не могу без тебя… Маврик, милый, ну почему я тебя люблю… Ну объясни, ради бога, объясни… Ну объясни же мне, Маврик… Ну…
Он осторожно гладил ее, прислушиваясь к озеру, к тишине, к ее словам.
– Ну объясни, Маврик, милый, пожалуйста… Я же не могу без тебя, совсем не могу… Пойми…
Она закинула голову, взглянула ему в глаза.
– П-почему? – она мучительно сморщилась. – Маврик?
Да, вот сейчас он уплыл. И она уплыла – он ясно ощущает это. Зачем же все остальное – раз это так? Он ощущает ее сейчас, как себя, ясно чувствует ее в этой бесконечности, в невесомости, в пустоте, которая на мгновение – или на вечность? – обступила – его? – или ее? Нет, их вместе.
Значит – она любит его. Значит, все его мысли, все опасения – не нужны. Все это лишнее. Совершенно лишнее. Вообще – ничто не нужно ему сейчас, ничто на целом свете, раз это так.
– Ты приехал из-за меня?
Она прочитала это в его глазах – и успокоилась.
Они уже сидели – и лежали – и плыли куда-то, вцепившись друг в друга, будто боясь, что потеряются в этой пустоте. Плыли бесконечно.
Но ведь ему ничего не нужно, подумал он. Ничего, абсолютно ничего – раз Ксата его любит.
Теперь наступило спокойствие. Спокойствие, невесомость. Он был уверен – в себе, в Ксате, в целом мире. Остальное его не волновало.
– Ты… надолго приехал?
– Не знаю.
– Не знаешь?
– Насколько ты хочешь… Я… понял, что не могу. Просто не могу. Понимаешь – я без тебя не могу.
Тишина. Балубу. Париж. Гугенотка. Тишина. Звезды. И – ничего нет. Ничего. Ничего не нужно. Даже Ксата не понимает сейчас – насколько ему ничего не нужно, кроме нее.
– Спасибо… – она уткнулась ему в плечо. Зачем она это говорит. Почему – «спасибо».
– Мне… так хорошо, – она дотронулась губами до его шеи. – Ты понимаешь?
– Понимаю.
– Я не верю, что может быть так хорошо.
Тишина. Звезды над головой. Ксата. Он подумал – Балубу. Да, Балубу. Но он не хочет сейчас спрашивать или думать о нем. Балубу и все, что связано с ним, безразлично ему сейчас. Потому что это – лишнее. Сейчас это совершенно лишнее. Но вот возникает мысль, которая нарушает тишину, нарушает безмятежность. И вместе с тем эта мысль странным образом становится частью этой безмятежности.
– Ксата… Я хотел тебе сказать.
– Да.
– Мы должны быть вместе.
Что же он понимал под этим – мы должны быть вместе? Только одно – она должна уехать с ним. Да, уехать. Совсем – в Париж. Но это было бы немыслимым счастьем. Невозможным.
Она все поняла. Именно все – то, о чем он сейчас думал.
Дотронулась ладонью до его губ… Подбородка… Щек…
– Маврик…
Он повернулся к ней. Увидел ее глаза. Она улыбалась, и он увидел в ее глазах отражение счастья, они смотрели сквозь него, в пустоту.
– Давай сейчас… Не будем… говорить об этом. Хорошо?
– Хорошо.
Они уплыли. И в то же время он думал – не хотела же она, чтобы он жил здесь, в Бангу. Или – в столице? Она должна понять, что он не может оставить ее здесь. Не может. Как она дорога ему. Как дорога. Не может. Немыслимое счастье – чтобы она была ему так дорога. И все-таки он ответил «хорошо». Потому что сейчас, когда они лежат рядом, он понимает, что не нужно говорить об этом. И она понимает – что не нужно. Но она понимает гораздо больше. Она понимает все – даже то, что должна быть с ним. Понимает – до конца.
Но ведь что-то стояло за ее словами. За запинающимся, неуверенным «Не будем… говорить об этом». Не – будем – говорить – об – этом. Ксата не хотела уезжать. Не «не могла», а «не хотела», И это было совсем не потому, что она не могла оставить деревню. Что она не могла бы жить в Париже – потому что привыкла к деревне. Потому что ее не отпустили бы жители, так как этого не допускал обычай. Она могла бы уехать с ним – если бы он сказал обо всем Омегву. Омегву легко замял бы всю историю. Но – она не хотела. Не хотела… Не потому, что привыкла. Лучше бы он не понимал, лучше бы не догадывался, что дело было совсем не в этом.
Они лежали в зарослях, у озера, и он был счастлив.
– Ты уезжай, – тихо сказала Ксата. – Уезжай завтра. Ведь у тебя там… дела. А я приеду потом.
– Когда?
– Ну… потом.
Счастье. Да, это и есть – счастье.
– Ты не обманываешь?
– Нет.
Именно тогда и раздался этот крик – хриплый крик птицы. Он знал крики местных птиц и раньше уже слышал этот крик – похоже было, что кто-то с силой дует в большую полую трубку. Будто кто-то сильно дул в эту трубку, пытаясь свистнуть, – а получался только сиплый протяжный хрип. Ксата приподнялась – но он тогда не сразу связал ее движение с этим криком.
– Что ты?
Крик повторился, теперь он был ближе. Да, на этот раз уже Кронго был уверен – это кричала не птица.
– Ничего, – она оглянулась. – Мне… нужно отойти.
Только сейчас он наконец понял, что было это «другое». Это другое был Балубу. Кронго наконец понял, почему все у них происходило втайне, почему Ксата так боялась, что кто-то в деревне узнает об их встречах.
Он взял ее за руку, повернул – и она отвела глаза.
– Пожалуйста… Маврик…
– Я знаю, кто это.
– Пусти… – она осторожно высвободила руку. Она уходит – несмотря ни на что, несмотря на все, что было между ними.
– Это – Балубу?
– Маврик… – ее лицо искривилось, стало жалким. – Маврик… Ты… ничего не понимаешь. Это – совсем другое. Маврик, мне нужно отойти. Пожалуйста. Подожди меня здесь. Только никуда не уходи. Никуда. Слышишь?
Она скользнула в кусты, а он остался лежать, неподвижно глядя вверх, не видя ничего перед собой. Значит – это Балубу.
Что же было самым страшным – тогда, когда Ксата встала и скользнула в кусты? Тогда, когда он понял, кто издавал этот хриплый звук? Когда почувствовал, что она ушла к Балубу?
Самым страшным тогда было ощущение утраты власти. Ему казалось, что какая-то часть власти, его власти, именно – его, безраздельной власти любви, которую он так остро ощущал и которая тогда составляла основу счастья, – теперь, после того как Ксата скользнула в кусты, – уходит, исчезает. Он впервые понял, что до этого момента властвовал над Ксатой. Это было счастьем, легким, беззаботным счастьем любви. Он остро ощущал счастье властвовать – так же, как и она властвовала над ним, так же, как и она ощущала это счастье. Но вот раздался крик птицы, звук, полусвист, полухрип, чужой ему, лишний, ненужный, – и она ушла. Она понимала, что произойдет с ним – но все-таки выскользнула, оставила его, ушла туда, в лес, хотя он не хотел этого.
Но ведь он не знал, зачем ее вызывал Балубу. Не знал.
Пусть это была ревность. Он не придумал эту ревность, не звал ее, она появилась сама. Эта ревность вошла в него, раздавила, пронзила, стала его частью. И он не хотел ни о чем больше думать – тогда, когда лежал и смотрел вверх.
Он не хотел, чтобы она уходила к Балубу – даже на те несколько минут. Не хотел. Не хо-тел! И все-таки она ушла – понимая это. Он не хотел выслушивать ее объяснений, не хотел даже понимать, зачем она уходит в лес. Да, он ревновал. Ревновал – потому что разрушилась власть. Ревновал немыслимо, невыносимо… Он лежал, как каменный, ощущая страшную боль, глядя вверх, – и ничего не видел, не ощущал, кроме этой боли.
Но ведь в конце концов он должен был смириться с этим. Должен был! Он должен был понять, что это неизбежно. Но почему же эта неизбежность становилась в те секунды такой мукой? Он должен был понять, что его любовь к Ксате не может кончиться, исчезнуть – никогда, ни за что. Она не кончится, не прекратится – сколько бы он ни ревновал, что бы ни происходило, как бы она ни вела себя.
Она действительно вернулась через несколько минут. Вернулась и легла с ним рядом. Она лежала, положив руку ему на плечо, молча, ничего не объясняя ему. Да, он чувствовал – она не хочет ему сейчас ничего объяснять. Ни-че-го. Но ведь потом, когда он уедет, эти несколько минут могут превратиться в часы… Эти несколько минут власти Балубу над ней.
Именно тогда, именно в эти минуты, когда она лежала рядом, вернувшись, он вдруг понял, что это значит – любить ее. Именно тогда.
Он не знал, что сказать ей тогда, когда она лежала рядом. Не знал.
Нет, не было разницы между миром Ксаты и его миром. Он рассказал ей обо всем – об отце, о заговоре против Генерала, о Гугенотке, – и она поняла это. Она поняла это до конца, так же, как понимал он, – если не больше. Она поняла все тонкости, все, что было главным в заговоре. И встала на сторону отца, и настояла, чтобы Кронго скорей уехал, чтобы помочь отцу. Она никогда не была на ипподроме – но уже хотела увидеть его лошадей. Она уже знала их по именам, различала каждую из них в его рассказах. Он понимал – это значит, что Ксата почти решила, почти готова уехать к нему в Париж.
Сидя в самолете, глядя вниз, на облака, отделяющие небо от океана, он наконец понял остроту, с которой счастье становится реальностью. Счастье, его счастье, мучительное, выстраданное им, болезненное, найденное так случайно и так прекрасно, – вдруг становится чем-то еще, не только тем, что он ощущает в себе, – и от этого не делается менее прекрасным. Если Ксата будет с ним – счастье, оставаясь в нем, частью своей становится всем, что окружает его: вещами, предметами, делами, бокалом шампанского, самолетом, облаками, океаном.
Все было бы хорошо, если бы не появились эти тени. Если бы эти тени не напоминали о какой-то иной, непонятной ему связи, которой он не знал и которую не мог понять. Они появились один раз – когда он лежал на берегу озера и ждал Ксату. Они возникли в тишине, где-то на границе послеполуденной жары и преддверия прохлады, – возникли и исчезли, и больше он их никогда не видел.
Он лежал и ждал Ксату, он был весь наполнен этим ожиданием – и вдруг в тишине, в редких криках птиц что-то почувствовал. Да, он почувствовал тревогу. Сначала это было просто непривычное ощущение, ему что-то показалось. Он как будто уловил какое-то движение в кустах, что-то вроде легкого дуновения, напрягся, прислушался – нет, все было тихо. Никакого движения не было, ему наверняка почудилось. И все-таки ощущение чего-то постороннего, лишнего, ощущение тревоги осталось. Ощущение тревоги не прекращалось, оно росло и в конце концов заставило его встать. Он встал, прислушался – и тихо вошел в кусты. Сначала он хотел просто позвать ее, сказать: «Ксата» – но на секунду передумал. И все-таки сказал, не очень громко: «Ксата?» Он помнил, как не хотела она, чтобы кто-то знал об их встречах, как боялась этого. Если он говорил ей: «Ведь все равно ты уедешь со мной», она неизменно отвечала: «Да, уеду. Но пусть все узнают об этом потом, когда я уеду». И он каждый раз соглашался с ней, потому что знал и чувствовал, что это в любом случае будет счастьем.
Он прошел несколько шагов в кустах – и вдруг понял, что окружен. Он был сейчас окружен тенями, призраками, бесплотными видениями. Но это не испугало Кронго. Он увидел лицо в зарослях, которое безмолвно смотрело на него. Сначала он испытал даже что-то вроде удовлетворения, – значит, я не ошибся, почувствовав тревогу. Встретившись с ним взглядом, лицо не вздрогнуло, не пошевелилось. Это лицо казалось коричневым плодом, давно выросшим на тонкой ветке кустарника и ухитрившимся каким-то образом не согнуть ее. Молодое, безбородое, бесстрастное, лицо было чужим, незнакомым, Кронго никогда раньше не видел его в деревне. Лицо было таким неподвижным, что сначала даже не испугало его. Но что-то в этом лице заставило Кронго понять, что рядом, где-то совсем близко, есть такие же лица, такие же видения, – и они следят за ним. Он оглянулся – и увидел в зарослях еще одно лицо. Теперь уже – с редкой вьющейся бородкой, постарше. Потом – два рядом. Он пытался проникнуть взглядом сквозь листья – и разглядел блестящий коричневый торс, дуло и приклад автомата, повешенного на шею. Кронго подумал – почему же он не пугается? Вернее – испуг есть, но пока не трогает его, он где-то притаился, и Кронго рассматривает сейчас эти лица совершенно спокойно. Да – он спокоен, потому что эти лица сейчас ничем не выражают своей враждебности. Они глядели безучастно, в них не было заинтересованности. Больше того – они позволяли Кронго бесконечно, как ему казалось, и – безопасно разглядывать себя, ничем не отвечая на его взгляд.
Но эта кажущаяся бесконечность длилась всего несколько секунд. Лица исчезли – так, будто их и не было.
Самое удивительное – их действительно как будто не было. Ветки кустов остались неподвижными, стояла та же тишина, изредка нарушаемая всплесками на поверхности озера или криками птиц.
Когда пришла Ксата, он пытался понять – знала ли она об этих лицах… Он спрашивал ее об этом – но исподволь, будто ненароком пробуя узнать, как она шла, что видела по дороге… Но почему в нем возникла эта осторожность? Он не мог это объяснить. Он не задавался тогда вопросом – почему же он просто не спросил ее об этих видениях? Ему казалось – он испугает ее. Но она никого не видела, он понял это по ее глазам. По словам, ответам, по тому, как Ксата смотрела на него, он тогда понял – или ему показалось, что понял? – что она ничего не видела, никого не встречала. Потом уже он убедил себя, что это ему не показалось, что было ясно – эти лица, эти бесплотные видения остались для нее тайной. Но что же все-таки заставляло его тогда не спрашивать об этом прямо? Что? Что именно?
Но ведь они могли видеть его и ее вместе. Могли.
Да, все-таки он был тогда уверен, что почему-то не мог спрашивать ее об этом.
Но в конце концов он должен был когда-то сказать ей о тенях. Должен был. Пусть не тогда, пусть потом.
Этот нелепый сон прервался, и Кронго, еще не проснувшись, попытался уговорить себя, что это всего только сон. Он ощутил тепло. Сон ушел, пропала наконец нелепая белая гортань Крейсса… Кронго услышал шум волн и понял, что вокруг сумерки. Он слышал шепот, называвший его имя. Нет, ему показалось. Наконец Кронго понял, что уже не спит. Сумерки же – утренние… Почему ему приснился именно комиссар Крейсс? Именно он и никто другой? Кронго несколько секунд лежал, пытаясь привыкнуть. Обычно он спускался вниз, бросался в волны. Плотное соленое объятье снимало сон. Еще не проснувшись, Кронго сел, сунул ноги в шлепанцы. Сквозь темную гостиную прошел в ванную. Нащупал кран. Вода падала на шею, затекала на спину, трогала живот. Сейчас он выбит из колеи. Но ведь он бывал уже так выбит раньше. И каждый раз ему казалось, что все кончено, мир остановился. И каждый раз он пытался сцепить какие-то крохи, какие-то остатки своей сущности, и убедить себя, что все не так плохо, что все поправится. Вот и сейчас он пробует сцепить все, что у него есть, в целое. Мотающих головами лошадей, Альпака, Бвану, Ле Гару. Даже старую Бету. Мулельге, объясняющего что-то набранным. Двух барбров, мулата с бородкой, Амалию… Этого крючконосого негра, Бланша…. Все это стягивается вместе, соединяется… Странно – сейчас его охватывает острое предвкушение того дня, когда он откроет ипподром. Предвкушение музыки над трибунами… Выезда лошадей… Бегов и скачек… Они могут состояться уже через неделю. И это облегчает его. Облегчает и то, что он теперь убежден – болезнь Филаб временная… Это просто шок, он пройдет. А мальчики, его дети, которых он почти не знает… Он вспомнил, как зовет их Филаб… Она дала им свои клички – Бубуль и Гюгюль… Им семь и пять… Они сейчас где-то в джунглях, но он думает о них так, словно они рядом и им хорошо. Да, он плохой отец, потому что думает сейчас не о них, а о лошадях… Но он будет лучше. Может быть, он даже сам сядет в качалку… Теперь, собрав все вместе, он связывает это общей мыслью. Не может быть, чтобы все это продолжалось вечно. Наступит стабильность, не может не наступить… Он не знает, как именно, он не хочет думать об этом сейчас – но наступит. Стабильность поможет ему спасти то ценное, что всегда было в его жизни, – лошадей. И чувство победы, чувство Приза. Да – живущее в нем всегда чувство Приза. Он подумал о том, о чем иногда думал с усмешкой, – о профессии. Странная, не производящая ничего. Лошадей давно уже не воспитывают для работы. Он подставил ладонь, отводя струю в сторону, так, чтобы она попадала на затылок. Ради чего нужен тот быстрый бег лошади, который создает он, и все связанное с ним? Ведь ради этого он рожден, он, Кронго, появился на свет, специально приспособленный только для этой цели. Он должен воспитывать этот бег и этих лошадей, и в этом его счастье. Но цель эта призрачна, неясна. Быстрота лошади, ее резвость может быть, и становиться, и возникать в людях, вокруг них и для них – чем-то прекрасным, существующим ради высшей цели… а может показаться чем-то нелепым, ненужным, возникающим непонятно зачем… и притом – всего несколько мгновений. Кронго медленно растер шею сухим полотенцем, снял с крючка шорты, гимнастерку, натянул. Как отчетливо сейчас, в этом зеркале, проявляются в его лице черты матери. Черты, которых он раньше не замечал. Обычный нос, такой может быть и у европейца. Но только у племени ньоно может быть эта остренькая раздвоенность на конце, и за ней – расширенные ноздри, которые ему напоминают ноздри буйвола. Но это заметно только ему, потому что кожа у него гораздо светлей обычной кожи мулата. Волосы черно-седые, но гладкие, как у европейца. Глаза выдают его безошибочно. Огромные веки – даже когда глаза открыты, сочные лепестки кожи занимают две трети глазных впадин, оттеняя грустный белок навыкат. У Кронго он почти без желтизны. Но и этих примет достаточно, чтобы выдать это худое лицо с неясными скулами и чуть вытянутым книзу подбородком. Он редко думал о своем лице именно так, у него не было времени, чтобы об этом думать. Ежедневно бреясь, он изучил его наизусть и знал, что волосы растут редкими островками на подбородке и у висков. Значит, это тоже африканский признак. А он думал, что это просто некрасиво. Поднимаясь по лестнице, Кронго старался отогнать неожиданно появившуюся теплоту какого-то странного тщеславия – то, чего он раньше стеснялся. Эти приметы матери, оказывается, могут стать предметами гордости. Какого-то горького и сладостного раскрытия – да, да, я такой, пусть считают, что это плохо, но я такой, я счастлив, что я такой, и другим не хочу быть. Он уже чувствовал это тщеславие раньше, в детстве. Потом забыл о нем, но сейчас оно проявилось особенно остро, и он пытался отогнать его, уговаривая себя, что то, о чем он думает, недостойно его, глупо, по-ребячески.
Ощущение любви, ощущение счастья переполняло его тогда. Но он старался скрыть это ощущение, держать его в себе – хотя иногда болезненно чувствовал чрезмерность переполненности, мучение от невозможности освободиться от нее. Он никому не говорил о том, что с ним происходит, – кроме Жильбера.
Да, он сказал это Жильберу, когда тот зашел к ним в конюшню, примерно за неделю до дня розыгрыша Приза. Как обычно, Жильбер остановился у двери и свистнул.
– Кро… Ты свободен?
Как легко и мелко все, что он, всесильный, всемогущий, молодой, полный своей любовью, он – Кронго, Кро – делает сейчас. Очистка денников молодняка, втирание мази в круп Корнета-второго, наблюдение за ковкой… Какая все это мелочь… Как все это знакомо ему, как мелко, незначительно – и в то же время как легко.
– Сейчас, Жиль… Привет… Подожди секунду.
Конечно, отец занят сейчас только одним – предстоящим розыгрышем Приза и подготовкой Гугенотки, Кронго же взял на себя все остальные дела по конюшне. Он, всесильный, всемогущий, полный любовью Кронго, Кро. Он – перед которым ничто не может устоять. В нем сейчас живут одновременно переполненность любовью – и мукой… Но именно эта мука и делает его всесильным.
– Кро… Я подожду?
– Все, Жиль, я готов, – он вышел, щурясь на солнце после полутьмы конюшни.
Вот эти условные слова, которые понятны только им.
– Привет великим…
– Привет – о! – таким же великим…
Они отошли в сторону и сели на скамейку, с которой была видна часть трибун и тренировочный круг. Откинулись на спинку, подставили лица солнцу, зажмурились, застыли. Кронго всегда, было легко с Жильбером. Жильбер никогда не пытался что-то узнать у него, всегда выслушивал его молча, без лишних вопросов. Именно таким Жильбер был нужен Кронго. Но и Жильберу нужен был он, Морис, Маврик, Кро, таким, каким он был. И Кронго хорошо это знал, он знал, что скрывается за этим. Кронго был нужен Жильберу из-за его безнадежной любви к матери. Кажется, Жильбер много раз пытался избавиться от этой любви – и не мог. Любовь была именно безнадежной, Кронго это понимал. Жильбер все знал о матери и Омегву, все – от начала до конца.
– Дашь «наколку», Кро? Или «фонарик»?
Шутки. Обычные шутки.
– Перестань, Жильбер…
– Ну, в крайнем случае – свесь ногу…
– Что тебе даст моя нога? Я не лезу в их кухню.
– Ну, ну… О’кей.
– Ты что – стал поигрывать всерьез?
Все это – блаженно жмурясь на солнце, не открывая глаз. Как легко с Жильбером. Как ощущает он сейчас переполненность счастьем – и мукой.
– Да ну – всерьез. Когда я играл всерьез…
Как его переполняет ощущение любви.
– Когда играешь всерьез – все пропадает.
– Верно… Ты знаешь, Жиль…
– Да?
Солнце. Ксата. Он думает сейчас только о ней – и может надеяться, что она думает сейчас только о нем.
– Кажется, я влип.
– Не понял. Ты о чем?
– Жильбер, я влип. Безнадежно.
Да, после того, как он сказал это, ему сразу стало легче. И Жильбер, несмотря на насмешку, скрытую в его словах, понимает то, что сейчас с ним происходит.
– О-о… Это интересно.
– Нет, Жильбер… Нет. Пойми – кажется, я вмазался. Влип всерьез. Понимаешь?
Жильбер молчит. Как легко сейчас говорить об этом Жильберу – и чувствовать, что он все понимает.
– Насчет в м а з а т ь с я в с е р ь е з – это я понимаю, кажется, лучше, чем кто-либо.
Жильберу сейчас горько, и Кронго понимает его горечь и знает причину. Но он переполнен только своим счастьем. Сейчас ему кажется, что Жильбер, понимая его переполненность, забывает о своей горечи. А может быть, наоборот – в этой горечи есть своя радость, и Жильбер чувствует это.
– Кто она? С в о я?
С в о я. Он понимает прекрасно, что это значит.
– Неважно.
– У-уу… Парижанка?
Тишина. Солнце. Что бы он ни сказал сейчас Жильберу – тот все поймет.
– Значит – действительно вмазался всерьез? Она – «культуриш европеиш»?
Все ясно, что хочет сказать этим Жильбер. Белая ли она.
– Нет.
– Так-так-так-так-так. Неужели «наша»?
Он очень хорошо понимает, что значит это «наша». Наша – значит черная.
– Жильбер…
– Прости. И что – хороша?
Тишина. Солнце. Если бы только Жильбер знал, как она хороша. Если бы только он увидел ее.
– Ну, конечно, если ты вмазался, то это какая-то сумасшедшая красавица.
Солнце. Ксата. Переполненность счастьем – и мукой.
– Вот именно – сумасшедшая красавица.
– Дело не в том, что она красавица. Не в том… У нее оттопыренное ухо…
– Ну что же… Сколько ей лет?
Он ничего не отвечает. Сколько нежности сейчас в нем. «Тебе нужна такая обезьянка? Которая ничего не умеет, только – танцевать?»
– Наша, красавица, и, наверное, она прекрасна… Хорошо, хорошо. Не буду ничего спрашивать. Сказал – и довольно. Посидим молча.
– Посидим.
– Просто – я тебя поздравляю.
– Спасибо.
И снова они сидели молча, сидели, не открывая глаз, закинув руки на спинку скамейки, жмурясь на солнце. Да, они теперь все понимали друг о друге, им было легко…
Потом, когда они прощались, Кронго понял, из-за чего зашел Жильбер. Сейчас, перед Призом, он мог интересоваться только одним – есть ли еще какие-нибудь фавориты, кроме Корвета.
– Я не прошу тебя выдавать тайну, слышишь, Кро… Ты просто скажи – отец поедет?
Смеющиеся, прищуренные глаза Жильбера. Но даже ему нельзя сейчас ничего говорить – даже Жильберу, которому он верит, как себе, который, он знает, никогда ничего не выдаст. И – все-таки…
– Отец всегда едет. Пойми это, Жильбер.
Жильбер смеется.
– Ты же знаешь, Кро, я всегда, в любом случае, ставлю на вас. На фаворита – и на вас. Ради интереса.
– Ну – если ради интереса… Ставь и сейчас.
В день розыгрыша Приза они были в конюшне уже в шесть утра и сразу же прошли к деннику Гугенотки. Диомель стоял у денника и следил, как двое младших конюхов чистят пол. Вместо приветствия молча поднял большой и указательный пальцы, сведенные в кольцо. Это значило – все в порядке, ночь прошла хорошо, лошадь в хорошем настроении. Они вошли в денник – и Гугенотка повернулась, зашевелила губами: ждала обычной морковки.
– Выведи ее пройтись, – отец достал приготовленную, заранее очищенную, морковь.








