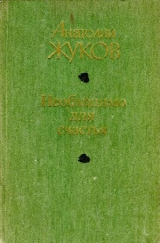
Текст книги "Необходимо для счастья"
Автор книги: Анатолий Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
По мере удаления от берега он плыл все медленней, а примерно на середине пути (устал, что ли?) неловко перевернулся на спину и окунулся с головой. Наверно, он хлебнул при этом воды, потому что тотчас повернулся на живот и растерянно забил ногами, развернувшись прямо к берегу.
– Нежданка, Нежданка! – донесся его испуганный голос.
И Андрей Ильич, едва уловив этот голос и еще не поняв его значения и смысла, был уже в лодке и летел по озеру стремительно и неудержимо, как пожарная машина, крича во все горло: «Держись, держись!»
И этот крик и Петькин зов словно бы разбудили равнодушное спокойствие древнего озера и леса, оживили их тишину, и она отозвалась тревожно-озабоченным эхом.
Андрей Ильич греб изо всех сил, весла изгибались от резких рывков, и вода расступалась перед лодкой широкими усами.
Нежданка вошла в воду почти сразу же после зова своего кормильца, и он выплыл, обняв ее за шею, и уже кормил хлебом и гладил, когда лодка ткнулась носом в берег, осыпав на себя куски глины.
– В сеть ногой попал, чуть не запутался, – сказал Петька. – Вы поезжайте, а то она вас боится. Я берегом приду. И как это я забыл про сеть?! Говорил же батька…
Андрей Ильич поехал обратно, недоверчиво глядя, как лосиха трется горбоносой мордой о мокро-блестящее плечо Петьки, а лось стоит под деревом в отдалении и терпеливо ждет, сторожко поводя ушами.
Черт знает что, как во сне. В сказочном невероятном сне. Озеро, лоси, сеть, мальчонка, древняя опасность утонуть. Андрей Ильич еще дрожал от возбуждения, опасливо глядел на берег и чувствовал, что он готов броситься к Петьке, если настороженный лось пойдет к нему. Эта его тревога и озабоченность не улеглись и потом, когда Петька возвратился и они стали варить уху. Он боялся, как бы мальчонка не обварился кипятком, не обжегся в пламени костра, не порезался ножом, когда чистил рыбу. И хотя это было смешно – Петька лучше его знал такую работу, – он тревожился и чувствовал, что судьба мальчишки ему не безразлична. И вместе с этим чувством пришло ощущение своей силы и способность сделать все в решительный момент.
А Петька сидел на траве, чистил ножом рыбу и рассказывал, что позапрошлой весной старую лосиху задрали волки, а лосенка отец разыскал в чаще, и Петька долго выпаивал его коровьим молоком, а осенью, когда лосенок подрос, выпустил в лес. Всю зиму Нежданка навещала дом лесника, а нынешней весной Петька перенес встречи на озеро. Когда он бывает занят и не является, Нежданка зовет его, а не дождавшись, приходит домой и сердится, не хочет брать хлеб.
Он давно уже успокоился и легко перешел на прерванный в обед разговор о транзисторном приемнике и перпетуум-мобиле и опять увлекся, пообещав доказать Андрею Ильичу возможность постройки вечного двигателя.
Андрей Ильич слушал его, подкладывая в костер сухие сучья, и улыбался. Вот с таким же наслаждением он слушал доклад прославленного ученого на конгрессе. Вещи несопоставимые, разумеется, но вот же не знаешь, что такой пустяк доставит тебе радость и, следовательно, окажется значительным.
Потом они сидели в шалаше на земляной, застеленной сеном скамейке и хлебали деревянными ложками из ведра дымящуюся уху. Уха была ароматной, с дымом костра, с душистым укропом, а тут еще примешивались запахи трав, цветов, свежесть лесного и озерного воздуха. И во всем этом: в еде, и в чистом воздухе, и в запахах – была добротность, прочность здоровой уверенной жизни.
После ужина Петька посыпал крупную рыбу солью и достал свою смятую тетрадь.
– Вот чертежи моего двигателя, посмотрите, пока светло.
Андрей Ильич взял тетрадь и поглядел простенькую схему и подклеенный к ней чертеж какого-то узла.
– Перпетуум-мобиле, – сказал Петька с гордостью. – Основой его я сделал реактор на трансуранах, топливом будет сто второй элемент.
– Так ведь он еще не открыт, – сказал Андрей Ильич.
– Откроют, – заверил Петька. – В Дубне наши ученые, – вот только забыл фамилии, радиохимика одного помню, Ермаков, – получили изотоп сто второго, но живет он пока недолго, всего несколько секунд.
– А тебе сколько надо?
– У меня рассчитано на четыреста лет.
– Хм, на четыреста. Но ведь это не вечность.
– Я знаю, но это только начальный цикл, а потом сто второй элемент превращается в новый, его тоже еще не открыли, а этот новый – в фотон. Вот дальше я пока не знаю, но я думаю, что фотон вечный. Ведь свет-то не пропадает и живет только в движении, а в покое масса фотона ничего не весит – нуль. Это один академик в журнале писал. Значит, фотон вечный, так ведь?
– Вряд ли, – сказал Андрей Ильич серьезно. – Если масса фотона равна нулю, следовательно, ее могли измерить в состоянии покоя.
– Э-э, – засмеялся Петька, – а вы так сразу и поверили! Вы что, не слышали закона сохранения и превращения материи? Ничто не умирает и не пропадает, а только превращается в новое – вот!
Андрей Ильич засмеялся и дурашливо покрутил головой. Он никак не мог освободиться от событий второй половины дня и вернуться к прежнему состоянию, и это его радовало и умиляло. Он поймал тройку большущих сазанов, увидел Нежданку и пережил какую-то радостную и бодрящую тревогу за Петьку, который мог утонуть, а тут еще ароматная уха, дискуссия о вечном двигателе и разных больших вещах, которые любит Петька. Черт знает как хорошо, сказка какая-то, Шехерезада!
Его забавляла и радовала Петькина уверенность, веселила захватанная тетрадка с корявыми чертежами (вот такая и у него была) и эти его смешные рассуждения о транзисторах, фотонах, и все, и все. Или он уже успел отдохнуть за эту неделю, или в нем совершилось что-то подготавливаемое годами, но приходила легкость и уверенность, и эта уверенность была где-то вне его, она жила независимо от его усталости и сейчас стояла рядом и поила его. Вот так было в детстве и юности, и потом наступали такие минуты уверенности и безоглядности, но все это было не только с ним, все это начиналось еще до него, началось с веры в вечность, потом в такой двигатель, который он тоже собирался сделать, в исследования и муки, которые никогда не прерывались со смертью одного, но подхватывались другими, и какая-то вечная непонятная сила заставляла их – и других, и третьих, и четвертых, и многих – работать, идти, лететь, стремительно и безостановочно, как фотон, который не существует в покое. Вечная движущая сила эта была в земле и в душистой траве, в воздухе и в воде, в закатном разбрызганном солнце и розовых облаках, в Нежданке, защищенной человеком, и в горячих глазах Петьки. И была она незатухающей и постоянной, она не могла не действовать, потому что ею жил, пульсируя, неустанный мозг Андрея Ильича, потому что она требовала вечного двигателя от беспокойного наивного Петьки, потому что масса фотона в покое равна нулю.
1966 г.
КОЛОСКИ НЕСПЕЛЫЕ, НЕОБМОЛОЧЕННЫЕ…
Может быть, на нее не обратили бы особого внимания, потому что в те годы по селам много ходило нищих-побирушек – и слабых умом, и не слабых, но старых и немощных телом, и увечных, и разных убогих людей, которые не имели своего угла с хлебом. Тогда и здоровые не все его имели. Война уничтожила сытные углы, разрушила обжитые места, разметала людей по всей большой неприютной земле.
И эта тронутая умом нищенка, не помня рода своего и племени, бродила от села к селу и кормилась чем бог пошлет и что подадут добрые люди. Бог посылал редко, а добрые люди сами недоедали и оттого стали сердитыми и часто недобрыми.
Она была молодая и, пожалуй, красивая, если бы с ее лица стереть застывшую бессмысленную улыбку, а большие глаза, серые, с дымной поволокой, заставить глядеть не внутрь себя, что-то там высматривая и прислушиваясь, а на людей, на мир, который для нее будто не существовал. Наверно, поэтому ее красота не привлекала, а настораживала, как настораживает не по заслугам почет, не по чину звание, не по Сеньке шапка.
Впрочем, на руках у нее был ребенок двух примерно лет, сероглазая, как мать, кудрявая девочка, белокурая и чумазая, завернутая в старую солдатскую шинель с красными петлицами.
Шинель эту нищенке оставил человек, которого ее красота не насторожила, а привлекла, как животного привлекает легкий и свежий корм. Может быть, он и не воспользовался бы этим, но нищенка что-то искала той первой военной зимой и сама пришла к нему, а он был голоден и решил, что она искала не кого-то другого, а именно его, солдата с красными петлицами, от которых нищенка не отводила глаз и долго вспоминала что-то, но так и не вспомнила, и пришлось отдать ей шинель, потому что одни петлицы, когда он хотел отпороть их, думая, что она помешалась на красном цвете, она взять не соглашалась. А через девять месяцев она родила за дальним незнакомым селом (они все для нее были дальними и незнакомыми) девочку, обмыла ее в полевом пруду, где поили скотину, и завернула в эту шинель.
Она была просторной и длинной, шинель с красными петлицами, и в холодное зимнее время нищенка надевала ее, закалывала булавкой полы внизу, чтобы студеный ветер не хватал за ноги в рваных чулках и галошах, подвязанных веревочками, а сероглазую девочку прятала на груди и прикрывала все той же просторной шинелью. Летом она надевала ее только в ненастное время, чтобы прикрыться от дождя, и длинные полы поднимала, укрывая девчонку, которая уже могла держаться за шею, а где была ровная и не грязная дорога, просилась с рук на землю и шла своими ногами.
Так они вошли и в Малиновку, небольшое степное село, где не было ни малины, ни других кустов и деревьев, только дома под соломенными крышами да позади домов кучи навоза, которые бабы поливали водой из пруда, собираясь делать кизяки для топки зимой. Время было позднее, обеденное, но из-за дождя, прошедшего утром, все малиновцы занимались домашними, а не колхозными делами: и бабы, и старики, и дети. Из мужиков в селе находился один Дементий-матрос, который воевал на подводной лодке, а потом от контузии сделался нервным, и его отпустили домой и выбрали здесь председателем колхоза и сельского Совета – полной властью, следовательно.
Дементий тоже делал за конюшней кизяк. Для сельсовета. Он был одинокий и проживал в своем кабинете, который называл кубриком, мать его умерла, а дом матери он отдал многодетной вдове Матрене Шишовой, по прозвищу Коза. В Малиновке у всех были прозвища.
У дома Матрены Козы и случилась печальная с нищенкой история. В других домах ей не подавали, бабы торопливо отворачивались, завидя ее, а те, что не успели отвернуться, сочувственно отвечали: «Бог подаст» – и в свое оправдание бормотали, что ребятишек вон целая орава и все жрать каждый день просят, смерти на них, окаянных, нету. Упоминание о смерти пугало нищенку, и она с улыбкой, которая не сходила при испуге, вела девочку к другому дому.
Так они очутились перед низкими открытыми окнами Матрены Козы. У нее было своих четверо козлят и ожидался пятый – от Дементия-матроса, с которым она рассчитывалась за подаренный дом. Дементий долго крепился, но потом, одинокий человек, не устоял, так как Матрена была баба молодая, бойкая и не хотела оставаться у мужика в долгу.
– Дайте хлебца, пожалуйста, – сказала нищенка в шинели, протягивая к окнам девочку, которая опять попросилась на руки.
Матрена высунулась из окошка, чтобы сказать привычное: «Бог подаст», но, встретив глубокий и пустой, как заброшенный колодец, взгляд красивой нищенки, на минуту смутилась. Отсутствующий взгляд обидел ее, но тут она увидела девочку и умилилась:
– Белехонькая какая, кудрявенькая, куколка ненаглядная! – запричитала Коза, соображая, подать или не подать этой нищенке хлеба из лебеды и отрубей. Она испекла последние пироги, до конца недели не хватит, а отруби кончились, и лебеда новая еще не поспела. Вот молотить начнут после жатвы, тогда отходов у Дементия можно попросить, но это будет-не скоро, картошку придется до времени рыть, и в зиму останешься с пятерыми на одной лебеде. – Картиночка ты писаная, сиротиночка бедная! Как же тебя зовут, деточка ты моя?
– Зорька, – чисто выговорила девочка, глядя на руки женщины, в которых ничего не было. – Ты нам хлеба дашь?
– Зорька! – умилилась Матрена. – И как же хорошо говорить научилась, Зорюшка, будто взрослая девка. Зоренька! – И вдруг спохватилась, сердито поглядела на нищенку: – Зорька? Да што она, корова, што ли, Зорькой ты ее назвала, аль собака?! Нагуляют, а потом измудряются над человеком, жизню ему портют!
– Тетя-а, хлебушка… кусочек!
– Ох ты, господи, наказанье-то такое! Дам я тебе хлебушка, дам, крошечка моя несчастная. Сейчас, только в погреб сбегаю, в погребе он у меня, от своих таких же прячу, а то в одночасье растаскают. У двора меня подожди.
Она захлопнула окошко, чтобы другие нищие вот так же ее не разжалобили, и побежала к погребу, который был на замке. На погребице она долго искала спрятанный от ребятишек ключ, открывала, слезала, долго примеривалась ножом к тяжелому, как кирпич, расплывшемуся караваю, чтобы отрезать не много, но и не так мало, девочка больно уж хорошенькая, жалко.
Она отрезала небольшую горбушку и, чувствуя себя доброй, вынесла ее торжественно ко двору, где ожидала нищенка с девочкой. Разломив хлеб пополам, одну половину она протянула девочке, которая тотчас стала с жадностью есть, а другую матери. Но руки нищенки были заняты девочкой, и Матрена забежала сзади, чтобы снять котомку со спины и положить хлеб.
– Да не вертись ты, Христа ради! – крикнула она нищенке, стаскивая с нее котомку. – Не украду я ее, не бойся. Вот мы щас положим и… – Матрена будто споткнулась, увидев в котомке колоски немолоченой ржи. Много колосков, полкотомки набито. Если обмолотить, фунта два чистой ржи будет. – Во-он ты што, голубушка! То-то вертелась ты от меня, воровка несчастная! Христарадничаешь, а сама чистый хлебец в котомочку, а? Ну-ка пройди, пройди вперед.
Нищенка, улыбаясь, послушно сделала несколько шагов и оглянулась.
– Здоровая! – ахнула Коза. – Я думала, хромая или горбатая, а ты здоровая, молодая и воруешь! Вы только поглядите, люди добрые, что она удумала, эта красавица, вы поглядите!
Проходившие улицей две бабы и старик остановились.
– И ведь смеется, подлая душа, с улыбочкой ворует! – кричала Коза, сразу забыв о своей доброте. – Мы лебеду едим, работаем с темна до темна, а ты, паразитка, смеешься? Ты зачем смеешься, цирк тебе тут, что ли?
– И правда, шмеется, – прошамкал беззубый старик, поглядев на колоски в котомке, потом на нищенку. – Фунта четыре шобрала ржички-то и шмеется.
– …я котомку-то с нее тащу, а она не дается, – рассказывала бабам Коза. – Я туда, а она – сюда. Да не вертись ты, говорю, Христа ради, не украду я твою котомку. Развязала, гляжу, а в котомке-то – колоски. Мокрые ишшо, недавно сорвала, видно.
На крик прибежала громогласная Манька, по прозвищу Закон, и шуму стало еще больше. Они трясли котомку, лущили тощие колоски, махали руками.
– Похищаешь колхозную честную собственность! – кричала Манька на улыбающуюся нищенку. – Народный хлеб похищаешь?! Как фамилие?.. Ага, молчишь, не говоришь! Ты думаешь, для тебя и закона нет? Закон для всех закон, учти! Как фамилие?..
Девочка спустилась с рук нищенки и взяла с земли хворостину:
– Не подходи к мамке! – и замахнулась на шумливую Маньку.
– Вот, вот! – закричала Манька. – Яблочко от яблони недалеко катится, какие корни, такие отростки!
– Ижвешно, – прошамкал старик.
– Ах ты, негодница! – крикнула Коза. – А я тебе хлеба давала, последний кусок – вот не поверите, бабы, один утильный пирог остался, ребятишкам своим берегла! – тебе, остатний свой хлеб, а ты прутом, на взрослых – прутом!
– Я не на тебя, – сказала девочка, отступая к коленям матери.
– А я тебе што? – крикнула Манька Закон. – Ишь, пришли тут, будто для них и закона нету! У нас тоже дети пухнут от голоду, весной четверо умерли, а ты – воровать! Ты думаешь, мы есть не хотим, што ли?
Упоминание о смерти рассердило баб, и они угрожающе обступили нищенку. Она по-прежнему улыбалась, но слово «умерли» испугало ее, и она хотела уйти.
– Постой, – преградила ей путь Коза. – Говори, как зовут?
– Наташей, – сказала нищенка.
– Фамилие, фамилие говори!
– Я не знаю.
– Она не знает! Ты дурочку из себя не строй, отвечай народу!
– Нищенку с колосками поймали, воровку! – кричали по селу ребятишки.
Толпа вокруг нищенки постепенно увеличивалась, гудела, каждая вновь подходившая баба выслушивала историю с колосками с начала, и рассказывала эту историю уже не только Коза, но и Манька Закон, и другие бабы, и даже шепелявый дед, который глядел на нищенку тоже враждебно.
А она словно не замечала их. Взяла девочку на руки и стояла с застывшей улыбкой в середине толпы, поглядывая лишь на вновь приходящих и тут же теряя к ним интерес. Она и сейчас искала кого-то и плохо понимала, зачем собралось столько женщин вместе и почему они так громко кричат и показывают на нее пальцами.
Бабы, чем больше их собиралось, тем становились безжалостней, кричали громче и с какой-то непонятной мстительностью. Наверно, они злились оттого, что ни одна из них, кроме Козы, не подала нищенке, и вот сейчас, когда она уличена в воровстве, как бы оправдывались друг перед другом и перед своей совестью, мстили ей, виноватой, что она подвергла их такому испытанию, не имея на это права.
Крик их усилился и тогда, когда к толпе подошел кривоногий Петька Свистун, недомерок, не взятый на фронт по причине малого роста. Хоть и невзрачен был он с виду, но уже начал бриться и глядеть мужиком, к тому же недавно заместил ушедшего на фронт инспектора по налогам, и бабы к нему прислушивались. Петьку хотели взять в трудармию, но не взяли, потому что, во-первых, и в Малиновке надо было кому-то трудиться, а во-вторых, он был малосильный и из большой семьи, глава которой погиб на фронте.
– Что за шум, а драки нет! – крикнул Свистун, штопором ввинчиваясь в толпу. – По какому случаю собрание? – Он остановился напротив нищенки, поглядел на нее снизу вверх: – Кто такая, почему?
Бабы стали наперебой рассказывать, а нищенка, статная, красивая, на миг перестала улыбаться и внимательно посмотрела на него сверху. Лишь один миг. Видимо, низкорослый Петька был не тем, кого она искала: равнодушная глупая улыбка вновь появилась на ее лице, но Матрена Коза, Манька Закон и другие бабы успели заметить этот миг осмысленного взгляда и зашумели громче и злобней.
– Никакая она не дурочка, прикидывается.
– Нищенка! Неужто я нищих не видала! Работать лень, вот и ходит…
– Жнамо дело, притворилашь.
– Нищие-то Христа ради просят, а эта к окошку подошла: «Дайте хлебца, пожалуйста».
– Фунтов на шесть колоски-то потянут, если обмолотить.
– Прасковье летось за кувшин пшеницы год дали, а у ней трое ребятишек и муж на фронте.
– Закон военного время есть закон, а дети у нас у всех.
– Хватит! – прокричал хриплым петушком Свистун. – Пошли все в Совет. – Он взял нищенку за рукав, поднял с земли ее котомку. – Отвечать придется, гражданка. Весь советский народ трудится под лозунгом «Все для фронта, все для победы!», и воровства мы не допустим.
Нищенка, держа на руках испуганно примолкшую девочку, пошла за своей котомкой, которую уносил кривоногий недомерок Петька. Бабы двинулись следом. Все они были босиком, как и ребятишки, сопровождавшие толпу.
Проезжая часть улицы, весной грязная и топкая, была высушена зноем и разбита тележными колесами в мягкий толстый слой пыли, эту пыль смочило утренним дождем, и дорога стала похожей на мягкую войлочную подстилку. Следы босых ног отпечатывались на ней с трогательной откровенностью, четкостью.
Когда подошли к сельсовету, Дементий-матрос, оповещенный ребятишками, уже был там и дожидался. Он сидел на крыльце, в полосатой тельняшке, штаны закатаны до колен, босые ноги, недавно месившие навоз, грязны.
Нищенка, перестав на миг улыбаться, посмотрела на Дементия с живым интересом, даже потянулась к нему, но тут же сникла и с растерянной улыбкой оглянулась на толпу. «Не тот, – говорил ее взгляд. – Зачем вы меня привели, если он не тот!»
В толпе поняли это иначе.
– Испугалась! – крикнула Манька Закон. – Когда воровала, не боялась, а сейчас дрожит.
– Улыбается она, а не дрожит.
– А как поглядела на Дементия-то, поглядела как!
– На красоту свою надеется…
Дементий резко поднялся, встал на верхнюю ступеньку крыльца.
– Полундра, бабы! – крикнул он, покрывая шум толпы. – Стойте на месте, в кубрик ни ногой!
«Полундра» и «кубрик» сразу смирили баб, потому что слова эти, хотя и привычные, Дементий часто их твердил, были не совсем понятны – как «иже еси» в молитве «Отче наш». К тому же Дементий был настоящий мужик, а к тому еще единственный в Малиновке, а ко всему к этому еще и облеченный властью.
– Пусть войдет гражданка с ребенком и кто-нибудь из вас. – Дементий поглядел на выпуклый живот Матрены Козы, покаянно вздохнул. – Ну, хоть ты, Матрена, – сказал он, жалея ее и этим своим выбором стараясь смягчить свою вину.
– И я, – сказал Петька Свистун, ставя кривую ногу на ступеньку крыльца.
Дементий поглядел на него с усмешкой, подумал и кивнул:
– И ты. Протокол будешь писать.
Толпа удовлетворенно загудела и, дождавшись, когда Дементий, его брюхатая Коза, Петька Свистун и нищенка с ребенком скрылись за дверью, растеклась вдоль окон сельсоветского дома.
Помещение сельсовета было разгорожено на две неравные части: одна, бо́льшая, предназначалась для счетовода, налогового инспектора и посетителей, другая была «кубриком» Дементия. В кубрике кроме старого дивана с подушкой и черной шинелью стояли письменный стол, тоже старый, на витых ножках, стул и длинная скамейка. Все это хорошо просматривалось снаружи через окно.
Манька Закон, как самая бойкая и деловитая, заняла именно это окно, взобравшись на завалинку, и видела все до самых мелких подробностей, но ничего не слышала: двойные рамы после зимы остались невыставленными и глушили звуки начисто.
Вот Дементий показал рукой на скамейку, пошевелил губами и сел за стол, закрыв почти все окно полосатой матросской спиной. Коза села на скамейку ближе к столу и подергала за рукав нищенку. Девочка на руках нищенки испуганно раскрыла рот и, наверное, заплакала, потому что на щеках показались полоски слез; но голоса опять не было слышно. Будто немое кино глядишь. Немое страшное кино.
Петька Свистун вытряхнул котомку над столом – посыпались колосья ржи, вывалились старые чулки и бумажный сверток. Ни шороха, ни стука. Тишина. А Петька размахивает руками, девочка раскрыла рот в безутешном плаче, Коза вскочила, вытаращив глаза на Дементия. Только нищенка стояла с застывшей навечно улыбкой.
– Что там? – спрашивали неторопливо бабы, не попавшие к нужному окну.
– Ругаются, – прошептала Манька, завороженная тишиной в «кубрике». – Девчонка ревет. Дементий ящик выдвинул, что-то ищет в столе… Пряник вынул, ей-богу, пряник! Где только взял, из района, должно, привез… Вот девчонке протягивает…
– Пряник?! А наши дети видали их, пряников-то! Жалельщик…
– Тише.
Манька влипла в верхнее стекло окна, стараясь разглядеть, что окажется в свертке, который разворачивает Дементий. В свертке была маленькая книжечка и две большие карточки: на одной снят военный с кубиками на петлицах, вторая семейная – сидят мужчина и женщина, оба городские, нарядные, а позади, положив им руки на плечи, стоит красивая девушка, очень похожая на нищенку. Дементий перевернул карточку – на обороте что-то написано, не разберешь издали. На первой карточке, где молодой военный, тоже надпись есть.
Дементий встал, подошел к нищенке, показывает ей карточки, что-то спрашивает. Нищенка перестала улыбаться.
– Что там? – спросили громко бабы.
– Карточки, – опять прошептала Манька. – Дементий к нищенке подошел, глядит на нее и на карточки.
– Вот он, мужик-то! Встретил красивую бабу и пялит глаза, а мы как лошади…
– Ижвешно, лошади. Колхожные клячи.
– Колосков-то фунтов восемь нарвала, а он на карточки любуется, жалеет…
Дементий развернул маленькую книжечку, тоже с карточкой, крохотная такая карточка нищенки, что-то стал говорить. Потом показал на карточку военного и на девочку. Нищенка замотала головой, а девочка опять заплакала. Пряник съела и заплакала, мало ей.
Петька Свистун примостился с уголка стола, что-то пишет химическим карандашом в тетрадке. Полижет карандаш и пишет. Язык от этого лизанья синий сделался.
Коза опять встала и замахала руками, а губы дрожат. Дементия, поди, приревновала к нищенке. А Петька Свистун все строчит.
– Что там?
– Дементий полосатую рубаху с себя сымает, Коза ругается. Вот рубаху нищенке отдал.
– Неужто?
– Ей-богу, с места не сойти! Девчонку завертывает в рубаху… Вот на Козу замахнулся, что-то кричит, она побежала к двери, к нам.
– А Петька?
– А Петька пишет.
– Вот она, власть-то! Свою бабу выгнал, а чужой воровке – рубаху.
От крыльца послышался плачущий крик Козы, и толпа, отхлынув от окна, повернулась ей навстречу. Плачущая Коза, выпятив живот, опасливо оглядывалась на окна, и ее жалкий вид привел толпу в ярость. Не слушая друг друга, крича и размахивая руками, бабы в сопровождении ребятишек двинулись к крыльцу, готовые ворваться в сельсовет, но Дементий вышел им навстречу. Теперь он был в одних подвернутых штанах, на голой груди синела наколка: большой, от соска до соска, корабль, под ним волнится море, а из трубы корабля идет к самому горлу густой дым.
– Полундра, бабы! – крикнул он сердито.
Но этот крик сейчас не подействовал на толпу, бабы жаждали возмездия, требовали попранной справедливости, они были измучены работой, они были голодны, голодали их пузатые от травы босые дети, и сами бабы ходили босиком, они обносились, измотались, сколько же можно так жить, сил больше нет.
И все это было правдой.
Щеки контуженного Дементия задергались – сначала левая, потом правая. Он стоял в дверях, ухватившись руками за косяки и прикрывая собой нищенку с ребенком, а щеки дергались сильнее, неудержимей. Потом из глаз полились слезы. Беззвучные, тихие. Дальше – бабы знали это – должен последовать короткий и страшный припадок: Дементий свалится, глаза уйдут под лоб, тело забьется в жестоких судорогах, на закушенных губах выступит кровь и пена. Удержать, когда он бьется головой, лицом, всем телом, его было нельзя: матрос делался весь как железный. Вот сейчас… Но Дементий все не падал. По дрожащему перекошенному лицу текли беззвучные слезы, а он не падал, стоял, сжав побелевшими пальцами дверные косяки, невидяще глядел в толпу. Бабы утихли ожидая.
– Читай! – прохрипел Дементий.
Петька Свистун, стоявший позади, рядом с нищенкой, поднырнул под его руку, вышел на крыльцо и развернул тетрадку.
– «Протокол от десятого июля тысяча девятьсот сорок четвертого года о задержании гражданки Васильевой Натальи Сергеевны, двадцати двух лет, бывшей студентки Ленинградского университета, эвакуированной, потерявшей родных и близких и не имеющей постоянного жительства по причине умственной потери рассудка…»
– Хватит, – выдохнул Дементий и вытер ладонью мокрое лицо. Щеки его дергались реже, глаза прояснялись и загорались злобой. – Слышали все? Успокоились? Что ж, правильно. В тюрьме-то ей лучше будет, чем с вами, – там ей место, этой душе! – Он обернулся, взял нищенку за рукав и вывел на крыльцо рядом с собой. Нищенка тупо улыбалась, девочка, одетая в полосатую тельняшку, обнимала ее за шею. – Вот, глядите, пока не отвезли в милицию. Из голодного Ленинграда, из ада, родителей здесь ищет, лейтенанта своего ищет, которых она похоронила… Кто же повезет?
Угрюмая, настороженная толпа ответила молчанием.
– Ее надо отвезти в район и сдать в милицию, – повторил Дементий. – Кто же повезет? Ты, Манька?
Толпа покачнулась, укрывая в себе поспешно отступившую Маньку, ответила обиженными голосами:
– Сам протокол составлял, а другие вези…
– Колосков-то шести фунтов не наберется.
– Как незаконное дело, так щас Манька!
– Шесть – это если с котомкой, а без котомки и четырех не будет…
– Тогда ты, Матрена! – приказал Дементий.
– С брюхом-то? – Коза отвернулась и тоже устремилась в глубь толпы, сердито ворча: – Рехнулся мужик. В одних штанах остался и распоряжается, кобель меченый!..
Бабы пятились, прячась друг за дружку, и толпа отступала, откатывалась в улицу. У крыльца остался, не замечая этого, беззубый старик в самотканых портках и застиранной рубахе в желтый горошек.
– Дед! – крикнул ему с крыльца Дементий. – Запряги лошадь и отвези воровку в милицию.
Старик оглянулся и, не увидя за собой спасительной толпы, стал пятиться, виновато бормоча:
– Што ты, шынок, я штарик, грешить перед шмертью… Колошков-то тех и два фунта не наберечча… какая она воровка…
Дементий поглядел на него, затрусившего к далекой уже толпе, и сказал Петьке, что поскольку он комсомолец и актив, то везти придется ему.
– А может, это самое… – Присмиревший Петька подыскивал официальное слово. – Может, аннулируем протокол-то, а?
– Нельзя, – сказал Дементий. – Вся Малиновка об этом знает, а мы с тобой – власть и закон. Вези.
Полчаса спустя пустынной улицей Малиновки проехала подвода, увозившая нищенку с ребенком в райцентр. Из окон домов за подводой следили бабы и ребятишки, крестился на завалинке беззубый старик, шепча молитву.
А на другой день, когда возвратившийся Петька пошел по домам требовать уплаты налога по молоку и яйцу, бабы не здоровались с ним и долго потом говорили, что Петька Свистун безжалостный шкуродер, убогую нищенку за колоски в милицию отвез, а колосков-то не больше фунта было, да и те неспелые, необмолоченные…
1970 г.








