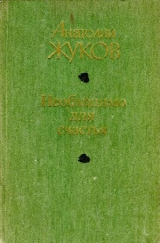
Текст книги "Необходимо для счастья"
Автор книги: Анатолий Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
– Так женились бы скорей.
– А жениться, думаете, проще? Идем, идем. – Вадька тянул его за руку. – Извините еще раз, я постараюсь не опаздывать.
Они вышли на улицу, и Вадька сразу спросил, понравилась ли воспитательница.
– Хорошая, – сказал Горшенин.
Вадька обрадовался и вприпрыжку побежал впереди него.
– Уходите с дороги, куриные ноги! – кричал он, догоняя девочку со школьным ранцем.
Они зашли в продовольственный магазин, Горшенин купил колбасы и молока, взял Вадьке шоколадку.
Не хотелось идти домой, пусто там было без Наташи, но он уже привык за этот год, боялся только Вадьки, его разговоров. Правда, и к разговорам он стал уже привыкать.
Квартира у них была в новом доме, двухкомнатная, добротно обставленная, Наташа почти и не жила в ней. Успела обставить мебелью, повесить и постелить ковры, а потом лежала среди этой мебели и ковров, белая, с провалившимися глазами.
Она не хотела второго ребенка, хотела лишь двухкомнатную квартиру со всеми удобствами, и, когда они получили квартиру, купили вскоре мебельный гарнитур, она прервала беременность. Врач говорил потом, что прерывать на таком сроке нельзя было, тем более вне больницы, но кто же спорил, никто не спорил. И Наташка знала, что нельзя, но ей было совестно идти к врачу, у которого она брала справку о беременности, чтобы получить двухкомнатную квартиру, а с мнением мужа она не посчиталась. Даже Ольге, своей подруге, не сказала, не посоветовалась.
– Ты женишься на ней? – спросил Вадька.
– На ком? – спросил Горшенин, складывая продукты на кухонный столик.
– На Любовь Михайловне. Я ее мамкой буду звать.
– Молоденькая она для мамы, – сказал Горшенин. – Придется вас обоих нянчить.
– Она еще состарится. Ты же не больно старый, правда?
– Старый, – сказал Горшенин. – Тридцать лет скоро, а ей не больше семнадцати, вот и подсчитай…
Вадька подсчитал пальцы на руках, потом сел на пол, снял сандалики и носки и стал считать пальцы на ногах, что-то соображая, вновь пересчитывая.
Горшенин возился у плиты. Вскипятил молоко Вадьке, поджарил колбасу с яичками, потом нарезал хлеба. Ужинать пришлось одному, Вадька поел в садике и только сидел за столом, чтобы папе не было скучно.
– Если семнадцать, – соображал он вслух, – то на одной ноге три пальца лишних остается, а до тридцати надо к моим прибавить все твои пальцы на руках. Это много, да?
– Много, – сказал Горшенин и вспомнил кондукторшу Кланю, ее огорченное лицо.
Она приходила сюда несколько раз, но Вадьке почему-то не понравилась, хотя и старалась вовсю, ухаживала за ним, играла, укладывала спать.
– А няня тоже говорит, что тебе надо жениться, – вспомнил Вадька. – Ты не понял, что ли?
– Понять-то понял, Вадик. Последнее время только об этом и думаю, до бесстыдства дошел, распустился… Но ты тоже пойми: нам ведь с тобой такая мама нужна, чтобы на все время, а не на день-два. И чтобы любили мы ее, и ты и я. И чтобы она любила нас. Обоих. Тетя Кланя вот любила вроде, а что-то тебе не понравилась…
– А тебе?
– Мне вроде ничего сначала, а теперь и мне кажется, что ты прав. Давай подождем, не будем торопиться. Вот я скоро возьму отпуск, и мы поедем с тобой в деревню, где я родился. Купаться будем, рыбу удить, загорать.
– И ты женишься там?
– Не знаю. Но целый месяц мы с тобой вместе будем, народ весь там на виду, вот и посмотрим оба. И ты, и я. Поглядим не торопясь. Может, кто понравится и полюбит нас. Давай пей молоко, и будем хозяйничать дальше.
– А рубашку ты мне постираешь? Я закапал ее в обед.
– Постираю. И носки постираю, и трусики. А в воскресенье приедет с дядей Мишей тетя Оля, она приведет в порядок все наше бельишко. Выпил?.. Ну беги, включай телевизор.
Вадька обрадовался и убежал из кухни в свою комнату, откуда вскоре донеслась веселая музыка.
Горшенин убрал со стола, помыл посуду и пошел в ванную заниматься стиркой. Там он покаянно вспомнил легкую и быструю Светлану, вспомнил беременную женщину, которая ходит как грузотакси и, наверное, станет матерью-героиней, и подумал, что завтра надо обязательно исправить предупреждающую надпись у Бронниц, как советовали счастливые молодожены. Весело выйдет и правильно не только для водителей.
1970 г.
НЕОБХОДИМО ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Люди эти просты… и разговор их самый простой и веселый про одного зайца, которому корова наступила на лапу, все очень смеются, вспоминая, как вился под коровьей ногой русак, а она так ничего и не знала о нем, и все жевала и жевала.
М. Пришвин. «Кащеева цепь»
– А сейчас мы выберем и санаторий, – сказал доктор, листая справочник. – Выберем такой, чтобы непременно поправиться… Ялта… Сочи… Цхалтубо… Советский рабочий должен быть бодрым и в теле, иначе никакой он не строитель… Ага, вот – Нальчик!.. Для счастья необходимо, чтобы человек обладал всем, что ему полагается, в том числе и весом. А у вас, молодой человек, не хватает десять кило. Десять! Поедете в Нальчик, прекрасный курорт, горный воздух – идиллия!
Нальчик. Какое ласковое имя – Нальчик! Я как-то сразу полюбил его, поверил в него. И не потому, что мне было жалко своих законных, необходимых для счастья десяти кило, которых я, вечно поджарый, как гончая, никогда не имел, но боязно как-то. Чего доброго, бесплотным станешь, тенью, призраком. Да и ноги у меня все время побаливают. Не сильно болят, но давно и назойливо, надоело ощущать эту боль.
С оформлением документов мне помог завком, чемодан собрала жена, и вот я в Нальчике. Очень быстро. Два часа до Минвод самолетом, оттуда электричкой до Пятигорска – это совсем близко, и времени не заметил, глазея в окно на лесистое Пятигорье и глыбу Машука, вдоль которых бежал наш поезд. От Пятигорска автобусом два часа до Нальчика. Жалко даже, что так быстро, ведь ехать одно наслаждение – предгорья Кавказа, кабардинские селенья, папахи, ишаки…
И вот Нальчик. Красивый город Нальчик. Тихий, уютный, ласковый. Даже в имени его – правильно я отметил – есть что-то ласковое: Наль-чик! Бывают, пожалуй, города и краше, только я не видел. Дома невысокие, побеленные, и сразу не разглядишь – весь город утопает в садах. Город-сад, райский город. Асфальтовые гладкие дороги, чистые улицы – и никакой суеты, шума. Автобусы ходят неспешно, легковые такси вроде бы прогуливаются, как курортники, и вокруг такое спокойствие, такая чистота, что в первый же день я почувствовал себя лучше.
Курортный городок Долинск, тенистый, больше похожий на парк, чем на городок, убегает к самым горам. Здесь, у их лесистых подножий, разместились лечебницы, поликлиники, санатории, пансионаты, минеральные источники.
Мой санаторий – имени Бетала Калмыкова, первого руководителя Кабардино-Балкарии, – видимо, самый лучший. Его светло-желтые корпуса встали на возвышенности, и из окна моей комнаты виден весь город, лежащий в долине предгорья: море садов, ленты улиц, высокие здания республиканских учреждений, магазинов, университета, библиотеки, ресторана «Эльбрус». Ресторан выходит к территории Долинска, и мы считаем его своей собственностью. Он белый, легкий и словно бы висит на фарфоровых колоннах. А настоящий Эльбрус днем не виден, разве что в бинокль, а откуда у меня бинокль? Слесарю, да еще отдыхающему, он ни к чему. Рядом с рестораном – летний театр, правильно названный Зеленым, очень красивый. И еще искусственные озера, которые питает горный родниковый Нальчик. И еще много видно из моего окна.
В первое же утро я был ошеломлен фантастическим зрелищем гор, полукольцом подступавших к Нальчику. Я даже головой потряс, ущипнул себя – не сон ли вижу. Горы были необычны, ярки, они стояли так близко, что казалось: потянись – и достанешь их рукой. Днем они были другие, и я подивился только их громадности. Это ведь большую силу надо иметь, чтобы вздыбить к самому небу такие глыбищи земли и камня. Любой экскаватор… Да что там, нечего даже сравнивать.
Но утром, ранним утром, когда только восходит солнце, дальние горы Главного Кавказского хребта неузнаваемы. Это какой-то парад сказочных красавцев великанов. Горы, вот они, можешь потрогать – прохладные, даже ароматно-прохладные и белые на синем небе, даже не белые, а матово-хрустальные, в голубых трещинках ущелий и складок. Под солнцем эти складки розовеют, и снег на вершинах тоже льдисто блестящ и розов. Но главное, они рядом, эти гигантские то голубые, то розовые сугробы, совсем рядом, а на самом деле до ближайшей снежной вершины шестьдесят – семьдесят километров. Я сам этому не верил, пока не убедился лично. Больше часа бежал наш автобус по отличному асфальтовому шоссе, и горы всегда были рядом.
Повезло мне и с соседями. Комнату дали на двоих с молодым физиком, молчаливо-доброжелательным парнем, правда, очень больным, а в столовой посадили с тремя интересными женщинами. Одну из них, Палагу, я полюбил сразу, и мы с ней были дружны весь месяц. Она старая, эта Палага, шестьдесят с гаком, да гак, пожалуй, лет десять, но так уж получилось. А жена, расскажи ей, не поверит, подумает, что раз на курорте полюбил, значит, действительно полюбил и что-то у нас было. А возраст Палаги назовет просто басней. Такая уж женщина.
Провожая меня, она не то чтобы предостерегала, а скорее объясняла, как трудно молодому уберечься от известного соблазна. В других местах еще туда-сюда, а на курорте трудно. Люди же мы, праздные к тому же люди, нас отлично кормят, старательно развлекают, мы ничего не делаем, а в сутках оказывается двадцать четыре часа. А человек ведь не может один, вот и начинаются знакомства, дружбы, сближения. Так она думает. А она дважды отдыхала на курорте и оба раза приезжала на неделю раньше срока.
Палагу я увидал на другой день в столовой. Оплывшая, грузная, она сидела, положив на стол громадные груди, и что-то рассказывала двум молодым женщинам. Одна была очень молодая и красивая, очень красивая, причем какой-то близкой, доверчивой красотой. Такую красоту любят, но редко ценят и мало уважают. Наверно, потому, что нестрогая она, безоружная, откровенная. Вторая женщина, чуть постарше, примерно моего возраста, менее красива, зато строгости в ней, достоинства – вот уж действительно, сидит и сама себя уважает. И очки у нее в тонкой золотой оправе, серьезные очки, строгие, хотя носила она их так, будто они для украшения, как серьги в ушах, а не для того, чтобы восполнить ее близорукость. Серьги у нее тоже золотые, с блестящими дорогими камешками, небольшие. Она отрекомендовалась Аполлинарией Сергеевной, заведующей библиотекой из Иванова. Не просто библиотекаршей, а заведующей – чтобы я уважал и чувствовал. Молоденькая красавица просто сказала – Лида, привстала, слегка покраснела и улыбнулась.
– А я Палага, – сказала громко старуха, председательствующая за столом. – Правильно-то Пелагея, а вам тетка Поля, но меня все зовут Палагой, весь наш колхоз.
Я пожал большую руку Палаги и подумал, что в ихнем колхозе живут меткие на слово люди. Такой мамонт не может быть Пелагеей или теткой Полей, это именно Палага.
– Что же ты тощий какой? – спросила она. Спросила приветливо, без жалости, но с участием. И сразу на «ты».
– Заботы, труды, – сказал я с обычной своей легкостью.
Аполлинария Сергеевна поджала в усмешке губы, Лида раскрыла розовый влажный ротик в ожидании подробностей, а Палага засмеялась беззвучно. Она всегда так смеялась – звуков нет, а дрожит всем телом, задыхается, краснеет до посинения и глаза делаются как щелки.
– А харч скудный, – продолжал я. – Обычному человеку хватает, а я бедствую.
– Не по трудам, значит? – Палага отсмеялась и стала вытирать повлажневшие глаза. – Не тужи, мы тебя подкормим. Подай-ка мне судок, Аполлинарья, погуще ему надо.
Палага взяла мою тарелку и налила с краями густого жирного борща.
– Мне мужик тоже худой попался, злющий. Ты не злой, случаем? – Палага сощурилась пытливо и весело.
– Не трону, – сказал я, принимаясь за борщ.
– Спасибо, – сказала Палага. – А то я от своего-то на курортах спасаюсь.
Лида ела робко, словно птичка: клюнет и оглянется, клюнет и опять посмотрит на всех, прислушается – а не слишком ли звучно она глотает? Аполлинария Сергеевна тоже клевала, но деловито, сосредоточенно, с полным сознанием важности своего дела. Палага же навалилась на стол и ела с удовольствием, с наслаждением, и глядеть на нее было приятно. Такое благодушество, причмокиванье, полные губы лоснятся – сразу видно, что еда полезна.
– Похудеть приехала, – сказала она, отодвигая тарелку. – По горам велят лазить, гулять.
– Мне тоже, – сказал я.
– Неужто? – удивилась Палага. – Такой шкилет – и по горам! – И опять затряслась, задрожала в немом смехе.
– Правда, – сказал я. – Дышать горным воздухом, аппетит нагуливать.
– Ну-ну… – Палага вытирала платочком глаза. – Лида вон тоже гуляет, кавалера вчера приглядела. Худу-ущий, на ладан дышит.
– Физик? – удивился я. – Мы живем в одной комнате.
– Ну и что! – вспыхнула Лида. – Мы просто разговаривали, гуляли. Зачем он мне, когда муж дома?
– Дома у нас у всех мужья, – сказала Палага строго.
– У меня здоровый, мастер спорта по боксу. Раунды, нокауты – больше ничего не знает.
Покончив с обедом, мы стали разрабатывать меню на завтрашний день. Лида оказалась неприхотливой и доверила выбор нам, убежав тотчас в поликлинику, Палага остановилась на любимых щах и гречневой каше, но я, завладевший листком и карандашом, заказал ей на обед фруктовый суп и морковные котлеты, а на завтрак и ужин самые легкие блюда. Себе выбрал мясные и мучные – пусть не десять, а пять-шесть кило для счастья надо набрать. Аполлинария Сергеевна мне не доверила, прочитала весь перечень блюд, перевернула листок и посмотрела, нет ли еще чего на обороте.
Мы с Палагой ушли, а она еще сидела над листком и выбирала.
– Ученая, – сказала, отдуваясь, Палага. – С мужем сюда приехала.
Мы разошлись на отдых, а после полдника сговорились пойти погулять по лесопарку. Палага оказалась скорой на ногу, и я за ней еле-еле поспевал. Идет, как танк, сучья за ней трещат, и отдувается шумно, с присвистом. Мы влезли на обзорную башню, построенную горцами в давние времена, и стали глядеть на горы. Палага, вытирая потное лицо платком, сказала, что нынче утром она увидала горы и так обомлела, что стала креститься.
– Такая красота, что слов нету! И чистые-то они, и розовые вроде, а вроде и подсиненные от небушка. И ведь близко-близко, прямо рукой подать! Да-а… Степи вот у нас тоже красивые, а другие.
И Палага стала рассказывать, какие у них в Оренбуржье степи, просторные такие, далеко вокруг видно. Глянешь этак утром, на восходе, лежит она, матушка, без конца и края, зелеными хлебами переливается, и ничего лишнего – только степь да небо. Хорошо! Старик ее теперь, поди, сено убирает, счастливец, в лугах ночует, на волюшке, и, несчастный человек, гор этих не видит.
Мы вскарабкались с ней до половины ближней небольшой горы, обросшей редким лесом и кустарником, ободрали руки и ноги, а Палага порвала чулок и так рассердилась, что стала ругать дураков врачей, которые не нашли от полноты лучшего лекарства, чем это лазанье.
Аппетит за ужином у нас был зверский, и мы попросили добавки. Спал я тоже как убитый, не слышал даже, когда вернулся мой молчун физик, ходивший в кино.
Утром я увидел его глядящим на горы. Длинный, костлявый, он сидел на кровати, завернувшись в одеяло, и потрясение молчал. Белое лицо его, застывшее, без кровинки, было под стать цвету этих вечных гор, безмолвных и сосредоточенных. Даже синие жилки у него на висках и на шее виделись так же, как темно-голубые среди снега расщелины гор. Только горы были ярче, они жили, а у физика потухли даже глаза.
– Чем болеете? – спросил я.
– Лейкоз, – сказал он, раскрыв сухие губы.
Лейкоз… Не то что я, не ревматизм какой-нибудь подцепил, а что помудрее – лейкоз. И здесь по Сеньке шапка. Не дай бог никому такой шапки.
– И как?
– Несколько месяцев продержусь, работу надо закончить. У меня интересная тема.
Узнать бы, как таких самоотверженных делают! В гробу стоит, и тема ему интересна. Лида тоже, видно, к этой теме относится.
Я пошел на лечебную гимнастику, потом на завтрак. Палага была недовольна моим выбором блюд, но ничего не сказала и только задирала все время Аполлинарию Сергеевну. Она смеялась над ее строгостью и ставила ей в вину и образование, и красоту, и даже ее имя.
– Аполлинария – это вроде Полины, а Полина та же Пелагея, – рассуждала она. – Выдумываете все позаковыристей, а цена-то не названию дадена.
– Странная логика, – пожимала плечами Аполлинария Сергеевна. – Мы же не сами выбираем себе имя.
– Зато вы оправдываете его, – сердилась Палага. – Ты вон и серьги нацепила, и губы красишь, и очки золотые, а муж за другим столом сидит.
– Он диетчик.
– Диетчик! Лида вон тоже диетчика подхватила, а у него, сказывают, кровяных шариков только тридцать процентов.
– Он хороший, – сказала Лида, покраснев. – Это он на работе заболел, он не виноват.
– Он-то не виноват, да и ты здесь ни при чем.
– Он ученый, – защищалась Лида.
– Ну и что? Они, ученые-то, диету вон придумали, очки носют, имена мудреные, а дело-то в пирогах, а не в загибах.
После завтрака мы ездили автобусом на белореченские ванны, и Палага удивилась, что я выполняю такие же процедуры, какие предписаны ей.
– Хороша наука, – ворчала она. – Толстый или тонкий, в одну ванну макают, только я больше лежу, а ты меньше. Спросила врачиху, а она – кушайте, говорит, умеренно – и похудеете. Дуреха, кто же голодом лечит!
В обед она не стерпела моего коварства и позвала официантку.
– Вот что, красавица. Этот заморыш, – она взглянула в мою сторону, – фруктовый суп мне заказал. Это что же, вроде компота?
– Вроде компота, – сказала официантка.
– Вот ему и принеси, а мне щей, да с перцем, да погуще, пожирней налей. Все равно помирать-то, лучше уж толстой.
– Червям пища, – сказал я.
– И то польза.
Гулять после обеда она отправилась одна, успокоилась и вечером рассказывала, что у горы случайно наступила на старого козла, да так, что он, бедный, заревел на весь лес. Такая наступит, заревешь, пожалуй, на весь мир.
Аполлинария Сергеевна оказалась любительницей тенниса, и мы с ней весело поиграли. Правда, ее немного смущал муж, который нетерпеливо ходил возле корта и все подозрительно поглядывал на меня, но потом он ушел.
В кино мы пошли вместе и до начала сеанса все искали своих соседей. Лиды и физика в зале не было, они, как мы потом узнали, прогуливались в парке. Вообще потом они редко ходили в кино и все свободное время проводили уединенно.
Мой физик повеселел, стал разговорчивей, в глазах появился живой блеск. Однажды утром, глядя на горы, он сообщил, что человек вечен и уничтожить его нельзя. И природу тоже, природу в смысле материю. Она может видоизмениться, но в основном останется прежней, подчиняющейся своим строгим законам.
– Представьте себе, я, здоровый и молодой, не знал женщин, не испытывал к ним никаких чувств, ни разу не был близок с ними. Меня удерживала от этого их интеллектуальная узость, их природная заземленность, что ли. Во всяком случае, мне так казалось. И вот понимаете, сейчас я влюбился. Я говорю совершенно серьезно, влюбился, пожалуй, больше – я люблю, и мне кажется странным, почему прежде, здоровый и сильный, я не испытывал этого чувства. Мне порой кажется, что, будь оно прежде, я бы не облучился, а если и облучился, так не заболел бы. Ерунда, разумеется, но я испытываю такой подъем, столько чувствую в себе сил, что вчера днем, пока вы ездили на ванны, я нашел решение центрального вопроса своей работы, ключ всей темы, его я искал больше двух лет. Но самое удивительное в том, что Лида, когда я в общих чертах объяснил ей, поняла меня. Поразительное явление! Девчонка, вчерашняя школьница, машинистка в каком-то учреждении – и такое…
В глазах физика дрожали слезы. Это были радостные, счастливые слезы, и сам он весь, завернутый в одеяло скелет, светился счастьем. Черт знает что такое, с луны вроде упал. Наверно, умрет скоро. Перед смертью, говорят, находит на человека короткое обновление.
– Понимаете, в чем дело: вероятно, она ближе к истине, процесс познания у нее короче, путь – прямей и последовательней. Это какой-то своеобразный подход к явлению, совершенно отличный от нашего. Может, это мистика, но для меня все так неожиданно, что вначале я не поверил и попросил ее повторить, как она поняла и почему именно так. И она объяснила, верно объяснила, понимаете!
– Видно, любит, – сказал я. – Бабы понятливые, когда любят, у них чутье.
Физик вскинул темные, словно приклеенные брови, поглядел на меня пристально и вдруг улыбнулся – робко так улыбнулся, виновато. Два ряда влажных белых зубов с бледными деснами показались мне чужими, но это были его зубы, и высокий свод лба, голый, незащищенный, и бескровные губы, и немигающие лихорадочные глаза – все это жило, волновалось, любило. Не свое любило, чужое. Умрет через месяц-другой и изломает жизнь здоровым и сильным. Чего она в нем нашла, в этом блаженном?
Гуляя после обеда с Палагой по лесопарку, я рассказал ей о разговоре с физиком. Она согласилась со мной.
– Нечего лезть в волки, когда хвост собачий. Закрутит ей голову своей ученостью и умрет, а ей жить надо, детей рожать. От здорового мужа к этому шкилету!..
Мне почему-то представилась моя Томка гуляющей с физиком, и я содрогнулся. Ну да, он умрет, его жалко, он молод, двадцать восемь лет, кажется, но ведь и мы не виноваты. Нам жить надо, мы здоровые. Надо узнать ее домашний адрес и написать мужу – пусть покажет ей хорошенький раунд, потаскушке. Люди на курорт лечиться едут, кому-то из-за нее путевки не досталось, а она здесь ученых завлекает!
Ну да, у меня отсталые представления, я не понимаю свободной любви, я простой рабочий, но хотел бы я поглядеть на вас, передовых и современных, и тогда поглядеть, когда вы узнаете, что ваша жена путается на курорте, а вам пишет благополучные письма, что она лечится и скучает в разлуке. Я не знаю, что пишет Лида своему боксеру, но пишет же, и вряд ли я ошибаюсь. Я не блаженный какой-нибудь и знаю их бабью породу.
За ужином мы заговорили об этом, но Аполлинария Сергеевна во всем обвинила мужчин, которых женщины призваны воспитывать и исправлять.
– Я, например, довольна мужем, – рассуждала она в ожидании компота, – а ему вот кажется, что он вроде что-то недополучил. И в то же время ревнует, за мной сюда поехал – странно. Сегодня познакомился на пляже с фифочкой и после обеда к ней ушел. У него, видите ли, деловое свидание, она тоже химик, и они работают в смежных областях.
– Может быть, правда, – вступилась осмелевшая Лидка. – Мужчины ведь слабые, и они всегда ищут в нас помощниц.
Палага откинулась на застонавший стул и затряслась, раскраснелась, заохала.
– Не знаю, чего они ищут, – холодно возразила Аполлинария Сергеевна, – но быть постоянными в своих чувствах они не могут. Я, например, совершенно убеждена, что мужчины изменяют чаще, чем женщины.
– Почему? – удивилась Лидка. – Ведь если они изменяют, то с нами, женщинами, и, значит, одинаково.
Палага зашлась в новом приступе смеха, стул жалобно заскрипел под ее тяжестью, щеки сделались свекольно-синими, из глаз-щелочек потекли слезы.
– Видите ли, милочка, в чем дело. – Аполлинария Сергеевна наставила на Лидку свои золотые очки. – Есть определенная категория женщин, с которыми они изменяют, и я полагаю, их не трудно отличить.
Молодчина, Аполлинария! Умница! А то прикрываются наивностью, доверчивостью и чем только можно, а сами огни и воды прошли.
Лидка вспыхнула до слез, резко отодвинула стул и вскочила.
– Пусть я такая, но он ничего, кроме своих перчаток да нокаутов, не знает, людей, как вы, на категории делит. На весовые! А Ваню я люблю и буду любить, и мне наплевать на вас, фальшивые святоши!
И выбежала из столовой, разъяренная, красная.
Вот ведь какая, – думал, мухи не обидит, а она как тигрица. Скажи сейчас слово поперек, по щекам отхлещет. Н-да… Черти-то в тихом озере только водятся, правильно говорят.
Нам было обидно. Ведь хотели как лучше сделать, о ней, дурочке, заботились, а она…
– Хороша, – сказала Палага. – У меня старик на что уж замухрыстик, а жизнь прожила, к другому не бегала. Опять же детей – шестеро их было – вырастили и в люди вывели.
– Не понимаю таких, – сказала Аполлинария Сергеевна. – Ехать на курорт для флирта и потом возвратиться к мужу – не понимаю.
Мы решили с Лидкой не здороваться и объявили ей бойкот. Она стойко встретила наше сплоченное осуждение и даже не подумала перейти за другой столик, старалась только меньше бывать с нами и прибегала в столовую либо раньше нас, либо опаздывала и садилась за стол тогда, когда мы собирались уходить.
– Совесть мучает, – говорила мне Палага. – Мы ведь бабы такие, согрешим, а потом маемся, боимся: вдруг до мужа дойдет?
– Ты же не грешила.
– Вот так, как она, не грешила, а в голодный год была у одного мужика. Несколько раз ходила. Ну, правда, нужда заставила, дети. А мой мужичонка до сих пор помнит и вчера вот в письме прописал: гляди, мол, Палага, имей в виду. Ну я приеду, задам ему.
А Аполлинария Сергеевна, видно, в самом деле поссорилась с мужем: вот уж несколько дней они не разговаривают, мы по целым часам играем в теннис, и она начинает оказывать мне знаки внимания. Муж, будто назло, прогуливается с фифочкой у нас на глазах и смеется, показывает, что ему весело и радостно. Он краснощекий, полный такой добряк, и видно, в самом деле любит химию, потому что я однажды видел, как он, сидя на корточках, выписывал что-то палочкой на песке, наверно свои формулы, а фифочка внимательно глядела и соображала, что к чему. Она миловидная, очень похожа на мою жену и ходит в легких брюках и открытой кофточке. В первый раз, встретив меня, она почему-то смутилась, посмотрела удивленно и все оглядывалась из-за спины этого толстяка, будто звала. И сейчас она частенько поглядывает на меня и улыбается. Не знаю уж, чему она улыбается. Разве тому, что сумела отбить толстяка? Ему, наверно, лет сорок, вдвое старше, да и смеется он как-то фальшиво, наигранно. Может, и Томка вот так же разгуливала, а, проводив любовника, возвращалась на неделю раньше и этим успокаивала меня.
С физиком мы жили мирно, потому что Лидка не сказала ему про нашу ссору в столовой. Она приходит к нам запросто, весело здоровается со мной (а на улице пройдет и не взглянет) и усаживается у его кровати.
– Ты еще не освободился, Ваня?
Ваня! Как-то неловко глядеть на них и слышать это слишком простое имя – Ваня. Не идет оно к бледному многодумному физику.. У него бывают ученые мужи из местного университета, солидные такие, может, профессора, приносят пузатые папки, книги, жарко говорят, спорят и глядят на него, как на верховного судью.
Ваня… Он всегда рад ее приходу, улыбается, целует и садится рядом. Тут уж я ухожу или на процедуру, или на пляж, или к Палаге – смотря по настроению. Я человек отдыхающий, свободный, могу идти куда вздумается, в Нальчике много красивых мест.
Я пошатаюсь по городу, потолкаюсь в магазинах, зайду в «Эльбрус» выпить стопочку хорошего вина или побалуюсь в теннис с Аполлинарией Сергеевной. Она с каждым днем становится внимательней, охотно гуляет со мной на глазах у мужа и изводит разговорами о чистой дружбе женщины с мужчиной.
В воскресенье мы всей группой ездили в Пятигорск поглядеть лермонтовские места. Дорогие места, святые. А экскурсоводка шпарит заученными фразами, и у каждого места, будь то грот или площадка, где его убили, снуют бойкие деловые типы с фотоаппаратами, щелкают, суют тебе открытки, считают деньги.
Лечебные пляжи в Нальчике не бог весть какие, но можно поглазеть на купающихся, позагорать. На пляже много молодых женщин, есть красивые, и, глядя на них, я чувствую сосущую тревожную тоску. Я не могу поступать так, как сделала Лидка, сблизившись с физиком, я сразу вспоминаю свою жену, и тоска постепенно слабеет, проходит. И все же я думаю о Лидкином поступке, и меня тянет к ним, хочется узнать о их любви, работе, о науке умного Иванушки.
Он будто расцвел и преобразился. Пропала задумчивость и отрешенность, появилась вроде бы несвойственная ему веселая удаль.
– Жгу свечу с обоих концов, – сказал он мне вчера, улыбаясь. – Черт побери все, но гореть надо ярко, рискованно.
– А работа? – напомнил я.
– Разве для работы не нужен огонь? За эти две недели я ушел дальше, чем за два года тихого тления.
Работал он как одержимый, страстно и без устали. С раннего утра садился за стол, обкладывался книгами и сидел до обеда, делал какие-то выписки, расчеты, посылал Лиду в местную университетскую библиотеку. Лида вела себя как жена и с ним не расставалась. После завтрака, несмотря на запрет, она приходила в нашу комнату, садилась у окна и, пока он работал, читала какой-то роман. После я узнал, что она читала только научную фантастику и через нее старалась быть ближе к своему Ване. Вообще она стала сосредоточенней и строже.
Распорядка дня для них будто не существовало, они соблюдали только время еды и однажды ночевали в городской гостинице, потому что после отбоя жилые корпуса закрывают, и они не стали стучаться, чтобы не беспокоить дежурных.
– Совсем стыд потеряли, – ворчала наутро Палага. – Один перед смертью хватает, а эта о семье забыла.
Аполлинария Сергеевна сказала, что нынче не только молодежь, но и зрелые люди не думают о семье.
– Подлое это дело – к чужим бегать, – посочувствовала ей Палага.
А когда мы пошли в горы, она же подбивала меня на сближение с Аполлинарией:
– Баба красивая, молодая, тебе самое время начинать: она злится на мужа, отомстить ему захочет, вот и пользуйся.
– Ты меня не развращай.
– Мне что, – вздохнула Палага, – мое дело теперь десятое. Только зачем же упускать то, что само плывет в руки.
Палага сказала это серьезно, но я почувствовал, что ее прямота не так уж проста. Она составила о нас определенное мнение, как о Лидке, и хотела проверить его. Но дело было не только в любопытстве старухи, для которой чужие романчики, за невозможностью заводить свои, стали вынужденным развлечением. Аполлинария уже тянулась ко мне, хвалила за начитанность, говорила, что я симпатичный мужчина, а если и худенький, так это не от характера, а просто потому, что у меня сухая клетка, физиология такая. Ведь я же высокий? Высокий. Стройный? Стройный. Ну и прекрасно, чего же еще надо!
Мы стали ходить с ней на «пятачок» в Долинске, где вечерами танцуют отдыхающие, гуляли по лесопарку, но всегда в любом месте мы обязательно встречались с ее мужем и фифочкой, похожей на мою жену. То ли Аполлинария следила за ними, то ли они подкарауливали нас, не знаю, но только при встречах с мужем Аполлинария неестественно оживлялась, заглядывала мне в лицо, прижималась и вообще вела себя так, будто мы бог знает как близки. А мы и не поцеловались ни разу. Аполлинария изводила меня рассуждениями о духовной любви, о дружбе, а я этого не могу понять, когда нет общих интересов, работы или вкусов. И потом, она часто говорила о муже. По ее словам, он хорошо знал свое дело, а в жизни был неприспособленным, неловким человеком и мог позволить опутать себя любой привлекательной женщине. Не знаю, таким ли он был, но, встречаясь, он с мрачной иронией кланялся мне, глядел, как на заклятого врага, и в глазах его плескалась белая ненависть.








