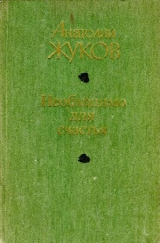
Текст книги "Необходимо для счастья"
Автор книги: Анатолий Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Сказать откровенно, мне было все равно: я женатый человек, у меня есть Томка, будет скоро ребенок, и эти прогулки с Аполлинарией ничего не значат. Ну, гуляют два знакомых человека, разговаривают, ну и что? Разве я виноват в ссоре этих заботливых супругов, которые даже на курорт приехали вместе и вот сейчас доказывают друг другу свою свободу и независимость. Боже упаси! Я посторонний человек, а эти нарочитые нежности на глазах у мужа если и задевают меня, так больше потому, что мне стыдно играть с Аполлинарией какую-то роль, которую я не знаю. Правда, последние два дня она стала ко мне ласковей, снимает очки, чтобы показать, какие у нее красивые глаза и длинные густые ресницы, поджидает у гимнастического зала, одетая в трико и гордая своей, честно говоря, отличной фигурой, а утром сказала, что завтра мы пойдем на пляж и позагораем на просторе, пока отдыхающие будут на лечебных процедурах.
Я не то чтобы рад такому обороту, а так, знаете, приятно становится отчего-то, интересно, и я думаю, что Аполлинария вовсе не ханжа и мне тоже незачем вставать в позу святого праведника. Ну, а то, что она старалась использовать меня как громоотвод, чтобы удержать своего мужа, пусть, я всегда рад послужить благому делу. Не моя вина, если дело не выгорело.
– Поторапливайся, – сказала мне с усмешкой Палага. – Последнюю неделю живем, не успеешь.
Я шутливо пожаловался на нерешительность Аполлинарии и упомянул о громоотводе, который вынужден ждать. Палага поняла и за ужином повела наступление на Аполлинарию.
– Это не измена, если с чужим мужиком переспишь, – внушала она с высоты своего опыта, – а вот если для чужого семью и мужа забудешь – это измена.
– Разумеется, временная близость еще ничего не доказывает, – соглашалась Аполлинария. – Бывают моменты, когда мы не вольны в своих чувствах, но все же надо стремиться к тому, чтобы всякое чувство сделать подконтрольным, осознанным.
Мне было совестно и тоскливо. Старая деревенская баба, молодой рабочий, интеллигентка с высшим образованием – все мы думали об одном и искали, чем бы это одно оправдать и обосновать. Мы говорили о семье, о долге и искали оснований для свободного чувства, оставляя неприкосновенными и семью, и долг, и нравственные нормы нашей жизни. Лидка со своим Ваней вряд ли говорили об этом. Они любили и яростно работали, не замечая времени, а для нас время остановилось, в сутках было двадцать четыре часа, и мы не знали, куда себя деть.
Обычный порядок нашей жизни, когда Палага с утра шла на колхозный птичник, Аполлинария в городскую библиотеку, а я на завод, когда вечером мы возвращались в свои семьи и занимались бытовыми делишками либо отдыхали, был нарушен. Сейчас мы отдыхали все время, и этот отдых был как неразрешенный вопрос, как тягчайшее испытание. Я будто со стороны глядел на себя и с удивлением видел, что я другой человек, скучный, вялый, не нужный здесь. А на заводе меня ценят, я там необходим, нашему цеху обещают присвоить звание коммунистического труда. И конечно, присвоят. У нас дружный цех, мы даем продукцию отличного качества – чего же еще? И прогулов у нас нет, и учатся все.
А что, подумалось вдруг, если бы весь наш цех прислать сюда и проверить его отдыхом – рассыпался бы он, пожалуй, распался сразу на Аполлинарий, Лидок, на таких, как я и Палага. Значит, мы трудом спаяны, только трудом.
Палага в последние дни нашла себе старичка железнодорожника, чинно разгуливает с ним, носит библиотечную книжку стихов, и они оба умиляются оттого, что очень уж складно и хорошо там говорится. Вчера, когда я стал ее поддразнивать старичком, она с улыбкой заявила, что любви все возрасты покорны и что ее порывы благотворны. Старая перечница!
Из дома мне пишут два раза в неделю, но письмам я уж не так радуюсь, как в первые дни. Жена твердит, что соскучилась, и просит купить побольше фруктов и лаврового листа – здесь должно быть все это дешево, не надо упускать возможности. Возможности я не упущу, куплю, но я думаю, что и Томка вот так же, а может, и не только так, флиртовала на курорте, потому что я подошел к этому и, значит, могла подойти и она. Где нет большого чувства, нет и измены. Я думаю о нашей с Томкой жизни, спокойной и благополучной, и кажется она мне серенькой, маленькой. И любовь кажется такой же серенькой и маленькой, потому что не было в ней ни тревог, ни сомнений, ничего такого. Жили в одном доме, встречались, ходили в кино, а потом поженились. У Аполлинарии со своим химиком почти такой же союз. И вот он распался, тонкой и непрочной кажется моя связь с Томкой, Палага (даже Палага) восхищается степенностью старичка железнодорожника, который куда лучше ее маленького и колючего, как ежик, злыдня.
– Может, в «Эльбрус» сходим? – предлагает мне Аполлинария после ужина. – Там, кажется, есть оркестр, потанцуем.
– Правильно, – одобряет Палага, – чего тут киснуть-то. Я вон со старичком посижу потолкую.
Она идет к старичку железнодорожнику, сидящему на скамейке у столовой, а мы отправляемся в «Эльбрус».
Всю дорогу до ресторана Аполлинария возбужденно говорит, смеется, вспоминает студенческие наивные мечты и веселые пустячки шалостей. Мы берем столик у окна, заказываем бутылку вина и фруктов. Музыка здесь не ахти, трое полулюбителей-полупрофессионалов, но танцевать можно.
Аполлинария разрумянилась от вина, отдала мне свои очки и блаженно щурится, хлопает лопушистыми ресницами – своими, не наклеенными. Танцует она хорошо, партнер я стройный, и на нас поглядывают из-за столиков завистливо. Аполлинария чувствует эти взгляды и нежится в них, как в солнечных лучах.
Мы заказываем вторую бутылку вина и, в легком опьянении, веселые, почти счастливые, танцуем, танцуем. Она стала совсем девочкой без этих строгих очков, смеется, запрокидывая голову, и волосы, падая на плечи, нежно гладят мои горячие руки.
– Ты красивая, – шепчу я расслабленно.
– Завтра пойдем на пляж, – отвечает она с томной улыбкой.
Лица людей за столиками расплываются, покачиваются, а мы в упоении танцуем и танцуем. Мне хорошо от этой близости, я ни о чем не думаю, и, когда неожиданным видением проплывает лицо Томки, я озорно подмигиваю ей и прижимаю к себе Аполлинарию. Нашла время когда вспомниться!
Утомившись, мы садимся за столик, и тут я замечаю, что лицо Томки не воспоминание, – за угловым столиком сидит фифочка, похожая на мою жену, и рядом с ней муж Аполлинарии.
– Посмотри-ка, – говорю я ей, подавая очки.
Она вооружается, смотрит и становится прежней Аполлинарией Сергеевной, строгой и надменной.
– На пляж мы завтра обязательно пойдем, – говорит она намеренно громко, с каким-то злым вызовом.
Но мне уже не хочется на пляж. Я решительно поднимаюсь и иду к столику ее мужа.
– Простите, – говорю я ему и приглашаю фифочку на вальс.
Фифочка охотно соглашается, и мы танцуем.
– Вот это его жена, – глупо говорю я, показывая глазами на Аполлинарию Сергеевну. – Я у нее вроде громоотвода.
Фифочка громко, на весь зал, хохочет. Она засмеялась так неожиданно, что я сбился с ритма и никак не могу выправиться. Она висит у меня на руках, изнемогая от хохота, еле передвигает ноги, а я заметно опьянел и уже устал, танцуя с Аполлинарией.
Фифочка никак не может успокоиться, я полыхаю от смущения, а она знай хохочет, заливается и вот-вот затопает ногами от безудержного веселья. Ну точь-в-точь моя Томка, даже всхлипывает от смеха, даже приседает, как она. Я бесцеремонно ущипнул ее, как Томку в таких случаях, и она, – удивительное дело! – сразу стихла. Прямо двойник Томки!
– Знаете, я тоже громоотвод, – говорит она, облегченно вздыхая. – Этот толстяк приревновал ее к вам в первый же день – помните, вы играли в теннис? – и вот упросил помочь ему. Извел меня химией, формулами, реакциями…
– Вы разве не химик?!
– Откуда?! Проводница в Аэрофлоте. Стюардесса. Между прочим, зовут меня Машей.
Я назвал свое имя и, танцуя, повел ее к выходу. Мы убежали беспрепятственно, и только у ворот санатория я и вспомнил, что не рассчитался с официанткой.
– Пусть они рассчитаются, – сказала Маша. – Не зря же мы три недели их любовь охраняли. Вы женаты?
– Женат, – сказал я.
– А у меня, знаете, мальчик есть, жених, – ну в точности похож на вас, прямо копия! Я когда впервые вас увидела, так растерялась, что глаз не могла отвести, оглядывалась даже. Помните, я с этим толстяком еще шла?
Теперь уж раскололся я. Не мог я удержаться после такого признания. Повалившись на скамейку, я хохотал как безумный, все во мне ликовало и пело, и я настолько забылся, что упал со скамейки в траву (может, от вина?) и только после этого стал приходить в себя.
Я рассказал Маше о своих сомнениях насчет жены, в точности похожей на нее («Неужели! Действительно похожа… не шутите?.. Поразительно!»), о трудных раздумьях и тоске последних дней, о готовности флиртануть с Аполлинарией – была не была! – по-настоящему.
– Вы знаете, я тоже об этом думала, – с удивлением сказала Маша. – Как увидела вас в обществе этой женщины, так сразу и подумала о Грише, – мальчика моего так зовут, – подумала, что он тоже вот так, как вы, ходит сейчас с какой-нибудь фифой, а вечером пишет мне письма, клянется, что скучает и все такое.
– Мы ведь тоже вас фифочкой звали, – сказал я. – Ну и как этот толстяк, неужели он стал влюбляться?
– Представьте, да! Вначале он только просил изредка прогуливаться с ним на глазах у жены, дичился меня, а потом привязался и вот пригласил в ресторан.
Мы вдоволь насмеялись, наговорились и разошлись, запланировав на завтра пойти в кино и на пляж. Ведь мы как раз подходящая пара, вроде мужа и жены, и влюбленность нам не грозит, потому что это было бы повторением прошлого. Вот если бы все случилось, как у Лиды с физиком, тогда другое дело. Да и времени нет, скоро домой.
Утром я встретил у столовой Аполлинарию Сергеевну с мужем, и они дружно и приветливо поздоровались со мной.
– А ведь я кому-то должен заплатить за вино? – напомнил я.
– Никому, – смущенно пробормотал толстяк. – Я уплатил. Кто же еще будет платить!
Аполлинария поглядела на меня с благодарностью и вздохнула – с сожалением. Все-таки три недели пробыть вместе не шутка, и духовная любовь начнет постепенно материализоваться.
Палага была разочарована. За обедом она ворчала, что ученые люди, может, и умные, но, если разобраться, все же дураки, потому что ехать на курорт с мужем – это все равно что везти в Тулу свой самовар и не пить из него, а только показать, какой он пузатый.
Аполлинария Сергеевна на радостях примирения с мужем была настроена благодушно и сказала с улыбкой, что ее не трогают цинично выраженные мысли.
– А у тебя как? – спросил я Палагу. – Бесплатный билет на поезд не подарил железнодорожник-то?
– Куда ему, – отмахнулась Палага. – Только и разговору что о своих паровозах. Первые дни вроде степенный был, о колхозе спрашивал, а сейчас одни паровозы. Будто у людей никакого дела нет, окромя езды. Чужой он, совсем чужой, до моего старика далеко.
– Ты же говорила, что ежик, злыдень?
– Мало ли что я говорила!
На другой день случилось событие, взбудоражившее всех отдыхающих нашего санатория, – к Лиде приехал муж.
Он приехал внезапно, без предупреждения, узнал, где живет физик, и явился в наш корпус. Оказывается, Лида написала ему откровенное письмо, и вот он явился их проучить. Весть эта сразу же стала известна в столовой.
Мы заканчивали обедать, когда к нам прибежала дежурная санитарка и прерывающимся шепотом зачастила:
– Здоровенный такой, на диван сел, подожду, говорит, а сам глазами на всех злобно так, с ненавистью… Ох, силы нет, как бежала… Кулаки у него во какие, на лбу рубец, а челюсть тяжелая, бульдожья… Подкараулить вас хочет.
Санитарка побежала к дальнему столику, где сидел физик, а мы ошеломленно глядели на побледневшую Лиду. Она только что пришла и еще не прикоснулась к обеду, надеясь, что мы, ее враги, сейчас уйдем, а мы ждали третьего блюда и вот стали свидетелями ее несчастья. Она глядела на нас вызывающе и решительно, ожидая встретить торжествующие улыбки, но улыбок не видела. Мы тоже были потрясены этим известием и вначале растерялись. Первой пришла в себя Палага.
– Бесстыдник, – сказала она с сердцем, – скотина немилящая! Да если бы ко мне приехал, я бы ему, стервецу… Ух, паразит!..
– Бесчестный человек, – сказала Аполлинария Сергеевна. – Никакого такта, чувства порядочности, этичности… Подстерегать свою жену, как последнюю… Нет, я не нахожу слов для возмущения!
Во мне тоже поднялось что-то протестующее и тревожное, и я глядел на Лиду, как на свою сестру, попавшую в беду. Я был готов заступиться за нее и, еще не видя того злобного, молодого и здорового, ненавидел его, как что-то чужое и враждебное.
– Не бойся, – сказал я Лиде. – Пойдем вместе, в обиду не дадим.
– Я не боюсь, – сказала Лида, улыбнувшись сквозь слезы. – Я ему правду всю написала, я только за Ваню боюсь, он расстроится, а ему нельзя расстраиваться.
– Что же будем делать? – спросила Палага. – Ведь он убьет тебя, если он такой поганец.
– Он меня любит, – сказала Лида, растроганная нашей поддержкой. – Я за Ваню боюсь, он только поправляться начал…
– Идем, – сказала Палага, решительно подымаясь.
Мы вчетвером вышли из столовой, подождали физика и вместе с ним отправились в наш корпус. Физик вел Лиду под руку и смущенно говорил ей, чтобы она не волновалась. Долговязый, нескладный, он сам растерялся от неожиданности предстоящей встречи, и со стороны особенно заметной казалась его почти детская незащищенность. Но мы трое шли сплоченные и готовые к обороне и к нападению, за нами вышагивали двое мужчин из-за стола физика, а за ними – отдыхающие нашего корпуса. Прежде многие из них подсмеивались над Лидой и ревниво поглядывали на тощего физика, для которого она пренебрегала здоровыми мужчинами, а вот теперь они были на нашей стороне и откровенно осуждали незадачливого мужа.
– Тюфяк какой-нибудь, рохля.
– От хорошего не пошла бы к этому.
– Этот, говорят, ученый, атомы расщеплял. У него вон и имя серьезное – Иван, а тот – боксер, кулаками хлеб зарабатывает.
В вестибюле нас встретил плечистый молодой парень, нетерпеливо шагавший из угла в угол. У дивана стоял его маленький чемодан.
– Значит, ты и будешь Лидин муж? – спросила Палага, заслонив собой Лиду и долговязого физика.
Я встал рядом с ней.
– Да, муж, – сказал парень мирно, посмотрев на Палагу, потом на меня. – А вы кто будете?
– Товарищи, – сказала Аполлинария Сергеевна, присоединяясь к нам. – Мы с ней живем в одном корпусе и кушаем за одним столом. И вот эти люди, – она показала на столпившихся у двери мужчин и женщин, – тоже ее товарищи.
– Очень приятно, – сказал парень. – Меня зовут Борис – И поглядел на Лиду, потом на физика.
Нет, не похож он был на того грубого и злобного, которого все мы ожидали встретить, но мы стояли перед ним, как перед плотиной, позади накапливались вновь входящие, дверь уже не закрывалась, а мы стояли настороженной безмолвной толпой, не смея ни столкнуть эту плотину, ни обойти ее.
Он завороженно глядел на Лиду, и во взгляде его, перемежаясь, вспыхивали и гасли обида, любовь, презрение, обожание, растерянность, мука. Я и сейчас вижу этот трудный, мгновенно меняющийся взгляд. Теперь он знал не только раунды и нокауты.
Борис глубоко вздохнул, как после трудной работы, с которой он не надеялся справиться, но все же справился, обвел смущенным взглядом толпу и улыбнулся устало, виновато.
– Что же толпиться-то, проходите, – сказал он с шутливым радушием хозяина и повел рукой, отступая к дивану.
– Гляди, чтобы без глупостей, – предупредила Палага. – Тут тебе не баловство, тут серьезное.
– Я чувствую, – сказал Борис, опускаясь на диван.
Неловко толкаясь, мы все прошли мимо него, стараясь не глядеть ему в глаза и потом оглядываясь. Он сидел и ждал, а рядом стояла и ждала Лида. Своего физика она отправила за нами.
Мы собрались в холле второго этажа, где обычно смотрели телевизор, а физик встал у окна, глядя на горы.
Мы сидели долго, курили, вяло переговаривались о чем-то незначительном, и только женщины изредка отваживались задеть то, о чем мы думали.
– Чужую беду руками разведу, – сказала пожилая женщина, – а вот к тебе придет – и подумаешь, ох как подумаешь.
– Для кого беда, кому счастье, – возразила ей Палага.
– . Все это страшно сложно. Любовь – чувство облагораживающее и не бесцельное, оно предполагает взаимное счастье, а вот неразделенная любовь или такая, когда у одного все кончилось, а у другого нет, – разве это счастье?
– Всякая любовь – счастье. А мы флиртуем, кокетничаем, романчики трехдневные заводим.
– Самокритично!
– Помолчала бы лучше.
Лида возвратилась заплаканная, с припухшими губами, но просветленная, ясная. Физик почти кинулся к ней от окна.
– Скоро на полдник, – сказала она, – ты с утра ничего не ел и куришь. Ты же давно бросил курить! Ох, господи, замучаешь ты меня совсем!..
Будто прохладным горным воздухом, ароматной свежестью повеяло от этих слов, мы заулыбались, заговорили, суетливо заторопились в столовую, глядя им вслед и любуясь ими. Ведь они были счастливые люди, к тому же оставались здесь на второй срок. В таких-то благословенных местах!
И они остались.
А я вот еду обратно домой. Везу жене девять килограммов яблок и килограмм лаврового листа. Она очень обрадуется, пожалуй, будет счастлива. Если эти десять кило прибавить к моему весу, то все будет в порядке и я оправдаю надежды нашего заводского доктора. Маша сказала, что при таком характере, когда за всех переживаешь, как за себя, никогда не пополнеть. Вот разве с годами, в старости.
Палага поправилась на 4 килограмма 250 граммов.
1970 г.
ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Дождь лил трое суток подряд. Обложной и по-летнему спорый, он хлестал все время без передышки и столько начудоквасил, что не расхлебаешь и в неделю. Накатанные за лето дороги стали непроезжими, смирная Кондурча вышла из берегов и сорвала два мостика, дойный гурт, простоявший на калде без корма, убавил молока, жатва хлебов остановилась в самый горячий момент, и намолоченное зерно лежало на временных токах и мокло под открытым небом.
Межов уже не радовался и солнцу, когда на четвертый день собрался в поле. А солнце было по-летнему жаркое и веселое, а небо, неподвижное и глубокое, голубело в каждой луже, а лужи стояли сплошь и исходили по краям теплым паром.
На машине ехать было нельзя, и Межов из правления пошел через все село на конюшню. Пока шел, несколько раз оступался в лужи, дважды чуть не упал и уж еле волок туфли, которые от налипшей грязи стали похожими на лапти.
– Тротуар надо, Сергей Николаич! – крикнула от колодца старая вдова Пояркова. – Из досок бы сделать или городской, из асфальту.
– Вот когда на работу все ходить будут, – сказал Межов.
– Да у меня овца обезножела, Сергей Николаич. – Пояркова поспешно нагнулась, подхватывая коромыслом зазвеневшую дужку ведра, подождала и, подняв ведра, проворчала вслед Межову: – Успел узнать, косолапый бес. На работу! Когда ты титьку сосал, я уж работала. Пра, бес! Всех уж узнал…
Межов расслышал, но не ответил. Он работал председателем второй месяц и не знал всех людей своего колхоза, в котором насчитывалось более шестисот взрослых жителей, но Пояркову он запомнил.
На общем собрании, когда его выбирали в председатели, Пояркова выступила вслед за секретарем райкома и сказала, что хорошо, конечно, когда и ученый, и агрономом успел годок поработать, и комсомолец, но больно уж молодой. На такие должности меньше чем тридцатилетних нельзя ставить.
– Сколько тебе годочков-то, парень? – спросила она жалостно.
И Межов, стоя под взглядами сотен глаз, любопытных, настороженных, ощупывающих, сказал, весь пунцовый от смущения, что скоро пойдет тридцать первый.
– А когда скоро-то? – допытывалась вдова.
– Через пять лет, – сказал Межов под общий смех всего зала.
Наверно, он хотел сбить шуткой свою напряженность и смущение перед незнакомыми людьми, но тогда он не думал об этом. Он просто не выносил жалости, к тому же иронической, а Пояркова была мастерицей на это. Вот и сейчас она хотела вроде бы пожалеть, что он идет по такой грязи, и посоветовала сделать тротуары. Едкая баба, своеобразная. Да и все они своеобразные, непохожие, более шестисот разных, не похожих друг на друга людей.
Межов перепрыгнул очередную лужицу и пошел мимо дома кузнеца Антипина. Из подворотни высунулся на него, гремя цепью, косматый барбос и захлебнулся необъяснимо злым лаем. Межов наклонился, показывая, будто ищет на земле, чем бы ударить, и барбос мигом скрылся в своей подворотне. Трусоватый, а облаял ни за что ни про что.
– Верный, на место! – послышался за воротами властный хозяйский бас.
Тоже сидит дома, труженик.
Межов возвратился, толкнул ногой тяжелую калитку. Антипин под сараем точил мотыги. Мальчишка лет десяти вертел установленный на козлах наждачный круг, а Антипин точил. Из-под лезвия мотыги летели искры, в солнечном свете похожие на водяные брызги, наждак скоблил закаленную сталь тонко и пронзительно.
– Бог на помощь, – насмешливо сказал Межов, когда утих визг металла.
Антипин вроде бы не расслышал, пощупал пальцем острие мотыги, не спеша поставил ее в угол и взял вторую. Пока не кончит свое дело, не заговорит. У него и дом такой же, как он сам, хмурый, прочный. Наверно, не одну бутылку леснику споил, пока достал такие кряжи. И сад вон за двором развел, и огород… День и ночь готов здесь копаться, а как для колхоза, так восемь часов отстучал – и кузницу на замок.
– Значит, у тебя дело, а я здесь вроде туриста? – сказал Межов, не подавая руки Антипину, наконец-то соизволившему обратить внимание на молодого председателя.
– Картошку окучить надо, – сказал Антипин. – Сушь стояла, а вот теперь она отудобит.
– А уборка?.. Я совки велел тебе на прошлой неделе сделать – где они?
– Жести нету, кончилась.
– Кончилась! Если для себя, так вы и жести найдете и чего угодно.
– То для себя!.. – Антипин вздохнул, улыбчиво поглядел на Межова. – На колхоз-то, говорят, надейся, а сам не плошай.
– Ты не плошаешь!..
Межов круто повернулся, захлопнул тяжелую калитку и пошел грязным проулком к конюшне. Навстречу ему попались десятка полтора женщин и девчат с корзинками и ведрами в руках – несли из леса первые грибы. Наверно, с зарей встали, свою выгоду не упустят и здесь.
Увидев председателя, женщины остановились, озадаченные нечаянной встречей. Вины за ними никакой не было, на работу нынче не наряжали, но все же неловко шастать по лесу в будний день. Они сбились толпой у избы сторожа Филина, смущенно оправляли подоткнутые мокрые подолы, нахлюстанные в лесной траве, очищали от грязи босые ноги.
– Вечером на работу, – сердито сказал Межов, еще не остывший после встречи с Антипиным. – Пойдем на тока, в ночную.
– Ночью-то милуются, а не работают, Сергей Николаевич! – сказала, смеясь, Ольга Христонина, местная красавица, с первого дня безуспешно завлекавшая Межова.
– Вот там и помилуемся. Лопаты захватите. Деревянные.
– Какая же любовь – с лопатами?
Не отвечая, Межов пошел дальше.
– Строгий какой, не подступишься! – обиделась Ольга. – И ведь молодой, неженатый.
– Потому и строгий, что молодой. Вас на коленки посади, а на шею вы сами залезете.
«Тетка Матрена», – определил Межов последний окающий голос. На пенсию пора, а все еще скрипит на своем курятнике – совестливая. После уборки надо ей полный пенсион дать. А с этой Ольгой… черт знает что с ней делать.
Конюх Гусман, заспанный рябой татарин, лежал в тамбуре на сене, закинув руки за голову, и мурлыкал непонятную песню на своем языке. В конюшне пахло кожаной сбруей, отволглым свежим сеном и дегтем. Как на курорте живет. И обленился вконец.
– Заседлай-ка мне Вороного, на тока надо съездить.
– Ага, Вороной! – отряхиваясь от сена, торжествующе заулыбался Гусман. – Как сухо, так машина, а как грязно, давай Вороной! Наша Вороной и по сухо и по грязно ездит. Эх, председатель!
Гусман любил лошадей и ревниво относился к машинам, оттеснившим живую тягловую силу. Сейчас он обидчиво намекал председателю на недавнее решение правления сократить поголовье лошадей наполовину. Справедливое, в общем, решение.
Межов очистил пучком сена размокшие туфли, выбросил грязный пучок за ворота. Гусман покрикивал в конюшне на лошадей: «К стенка! К стенка держись!» Вскоре он вывел Вороного, набросил на него новое казацкое седло, затянул подпруги и, лихо вскинув руку к мятой теплой шапке, в которой он ходил и летом, отрапортовал:
– Готова, товарищ председатель! Край земля едишь, все хараша будит.
Межов легко сел в седло, нагнулся, чтобы не задеть головой косяк ворот, и сжал стременами бока Вороного. Он слышал, как позади причмокнул и потом что-то крикнул. Гусман, но застоявшийся Вороной уже вынес его из конюшни и, разбрызгивая лужи, стремительно мчал по мокрой, сверкающей траве в поле. Он скрипел селезенкой и просился в намет, но Межов не отпускал повод, и Вороной бешено рысил, подняв голову и отбрасывая с копыт тяжелые шматки грязи.
Просторно, солнечно и тихо было в поле. Зеленые ряды лесополос разделили степь на правильные желтые квадраты вызревших хлебов, и красивые эти квадраты были светлыми и печальными. Посреди них и на концах разбрелись и стали безмолвные комбайны, они стояли там, где их застиг дождь, а вокруг волновались под легким ветром хлеба и будто кланялись им.
Дальний полевой ток обозначился одинокой будкой сторожа и ворохами зерна, открыто лежащими под небом. Среди ворохов торчали, высоко подняв железные шеи, два зернопогрузчика, поодаль маячила тонкая труба передвижной электростанции. Где-нибудь здесь бродит и одноногий сторож Семен Филин, ковыряя своей деревяшкой отмякшую площадку тока. Ни черта ведь не подумает, что площадку портит, старый пень.
Межов перевел Вороного на шаг и, нагнувшись с седла, вырвал с корнем несколько пшеничных стеблей. Колос был сухим и уже вымолачивался, но соломина еще сминалась, мочалилась при разрыве, не ломаясь. К вечеру проветрит, и наутро можно будет пускать комбайны.
С левой стороны дороги лежали необмолоченные валки ржи, прибитые дождем к земле. Эти надо немедленно переворачивать, иначе прорастут.
Возле тока Межов спешился, привязал Вороного за столб осветительной сети и позвал Филина. В ответ послышался короткий басистый лай. Наверно, спит, на собаку надеется. Межов пошел к будке сторожа, но дорогу ему преградил Вихрь, рослый пес из породы овчарок.
– Не узнал, что ли? – спросил Межов.
Вихрь узнал, помахал хвостом, но в сторожку не пустил, встав у приоткрытой двери. Межов заглянул в окошко – на нарах лежали в ворохе стружек новая деревянная нога и кривой нож, Филина не было. Куда-то запропастился и ногу даже не доделал.
– Где же хозяин? – спросил Межов собаку.
Вихрь дважды тявкнул в сторону села и опять уставился на Межова. Межов вздохнул.
– Значит, один ты за весь колхоз работаешь? Эх, Вихрь, Вихрь, остаться бы мне агрономом или в аспирантуру поступить, что ли. Ну пойдем, поглядим твое хозяйство.
Межов направился к ближнему вороху, и, едва наступил на площадку тока, Вихрь сердито зарычал: площадка еще не просохла, от ноги остался четкий след.
– Ясно, – сказал Межов. – Веди тогда сам, если ты такой бережливый да строгий.
Вихрь побежал впереди вдоль площадки и остановился у второго вороха, где лежали мосточком две доски. Межов прошел по ним, нагнулся и сгрудил рукой мокрый пласт ржи толщиной пальца в два. Зерно под ним было сухое, но низ вороха схватился с мокрой землей, прорастал. А ведь семенной…
Пшеничные вороха, к которым Филин тоже постелил дощечки, оберегая ток, уже горели. Межов сунул руку по локоть и сразу вытащил: зерно было горячим и ощутимо отдавало прелью. Пшеницу убирали напрямую, сорняк отвеять не успели, и вот пришел этот подлый дождь. Пропадет, если сегодня же не провеять раза два.
Ячмень тоже грелся. Межов помял в горсти теплое зерно, понюхал и протянул его собаке. Вихрь понюхал и обиженно чихнул.
– Вот видишь, – сказал Межов. – А хозяин твой картошку, наверно, побежал окучивать, о себе только думает. Где хозяин?
Вихрь помахал хвостом и побежал к сторожке, оглядываясь и как бы приглашая следовать за собой. У сторожки он показал широкий след сапога и след деревянной ноги – круглые ямки. След уходил в сторону села степью. По залогу ударился напрямик, старый черт!
Межов съездил на ток второй бригады и, убедившись, что неотвеянное зерно тоже греется, отругал сторожа и возвратился в село уже в обед, разъяренный до тихого бешенства. Не доехав еще до конюшни, он услышал частый тревожный звон набата и хлестнул Вороного концом повода по шее. Одна беда не ходит, еще что-то случилось.
Нахлестывая жеребца, он рыскал напряженным взглядом по селу: признаков пожара не было, но по улицам бежал народ, и тревожный звон не утихал, торопил, созывал к себе.
Когда Межов подскакал к правлению, на площади перед ним уже собралась довольно большая толпа, посреди которой колченогий Филин колотил тележным шкворнем в кусок рельса, подвешенный на столбе.
– Чего трезвонишь? – крикнул Межов, наезжая на толпу.
– Хлеб горит, народ подымаю, – деловито сказал Филин и опять застучал по рельсу.
– Хватит, – облегченно сказал Межов, – поднял уже. Трезвонишь, а прийти в правление не догадался.
– Дож-жик, когда придешь-то. Вот кончился, и пришел, да вас нету, а Метелин в третью бригаду, слышь, уехал.
Межов уже не слушал и обратился к толпе.
– Товарищи! – Он поднял руку и привстал на стременах.
– Как Чапаев! – послышалось из толпы насмешливое.
Межов не выдержал:
– По домам своим сидите, мотыги точите, в лес за грибками наладились, а хлеб дядя вам спасать будет?! Какие же вы, к черту, хозяева, если на обоих токах зерно греется! Ну, чего молчите?!
– Откуда мы знали, – проворчал кто-то в толпе.
– Не знали? А что дождь трое суток, хлестал, вы тоже не знали?! Не крестьяне вы, что ли? Вот старик, – Межов показал на мокрого, грязного Филина, – за шесть километров на одной ноге пришел, а вы не чешетесь, пока гром не грянет, черти сиволапые! Председателей ругаете, а вы же здесь хозяева, вы сами…
– Ты не ори! – закричала из толпы тетка Матрена. – Ты скажи толком, рассуди, а не с бухты-барахты.
– Правильно.
– На ток-то сейчас нет влезешь – грязь.
– Сейчас не влезешь, а к вечеру проветрит! – крикнул Межов, покрывая ропот непрерывно растущей толпы. – Если все выйдем, то мы в одну ночь перевеем и спасем зерно. Захватывайте с собой лопаты, ведра, мешки и собирайтесь здесь. Поедем часа через три-четыре. Шоферам бортовых машин быть здесь с машинами.
– Вот так сразу бы и говорил, а то чертыхается…
– Молодой, погорячился.
– Выйдем, председатель, все пойдем, не сомневайся.








