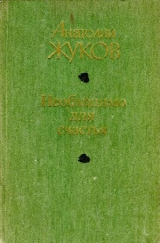
Текст книги "Необходимо для счастья"
Автор книги: Анатолий Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
– Значит, дезертировал по глупости?
Лейтенант вспыхнул.
– Не совсем так, товарищ полковник. Рядовой Дунин обращался ко мне дважды. Перед исчезновением он обратился еще раз, причем в совершенно непозволительной форме.
– Что он вам сказал?
– Он говорил, что у них сеют и он тоскует по колхозу и по своей жене… – Лейтенант снисходительно улыбнулся. – Я думаю, вздорность причин очевидна. Это, простите, блажь, недостойная мужчины.
– Ясно, – сказал полковник. – А что он сделал непозволительного?
– Он обращался так, словно я ему не командир, а друг или приятель.
– Он и ко мне так обратился, – сказал с улыбкой полковник. – Пришел вчера на квартиру и прямо бухнул: «Пусти, батя!»
Лица солдат просветлели, все заулыбались облегченно.
Полковник весь вечер проговорил с солдатами о «гражданке», вспоминал свою родную деревню, в которой не был уже пять лет, виновато вздыхал. Утром лейтенанта вызвали в штаб – его назначили на должность адъютанта, – а в роту пришел новый взводный, такой же молодой и строгий. Только понятливей, как потом определил Дунин, возвратившись из дома.
Он возвратился через три дня. Поездка ему удалась. С аэродрома в областном центре он в тот же день доехал автобусом до райцентра, а около полуночи, отмахав восемнадцать километров грязной весенней дорогой, стоял у своего дома и прислушивался к разговору в палисаднике.
Его дружок Федянька говорил о космосе, о весне, о звездах, которые будут полем человеческой деятельности. Зинка сидела рядом и вздыхала. Зачем вздыхала, дурочка? Ну, мужик бы был, парень ли хороший, а то ведь мозгляк, кролик, соплей перешибить можно.
– Вон ту красную звездочку видишь? – спрашивал Федянька.
– Не слепая, – обиделась Зинка.
Сквозь голые прутья кленов хорошо были видны их фигурки – обе до смешного маленькие.
– Это Марс. Там растения есть, каналы, марсиане. Я в книжке читал – «Аэлита» называется, – и в газетах было. Мы тоже туда полетим скоро.
И этот о красной планете.
– Сейчас полетите, – сказал Дунин и совсем вышел из-за угла. – Сейчас вы у меня полетите!
Фигурки торопливо вскочили и замерли у завалинки, безмолвные, обреченные.
Шлепая грязными чавкающими сапогами, Дунин прошел в палисадник, бросил у ног чемодан и уставился на Федяньку.
– Ну?
– Мы тут ждем… Мы с Зиной о тебе… Мы… – Федянька от неожиданности забыл слова, стал заикаться. – М-мы ду-ду-мали, Василий, мол, там…
Руки у него висели вдоль тела, смирные и безвольные. Такого и ударить-то нельзя.
– Ладно, – сказал Дунин, взяв его за ухо. – Мамке скажешь. – И отвел, как школьника, до распахнутой Калитки.
– Не знаешь ты, – лепетал Федянька. – Ты у-узнаешь…
– Узнаю, – сказал Дунин и крутнул ему ухо на прощанье.
Зинка плакала. Она вышла на свет, падавший из кухонного окошка ярким пятном, и плакала беззвучно, потерянно. Слезы лились по щекам двумя блестящими ручейками, она не вытирала их и казалась еще ничтожней и красивей в своем ничтожестве. Дунин громоздился над ней беспомощной глыбой и тяжело молчал. Зинка плакала, ожидая. Постояв молча, он взял чемодан и пошел в избу. Зинка покорно поплелась сзади.
В передней было сумрачно. Свет из кухни показывал пустую детскую качалку и неразобранную супружескую кровать. О звездах говорят, не дошли еще до кровати-то.
Дунин поставил на лавку чемодан и прошел к детской качалке. Он так и не увидел Наташку, по карточке только знал. Родить сумела, а сберечь не смогла, сколько ни наказывал.
Дунин открыл чемодан, достал поллитру «Особой» и шоколадку. Шоколадку отнес в качалку и положил на подушку, водку поставил на стол.
– Выпьем за встречу-то долгожданную, – предложил Зинке.
Зинка всхлипнула.
Дунин выпил всю поллитровку, стал отдыхать. Опьянеть не опьянел, а тяжело как-то сделалось и скучно. Съел две луковицы, пожевал корочку хлеба, закурил. Зинка разобрала постель и сидела на кровати в одной рубашке, распустив по плечам пенные волосы. Дунину стало тоскливо.
– Не сеют еще? – спросил он первое попавшееся.
– Вы-выехали, – давясь, выдохнула Зинка.
Дунин встал, вышел на крыльцо. Ночь уже кончалась. Небо за хлевом побледнело, звезды съежились и мерцали слабыми искорками, перекликались в разных концах петухи. Дунин бросил окурок в лужу, послушал его короткое шипенье и отправился в поле.
За околицей села, у жиденькой лесополосы стоял серой тенью дощатый вагончик бригадного стана. Знакомого флажка над крышей не было.
Отставали ребята.
Дунин нагнулся и зачерпнул в горсть мягкой прохладной земли. Помял, понюхал. Навоз, видно, опять сожгли, не запахали. Разбрасывают по зяби, а перепахивать им дядя станет. Время только ведут. По парам надо, а по зяби – минеральные.
Под вагончиком из вороха соломы торчали тонкие ноги в сапогах. Дунин нагнулся, потянул за сапог и бросил: из соломы поднялась знакомая воробьиная голова в мохнатой большой шапке.
– Федянька?! – удивился Дунин.
Федянька выкатился из-под вагончика, вскочил, торопливо отряхиваясь от соломы. Он был в грязных штанах и в замасленной до кожаного блеска фуфайке, от которой пахло землей и мазутом. Хахаль. Снял костюмчик-то.
– Ты же учетчиком был? – спросил Дунин.
– Б-был, – сказал Федянька, все еще отряхиваясь и не глядя на Дунина. – Будешь тут с вами. Ушли все, ссслужат, а сеять не-некому.
– Ты не юли, – сказал Дунин, взяв его за плечо. – Ты не бойся, бить я тебя не буду.
– Би-ить? Спасибо! – всхлипнул от обиды Федянька. – Два года не виделись, а он ухи рвет…
– С радости это я, – рассердился Дунин.
– Свинья-а! – заплакал Федянька. – Четвертый ме-месяц за женой его хожу, а он за ухи… с-скотина… Стыда в тебе нет.
– Почему? – растерялся Дунин.
– Потому. Извелась она, Зинка-то, измаялась… де-девчонку схоронила и как шальная ходит…
Дунин облегченно вздохнул, тихо засмеялся.
– Места не найдет… День работаю, ночь ее караулю, развлекаю…
Дунин качнулся и горячо прижал вздрагивающую грязную фигурку. Федянька благодарно прильнул к нему. Такой худенький, слабый и преданный.
Потом они сидели рядом на соломе, успокоенные и близкие, и Федянька рассказывал о работе. Дунин курил, слушал, иногда переспрашивал.
– У Суходола опять ячмень станете сеять?
– Ячмень. Мы там бобы в прошлом году сеяли.
– А навоз чего сожгли? Химию требуем, а добро под носом портится. Пары надо оставлять, по парам разбрасывайте и запахивайте. Земле надо отдых давать, кормить.
Федянька вздохнул.
Занималось уже утро. Над белесым дымящимся полем висели груды облаков, звенели жаворонки. Они, наверно, уже видели солнце.
Дунин попрощался с Федянькой, поцеловал его в красное припухшее ухо и пошел, покачиваясь (хмель все-таки взял свое), домой.
Зинка лежала на кровати, подушка была мокрая от слез. Дунин сел рядом и погладил жену по растрепанной голове. Зинка не пошевелилась.
– Не на гулянье же я – на службе, – сказал Дунин.
Зинка не отвечала.
– Красивая ты у меня, – сказал Дунин. – Красивая и дурная. Под суд чуть не угодил из-за тебя. Бате спасибо, отпустил, а то бы сам ушел.
Зинка медленно поднялась, села на постели и уставилась на мужа. Упрек, боль, жалость стояли в ее глазах. Дунин смутился.
– Я ходил к Федяньке, – сказал он глухо. – Федянька меня простил. Слышь?
– Слышу. – Льдисто-голубые глаза Зинки оттаивали, согревались, теплели.
– Наташку-то я во сне видел, – сказал Дунин. – И тебя с ней видел. Будто сидишь ты у окна и кормишь ее грудью.
В горячих глазах Зинки плеснулась короткая радость и боль.
– Ты шоколадку съешь сама, – попросил Дунин. – В прошлом году еще купил, берег. Чего уж теперь… Ты съешь.
– Мы вместе, – прошептала Зинка и ткнулась лицом в его грудь.
На другой день Дунин собрался уезжать обратно. Зинка глядела на него неспокойно, жадно.
– Весенняя поверка у нас, – объяснил Дунин. – Людей мало.
Зинка отчаянно глядела на него и молчала.
– Вот что, – сказал Дунин, вороша рукой ее шелковые легкие волосы. – Трудно тебе, я вижу. Красивая ты, молодая – и одна. Федянька парень хороший, честный, а если другой утешать придет, если не Федянька?..
– Не знаю, – сказала Зинка, краснея. – Истосковалась я. Когда Наташка была, можно было, а сейчас как монашка… Сделай что-нибудь, Вася!
– Ладно, – сказал Дунин. – К моей матери переедешь, я говорил ей. А тебя я сейчас обстригу на всякий случай. Чтобы не заглядывались.
Зинка охнула и схватилась за голову.
– Ничего, – сказал Дунин. – На работу в платке походишь, а потом отрастут. К моему приезду.
Зинка залилась беззвучными слезами и стала искать ножницы. Она любила своего Васю.
– И ты обстриг?! – спросил полковник, выслушав доклад Дунина о поездке домой.
– Обстриг, – вздохнул Дунин. – Жалко было, а что делать?
– Мужлан же ты, братец, лыковый мужлан!
И дал пять суток ареста.
За грубость.
1963 г.
ОТ ОБИДЫ ИЛИ ОТ БОЛИ?
I
На земле произошло что-то важное, и Федор проснулся с ощущением этого неизвестного, но важного события.
В доме стояла привычная предрассветная тишина. Глубоко и ровно дышала рядом Катерина, чмокал, уткнувшись в подушку, Фунтик, неспешно шли настенные часы. И радио еще молчало, и со двора доносились лишь редкие петушиные крики. Но ощущение новизны и важности наступающего дня не пропадало.
Федор открыл глаза и понял сразу, в чем дело. Комнату заливал мягкий молочный свет. Он ощущался даже сквозь сомкнутые веки, и, наверно, поэтому Федор проснулся до времени. Он осторожно сел на постели, придержав рукой Фунтика, и повернулся к окну.
– Ты чего? – проворчала чуткая во сне Катерина.
– Сейчас, – прошептал Федор. Перелез через нее, спустил с кровати ноги, нащупал валяные калоши на полу и встал.
За окном шел тихий снег. В предрассветном сумраке непривычно белыми стояли опушенные липы и кусты сирени, белой была земля, еще вчера устланная прикипевшей на морозе листвой, белым было и тихое низкое небо. Его даже и не замечалось, неба-то, а просто висел раздерганный белый пух и тихо, осторожно опускался, оседал на землю.
– Что там? – спросила, совсем проснувшись, Катерина.
– Зима, – прошептал Федор, – снег кругом. Целую ночь, видно, идет, ни пятнышка не видать.
Он открыл форточку, и снаружи пахнуло свежо, чисто, знобяще.
– Не простудись, – сказала Катерина, подымаясь.
– Я на минутку.
Катерина встала, оправила длинную ночную рубашку и подошла к окну. После покрова, на другой день тоже сорил снег, потом еще один слабый замерек был, а теперь, значит, совсем.
– Будто в обнову наряжается, – сказал Федор.
– Кто? – не поняла Катерина.
– Земля наша. Летняя одежда у ней износилась, и вот она зимнюю примеряет, белую.
Катерина не нашла подходящих слов для ответа и положила руку на плечо мужа. И тут они оба вспомнили, что вчера вечером крепко повздорили, поэтому Катерина и взяла в постель Фунтика, который обычно спал в своей кроватке.
Повздорили глупо, из-за малости. Катерина настаивала зарезать бычка Прошку, а Федор все откладывал. А чего откладывать, когда уж морозы устоялись, мясо не испортится, люди давно порезали такую скотину – и бычков, и свиней, и баранов порезали. Чего держать-то зря, корм только переводить. А Федор все откладывал. Днем из кузни его не вытащишь, вечером в клубный кружок отправляется – самодеятельность.
Катерина с особой мстительностью припомнила ему этот кружок, ради которого он, будто холостяк, уходит из дому, а потом назвала блаженным – это уж за Прошку. Она точно знала, что ему жалко Прошку, и вот оттягивает, на дела ссылается. С таким мужиком в церкву ходить, а не хозяйство вести, не семью. Вон и палисадник под окнами не как у людей: липы ему нужны, сирень нужна, цветочки. Есть, что ли, их, цветочки-то? А у людей сейчас моченые яблоки…
Все ему припомнила Катерина. И как из армии, дура, ждала его три года, и как жениться он потом полгода не решался, – предложение не смел ей сделать, надо же, самой пришлось сказать! – и как теперь она мучается с ним, бугаем, а у него никакой к дому прилежности.
– Нынче зарежем, – сказал Федор, закрывая форточку. – За Митькой я сейчас схожу.
– Так я воду греть стану?
– Грей. Пойду скотине корму дам.
– Прошку не корми.
– Ладно. – Федор стал одеваться.
Изба заметно выстыла за ночь, и Катерина поторопилась затопить голландку. Кизяки у ней были припасены с вечера, а на растопку хранились в подпечке сосновые поленья. Она нащепала косарем лучины, положила немного поленьев, чиркнула спичкой и, когда лучина занялась, стала накладывать кизяки, ворча, что заботливые люди, такие, как Митька, дров запасли, а тут с кизяками каждую зиму маешься.
Федор уже собрался, приоткрыл дверь, но потом передумал и захлопнул.
– На зимнюю форму надо переходить, – сказал он, стаскивая у порога сапоги.
– Валенки на печке, – сказала Катерина.
Федор переобулся, прошел на кухню и, позвякав кружкой, – пусть Катерина думает, что он пить захотел, – впотьмах отыскал в столе хлеб. Надо Прошке дать кусочек, пусть поест перед смертью. Отломил горбушку, сунул в карман, вышел.
Еще в сенях он почувствовал свежий зимний дух, а открыл дверь – и сердце зашлось от легкости и красоты. Как раз в это время со станции дали свет, окна в избах будто распахнулись настежь, снег заискрился от света, а под столбами, на которых горели лампочки, словно кто-то невидимый поливал из лейки – это снежинки падали сверху. И чисто кругом, просторно, хорошо. Когда рассветает, далеко кругом видно, всю степь видно до самого края, где она сливается с небушком. Эх ты, степь моя, степь широкая…
Федор спрыгнул с крыльца в снег, – мягко, по щиколотку уже нападало, – дошел до хлева, оглянулся: на снегу остались четкие следы валенок, даже строчки дратвы видать, когда нагнешься поближе. Молодой снег завсегда податливый, мягкий. И хрустит сочно.
Заслышав шаги хозяина, мыкнул приветливо Прошка, заблеяли овцы, глубоко вздохнула корова. Надо во двор их выпустить, пусть походят, поглядят.
Федор открыл дверь – из хлева дохнуло парным теплом, смешанным запахом навоза и сена. А Прошка уже стоял у двери.
– Ну иди, иди, побегай, – сказал ему Федор и посторонился.
Прошка недоверчиво поглядел на него, потом сбычился в открытый дверной проем – бело впереди, незнакомо: он первый раз видел снег.
Если бы корму вдоволь, можно бы не резать такого молодого, только откуда они, корма-то, когда в этом году сушь все лето.
– Иди, не бойся, – сказал Федор.
Бычок вышел, понюхал снег, оглянулся на Федора и, весело взлягнув, пустился по двору, высоко вскидывая ноги и мотая головой. Радостно побежал, ошалело, дурачок, не знал, что последний раз бегает.
Федор выпустил во двор корову и двух овец, вычистил навоз и влез на полоскушу теребить сено. Корова осталась равнодушна к снегу, она была старая, материна. Мать летом померла и оставила ему и корову, и дом, и все, что было в доме. А овец с Катериной купили на свои трудовые. Овцы тоже не бегали, стояли рядом с коровой и ждали, когда он сбросит им сена. А Прошка, дурачок, все бегал, как собака. То к крыльцу подбежит, то к пряслу, снег понюхает, лизнет и опять во весь мах – воле радуется, жизни.
Федор сбросил вниз сено, – пахнет-то как, будто лето вернулось! – спустился по жерди сам (лестницу надо сделать, Катерина голову проела за лестницу), поманил Прошку. Бычок подбежал и озорно, играючи ткнул его лбом в живот. Как человек! У него и взгляд вон человечий.
– Прошка, хлеба хочешь? – Федор потрепал бычка за уши и вынул из полушубка горбушку. – На, лопай.
Из дома вышла с ведрами Катерина – будто ждала, когда он Прошку кормить станет, зараза, ничего не скроешь! – и, конечно, увидела сразу хлеб. Глядеть ей больше не на что.
– Федя, без пользы ведь, хлеб только пропадет.
– Много ты знаешь. Пользы нет, зато радость, приятность…
– Блаженный, вот блаженный на мою голову! Сейчас же иди за Митькой, хватит откладывать! – И загремела с ведрами к колодцу.
В кого она такая крикливая, громкая? Мать воды не замутит, отец смирный, а эта – как пожарная машина. И ведь толковая баба.
Федор скормил бычку хлеб и пошел за Митькой.
Уже светало, на столбах погасли лампочки под жестяными абажурами, – как в городе лампочки, светло живем! – по улице проехал на санях конюх Торгашов с собакой, проделывая зимний след. Тоже радуется первопутку и хлещет лошадь кнутом. Хлестать-то зачем? Лошадь тоже рада снегу – мягко ей после мерзлых кочек, хорошо. И собака вон радуется, взлаивает. Эта по дурости, на других глядя. Всю зиму на морозе дрожать придется, конюхов дом караулить.
Дружок Митька жил рядом, через улицу. Он тоже убирал у скотины и после завтрака собирался колоть дрова. Во дворе лежали толстенные обрезки комлей, которые он не одолел в теплое время.
– Прошку я решил все ж таки, – сказал Федор.
– Уничтожить? – осклабился Митька радостно. Выпивку почуял даровую и обрадовался.
– Нет, – сказал Федор. – Зарезать на мясо. Зачем добро уничтожать.
– Теперь понятно, – засмеялся Митька. – А я думал…
– Балбес, – сказал Федор. – Нечего зубы скалить, идем.
– Что так рано? Или в темноте хочешь покончить, Прошкиных глаз боишься?
– Не твое дело, собирайся.
– А я не желаю невинную кровь проливать, – выпендривался Митька. – Скотина ведь не машина, у ней душа есть и все такое прочее.
«Сволочь, – подумал Федор любовно. – Моими же словами тычет, паразит. Надо придушить нынче на сцене, когда нападать станет, Антанта проклятая».
Митька был любимцем всей деревни; и потому, что баянист хороший и единственный, и потому, что самодеятельность в клубе ведет, скучать не дает, и потому еще, что парень он лихой, безужасный. Он работал шофером, возил любой груз в любую погоду, лишь бы колеса до земли доставали, часто бывал в райцентре, подбрасывая по пути колхозников на базар или по какой другой надобности, содержал самосвал всегда на ходу и дразнил Федора за его душевное отношение к скотине. Машина – не скотина, говорил он, поставишь ее – и стоит, корму не просит. Ты вот вздыхаешь над телком, над травинкой, а понять того не можешь, что телок травинку съест и за другой потянется, а телка ты съешь и на барана поглядишь. Эх, Федорушка…
Особенно незаменим был Митька осенью и в начале зимы: очень уж ловко резал он скот. Быка ли, свинью ли, овцу ли – зарежет и разделает с улыбочкой. Мастер, на бойне только работать. Овец, так тех облуплял мигом, будто раздевал их, подлец. Мастер, мастер… На все руки. И не пьяница, хотя выпивал часто при таком деле. Знает меру.
Федор тоже любил Митьку, но иногда хотелось прижать его, придушить, стукнуть по вертлявой отчаянной головенке. Почему? Может, Федор завидовал его дельности, безоглядности? Вряд ли, едва ли…
– Зарежем! – засмеялся Митька, хлопнув Федора по плечу. – Зарежем, Федорушка, когда хошь!
И скрылся в доме – побежал взять нож.
II
Они сидели за столом, ели селянку, и Митька рассказывал, как на прошлой неделе он резал борова у Торгашовых. Здоровенный такой боров был, пудов восемь, на колхозном фураже откормленный. Думали, такого и пятеро мужиков не удержат. А Митька подошел один, почесал его, боров и лег, дурак, похрюкивает, блаженствует. В такое время сунуть ножик в сердце – пара пустяков. Вот и Прошка тоже. Вытянул шею для чесанья, а тут и…
– Ешь, – оборвал его Федор, наливая по второй.
Катерина и Фунтик тоже сидели за столом. Катерина пускай, ладно, а Фунтику нечего слушать такие речи. Ему уж два года, понимает, Петькой пора звать, а то в деревне любят разные клички, так и останется на всю жизнь Фунтиком.
– Мясо нам Плоска плислал, да? – Фунтик держал в руках кусочек печенки и весело глядел то на отца, то на мать.
– Ешь, – сердито сказал Федор. – Ешь и не болтай за столом.
Катерина раскраснелась после стопки, благодарно глядела на Митьку за то, что снял с нее часть хлопот, и миролюбиво на Федора – все-таки решился, чадушко, решился.
– А я ему говорила, говорила: да сходи ты за Митей, говорю, он мигом сделает как надо. И правда, мигом вышло. Пуда на четыре будет, как думаешь, Митя?
– Верных, – сказал Митька солидно. – Четыре верных без головы и без ног.
– На всю зиму теперь хватит, – радовалась Катерина. – Мы барана еще не съели, да два гуся целые.
– Хватит, – сказал Федор, – надолго хватит. И нечего говорить про это. Едите? Ну и ешьте, а зачем говорить?!
И Катерина и Митька поняли, умолкли.
– Объявленье написал? – спросил Федор Митьку.
– Когда? И объявленье пиши, и дрова коли, и Прошку твоего…
– Я расколю дрова, – сказал Федор. – В бригадном доме надо повесить и у ларька, пиши два.
– Артист! – засмеялась Катерина. – Митя хоть парень веселый, а ты? Думаешь, как в кузне кувалдой – трах-бах!
– Ничего, – заступился великодушно Митька, – зато Федор слова выучил, всю роль наизусть знает.
– А ты рушником утрись, рушником, – угодливо сепетила Катерина, заметив, что Митька ладонью вытер жирные губы. Вытер и подмигнул ей.
«Красивый он все же, – подумал Федор. – Красивый и ловкий. Не зря его все любят».
Они вылезли из-за стола, Катерина стала убирать посуду, а Митька закурил дорогую сигарету с фильтром – из города привез. Шоферу это раз плюнуть, каждую неделю в городе, не в областном, так в районном.
– Дух-то какой приятный! – изумилась Катерина. А взглядом на Федора: хоть бы курил, что ли, мужиком в доме не пахнет. – Давно я такого духу не слышала!.. Тебе как за труды-то, Митя, на бутылочку или мясом возьмешь?
«Во-он она что вьется, – догадался Федор. – Хитра-а!»
– И на бутылочку, и мяса побольше, – царствовал Митька. – Какая же выпивка без закуски! Эх, Катя-Катерина, мы же свои люди, артисты! – Он подмигнул Федору: – А может, возьмем? Перед премьерой?
– Я тебе возьму, – сказал Федор. – На леваках зашибай, ты умеешь.
– Я все умею, Федорушка. Идем.
– Обедать приходите, – наказала Катерина провожая.
На улице встретились сестры Ветошкины, Маня и Клавка, обе в городских сапожках, цигейковых шубах, – передовые доярки. А коров, поди, на хромую тетку Пашу оставили, скотина потерпит ради праздничка.
– Митя, идем с нами! – крикнула Клавка.
– Днем-то! – засмеялся Митька.
– А у нас во-от что есть! – Клавка показала из кармана бутылочную головку.
– Умницы! – крикнул Митька. – Вечером, после концерта. Занавес сшили?
– Сшили, приходи.
А на Федора и не взглянула ни одна – вахлак, что с него.
– Женился бы, – сказал Федор. – Вон какие красавицы, упустишь. Я слыхал, они в город собираются.
– Для тебя все красавицы. Таких красавиц я знаешь в чем видел?..
– В чем? – спросил Федор.
– Не в шубах…
Дом у Митьки был пятистенный, шатровый, сени тоже срубовые, двор тесом обнесен, а не жердями, как у Федора, ворота двустворчатые – машине въезжать, подводе ли. Отец у него пчеловод, сестра Анютка на птичнике, мать за хозяйством глядит, за скотиной. Все работники, живут крепко, постависто. За домом сад взрослый есть, огород большой, в огороде банька срубовая, по-чистому топится. Мясо, молоко, масло, хлеб, мед, яйца, яблоки – все свое. Свое и колхозное. Все кругом колхозное, все вокруг – мое. А в горнице радиоприемник «Сириус», комод новый, шифоньер, ковровая дорожка, стулья с гнутыми спинками. Катерина запилила Федора за эти гнутые спинки и ковровые дорожки, будто в них счастье.
– А вы тапочки наденьте, а валенки на печку, – встретила их в прихожей тетка Дарья, Митькина мать.
– Я за колуном, – сказал Федор, – сейчас уйду.
– Обожди, – сказал, раздеваясь, Митька. – Подскажи, как написать повеселее, позавлекательней?
– Как? – Федор серьезно стал думать. – Ну… вот, мол, в честь праздника… это самое… драма.
– Завлекательно! – осклабился Митька. – Ладно, держи колун и действуй.
Во дворе Анютка кормила кур и топала валенками по снегу:
Я залетку своего
Работать не заставлю,
Сама печку истоплю,
Самовар поставлю.
Веселая девка, красивая. И кур любит без памяти. На птичнике у нее ворона живет ручная (кто-то подбил, а она выходила), воробьи кормятся, галки.
– Ты что, колоть чурбаки подрядился? – спросила она. – Увези ты их в свою кузницу, там сгорят. У нас дров на две зимы хватит.
И не жадная – на две зимы хватит! А Митька с отцом на третью запасают.
– Не расколешь, брось, Митька летом пробовал.
– Ничего. – Федор примерился, поднял колун. – У меня они станут сговорчивы. – И хрястнул колуном первый чурбак.
– Надвое! – поразилась Анютка. – А ну еще!
Федор ударил по другому и опять развалил кряж пополам. Сразу.
Анютка ахнула и побежала домой рассказывать.
Вот какую жену ему надо. Работали бы оба и радовались друг дружке. А нет того понятия, что на морозе дрова завсегда легче колются. Радовались бы и сидели голодные. Катерина, она хозяйство крепко держит, хоть и не работает из-за Фунтика. Куда его денешь, если мать умерла, теща в Головкине живет, а яслей в бригаде нет.
– Здравствуйте, муженек дорогой! – сказала Нина Николаевна.
Федор обернулся: ух ты, какая нарядная! И зубы фарфоровые от улыбки все на виду, и глаза сверкают, как звезды. Красавица! Вот бы кого в жены, весь век радовался бы.
– Здравствуйте, Нина Николаевна, с праздничком вас!
– Матрена я, Матрена, роль свою не забывайте! Дмитрий дома?
– Митька? Дома. Я помню, Нина Николаевна, я свою роль наизусть знаю.
– То-то, не подведите меня. – И каблучками по крыльцу цок-цок-цок.
Федор глядел вслед и улыбался: вот ведь какие бабы бывают – куколка! Махонькая вся, стройная, точеная будто со всех сторон, а потом отшлифована до гладкости. Жена! Федор сознательный красноармеец, а она его жена. Матреной зовут, председатель комбеда. Федор защищает Советскую власть от врагов внешних, от Антанты, а Матрена в это время с кулаками борется, бедняков сплачивает в одну крестьянскую семью… Красавица. На жалованье только живет, на семьдесят рублей, хозяйства никакого – из города сюда приехала. Вон и ботики у нее холодные, и пальтишко легкое, осеннее. Одна учительница на всю школу. Правда, и учеников-то в деревне десятка два, не больше, но ведь четыре класса, какую тут голову надо, чтобы всех сразу учить.
Когда распределяли роли, Митька взял себе сознательного красноармейца, ее мужа, а Федор интервента должен был играть, американца. Не согласилась ведь Нина Николаевна. Нет, говорит, позвольте мне самой выбрать мужа. Я тяжеловатых люблю, крепких, как стены, надежных. А теперь смеется. И тогда, поди, смеялась. Все над ним смеются, как над дурачком.
Федор переколол дрова, сложил в кучу разлетевшиеся поленья и хотел идти домой, но тут вышли Анютка и Нина Николаевна. В руке у Нины Николаевны были скатанные трубочкой объявления. Не иначе Митька расклеить поручил. Умеет человек. Ей – объявления, Федору – колун, Анютке тоже какое-нибудь порученье дал.
– Ты куда, Анютк? – спросил он.
– К Ветошкиным. Митька велел занавес в клубе повесить.
Точно. И непутные сестры Ветошкины на него работают.
– До встречи на сцене! – помахала ручкой Нина Николаевна.
– До встречи, – сказал Федор, глядя ей вслед.
И вдруг вспомнил Прошку, растерянные его глаза, слезы в глазах. От обиды или от боли? Нет, боль сама собой, боль можно вытерпеть, а обида непонятна. Федор ведь рядом стоял, когда Митька почесывал у бычка под горлом, он рядом стоял, потому Прошка и доверился. Он так и не понял, за что…
III
Бригадир Митряев дядя Иван сказал со сцены короткую речь о том, что мы теперь имеем право на труд, на отдых, на образование, а также на пенсию, и велел снять шапки: клуб нынче протопили на совесть, чего париться в шапках. И одежду верхнюю надо снять, на коленки свои положить. Какое веселье в одежде?
А потом на сцену вышел Митька.
– Парадом командовать буду я, – звонко объявил он. – С праздником, дорогие товарищи!
И все сразу заулыбались, захлопали в ладоши, а ребятишки, сидевшие у сцены прямо на полу, засучили ногами от восторга. Митька был в кумачовой рубахе с поясом, в широких сатиновых шароварах, в сапожках хромовых – артист!
«Плясать станет!» – пронесся по залу радостный шепот.
– Первым номером нашей программы – русская пляска. Исполняю я, аккомпанирует на баяне Дмитрий Ганин.
И опять все засмеялись, потому что Дмитрием Ганиным был тоже Митька. Он размашисто поклонился и побежал в закуток за сценой, где сидели потные от волнения артисты: Нина Николаевна, Федор, сестры Ветошкины, Анютка и два холостых тракториста – сыновья конюха Торгашова. Здесь же был и счетовод Громобоев, однорукий старичок в очках, бывший буденновец, который исполнял обязанности суфлера.
– Значит, как договорились, – сказал Митька, хватая баян. – За мной идет Анютка, за Анюткой вы, сестры, за ними вы, братья, потом опять я, а потом закатим драму.
– Хорошо, хорошо, – сказала Нина Николаевна, примеряя перед зеркалом красный платок.
Митька исчез, и тут же звонко и быстро заговорил баян, рассыпался по сцене дробный перестук каблуков. Молодец парень!
Федор в солдатских ботинках сидел на полу и обкручивал икры ног мешочными обмотками – сознательный красноармеец. Анютка зашивала ему буденновский шлем, который принес на время спектакля Громобоев, и шептала свой стишок. Сестры Ветошкины ахали у занавески на Митьку – как пляшет!
– Вы, Федя, поживей держитесь, – сказала Нина Николаевна. – Вы ведь идете на бой за новую жизнь, за мировую революцию, вы энтузиаст, бедняк, вам терять нечего, кроме цепей, а приобретете вы весь мир. Дух времени надо передать, атмосферу, понимаете?
– Понимаю, – сказал Федор.
– И я для вас не просто жена – я для вас верная подруга, товарищ по борьбе, соратник. Лаптей вот, жаль, не достала, нигде нет, придется в калошах. Договорились?
– Ладно, – сказал Федор.
В клубе будто опрокинули воз досок – колхозники хлопали своему любимцу Митьке. Заслужил, значит.
Митька вбежал потный, красный, поставил баян и выбежал опять кланяться, объявлять следующий номер.
Следующие номера тоже прошли гладко. Анютка отбарабанила свой стишок про цветы, сестры Ветошкины спели две песни – про дельфина и про черного городского кота, которому не везет всю дорогу. Потом сыновья конюха Торгашова рассказали басню. Молчуны оба, а душевно рассказали, с выражением. Один был волк, а другой ягненок, и вот ягненка волк мытарил, мытарил разговором, а потом сожрал в лесу, гад.
Митька сплясал еще барыню и цыганочку, объявил перерыв на пять минут, чтобы переодеться, и наконец начали драму.
Первой вышла Нина Николаевна. Ее сперва не узнали, подумали, приезжая какая, но потом узнали. «Учителка, – зашептали, – Нина Николаевна», – а ребятишки хором поздоровались, как в школе.
Массовые сцены, по замыслу Нины Николаевны, должен был играть зритель, и она обратилась прямо в зал, призывая озадаченных колхозников вступать в коммуну и не давать спуску мироедам кулакам, которые пришли сюда и думают, как бы половчее дать подножку новой жизни. А ведь хозяева теперь мы, а не кулаки.
– Голодранцы вы! – крикнул от порога один из братьев Торгашовых. – Калоши вон подвяжи, потеряешь!
– «В зале возмущение, шум, все оборачиваются к порогу», – шептал из закутка добросовестный Громобоев.








