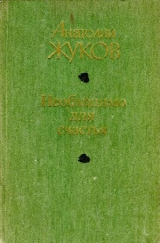
Текст книги "Необходимо для счастья"
Автор книги: Анатолий Жуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Эта последняя группа видится мне особенно яркой, потому что разноцветье косынок и платьев постоянно движется, бабы неумолчно говорят и смеются, мелькают отбеленные травой и солнцем легкие грабли, и сено, которое они ворошат, скатывая в пушистые копешки, излучает все запахи луговых трав, земли и солнца. Я не знаю других запахов, которые пробуждали бы во мне чувства радости и доброты, вот разве что запах цветущей ржи, когда она течет и колышется под легким ветром неторопливыми волнами, вызывает подобное ощущение спокойной удовлетворенности.
Стогометчики тоже работают шумно и весело. Они заложили сразу несколько стогов, возле них снуют одноконные рыдваны, подвозя от баб легкие копешки пахучего сена, фыркают лошади, переговариваются мужики, в небо взлетают зеленые облачка сена.
Косцы работают молча, и похожи они в это время на солдат. Высокий плечистый мужик по праву лучшего косца идет впереди, будто командир взвода, а за ним, строго соблюдая дистанцию, покачиваются в такт взмахам рук остальные. Трава отступает перед ними, клонится со стоном и послушно бежит зеленой строчкой в рядок, такой же ровный, как две сплошные полосы следов, оставляемых косцом, который передвигает ноги, не отрывая их от земли.
На середине участка плечистый высокий мужик останавливается передохнуть и точит косу. Его остановка служит как бы общей командой: встают все, и над лугом плывет мелодичное, с оттяжкой, вжиканье наждачных смолянок. Даже последний, самый крайний косец, который сделал всего несколько взмахов на новом рядке, остановился – он не может выбиться из общего ритма.
А потом высокий мужик пойдет вдоль своего рядка обратно, подняв сверкающую косу на потное голое плечо (рубахи сняли все на первом заходе), и за ним один по одному будут идти другие косцы. Собравшись вместе на конце участка, они напьются хлебного квасу и станут курить, пока их вожак не скомандует протяжно и весело: «За-хо-оди-и-и!»
Всю эту картину я вижу, слышу, ощущаю, но где же Курыль-Мурыль? В селе он был, на лугу пропал. Не вижу я его. Все знакомые односельчане здесь, а его нет. Поздним вечером он придет в село с косой на плече, такой же усталый и счастливый, как и весь народ, но придет он в село один. И сеном своим – это я помню точно – Курыль-Мурыль никогда не пользовался. То ли увозил его злой человек, то ли оно гибло от потравы скотиной, только не пользовался. А косил он каждый год, всю свою жизнь.
Такой грустный конец у красивой сказки мне всегда был непонятен, я пытался вспомнить слова и не мог. Может быть, потому, что, вспоминая, я видел самого сказочника, его расстроенное лицо и рядом милиционера или военного, который торопил его, и сказка прерывалась непонятным разговором.
– Предписано, и надо выполнять, – говорил милиционер-военный.
– Тут моя родная земля, – отвечал ему старик.
– Земля давно не твоя, а общая, не задерживайся.
– Здесь же люди свои, крестьяне, – цеплялся старик, взяв меня на руки.
– Не крестьяне, а колхозники. Давай топай, не задерживайся!
– Он сказку говорит мне, сказку! – кричал я в отчаянии на милиционера-военного.
– Да, да, сынок, сказку. Я сейчас… «Жил-был Курыль-Мурыль…»
– Отпусти мальчонку и иди. Ну! Чего ты им заслоняешься?!
Не запомнил я слов, не сумел, сил тогда не хватило. А дедушка Курыль-Мурыль не вернулся.
Из разговора взрослых я знал, что Редькин Кузьма – вот как его звали: Редькин Кузьма… Иванович! Да, Иванович, верно! – пришел совсем, но житье ему определено не в родной Хмелевке, а где-то далеко, не то в Киргизии, не то на Кавказе. В горах, словом. Семья у него извелась в дальнем нежилом краю, а сам он уцелел и вот пришел.
Я помню, что в село пришел накануне сенокоса, народ был дома, взрослые узнавали его и здоровались, некоторые приглашали зайти. Он заглядывал ненадолго и потом опять шел улицей, в пыльных сапогах, бородатый, с котомкой за плечами.
Его приглашали многие, и на другой конец села, где мы жили, он пришел сильно пьяный и с песней.
Хлопцы, чьи вы будете?
Кто вас в бой ведет?
Кто под красным знаменем
Раненый идет?
Он шагал напряженным строевым шагом, из-под сапог брызгала струйками мучнистая серая пыль.
Голова обвязана,
Кровь на рукаве,
След кровавый стелется
По сырой траве.
Мы, ребятишки, бежали следом, стараясь топать в такт песне.
Мы – сыны батрацкие,
Мы – за новый мир…
Старик оборвал песню и остановился у колхозной кузницы.
– Все, – сказал он. – Пришел. – И опустился на груду черного угольного шлака.
После я узнал, что колхозная кузница, просторная, из крупных сосновых кряжей, в самом деле была его домом. Давно, правда, в тридцатом еще году, когда его сослали вместе с семьей в дальние края. В этом доме он и не жил почти, успел лишь построить, а баню даже не успел, бревна только привез, которые потом распилили на дрова для колхозного правления.
Он всегда мечтал о бане, в то время еще, когда батрачил с женой у помещика Митрохина. «Вот, – говорил он жене, – выпадет урожайный год, и тогда купим лошадь, избенку поправим, а на другой год поставим в огороде свою баню. Если денег на лес не хватит, я на косьбе подшибу малость. Накошу стожок сенца, продам, и будет у нас баня».
К нему подошла моя бабушка, поздоровалась приветливо:
– С приходом тебя, Кузьма Иваныч, с возвращеньицем!
– Спасибо, Настенька, – сказал он, и мы, ребятишки, окружившие их, переглянулись: бабку Настенькой зовет – как девчонку!
Бабка стала расспрашивать его о семье, и он отвечал, не поднимая головы:
– Никого, Настенька, один я.
– А дочери? У тебя ведь четыре дочери было!
– И дочери. От цинги.
– А Прасковья?
– И Прасковья…
– А сыновья-то, сыновья?
– И сыновья… Эти на войне…
Сыновей у него было трое, а всей семьи девять человек. Когда после революции земля стала общей и ее распределяли не по числу мужских душ, а по числу едоков, он получил много, причем как бывший батрак и красноармеец получил лучшие митрохинские земли. Даже лугов господских ему прирезали.
И за десять лет работы всей семьей он сладил крепкое хозяйство, имел три лошади и выездного жеребца, развел пять коров и больше двух десятков овец, дом выстроил новый, пятистенный и хотел поставить баню. Не такую, как у всех, с каменкой и дымной печью, а с трубой, чтобы топилась по-чистому и чтобы предбанник был теплый, с дощатым полом.
– В избу идем, чего сидеть-то, – пригласила его бабушка. – Мы ничего живем, картошка есть.
В избу он зашел, но ночевать не остался, выпил только стакан самогонки и закусил постной картошкой.
Ночевал он в теплой бане, которую днем топили соседи. Он лежал на полке, положив свою тощую котомку с разным инструментом под голову, и, уже совсем пьяный, пел протяжно:
В селе за-а ре-ко-ою по-тух-ли огни-и,
Все ста-арые-малые-е спать по-лег-ли…
Ранним утром мы побежали к бане проверить, жив ли старик – ведь его могли запарить черти, – и удивились, что он жив и здоров, сидит на пороге и обувает чистые сапоги. И сам он был умытый, чистый, лысая голова влажно блестела, в русой широкой бороде застряли прозрачные капли.
– Никаких чертей нет, ребятишки, – весело ответил он. – Это бабки вас пугают, а чертей нет, есть только злые глупые люди.
– А бог? – спросил я.
– Бо-ог?.. – Он удивленно прищурился, глядя на нас, подумал. Потом сказал серьезно: – Бог есть, ребятишки. Должен быть. Как же без бога, если на большого человека и то мы молимся?
– А сказки ты знаешь?
– Ну как же, обязательно знаю. Без сказки, как без молитвы, нельзя, трудно. Вот, к примеру, такая: «Жил-был Курыль-Мурыль…»
Тут подошла вдова тетка Секлетинья и пригласила его завтракать. Сказку он досказал потом, когда ремонтировал тетке Секлетинье печь, но меня при этом не было, были только Верка да Марфутка, ее дочери, обе на редкость бестолковые и забывчивые, они не запомнили.
До начала сенокоса старик ходил из дома в дом и выполнял разные заказы: чинил сапоги, шил тапочки из брезента, делал грабли и деревянные вилы – что попросят, то и делал. Его руки знали любую работу.
Вечером он покупал в магазине шкалик водки и разноцветных липких леденцов и шел ночевать в баню. Это время для нас, ребятишек, было самым счастливым. Мы окружали его, как цыплята клушу, сосали леденцы и весело сопровождали до бани, где Курыль-Мурыль – эту кличку он принял от нас охотно и отзывался на нее, как на имя, – выпьет свой шкалик и станет рассказывать нам сказки. Много сказок он знал: про умного царя и про Иванушку-дурачка, про злую старуху и доброго старика, про зверей разных – лису, медведя, зайца, волка…
Когда наступил сенокос, Курыль-Мурыль тоже пошел косить, но не в луга, где работали все колхозники, а на бросовые земли вокруг села. Почему на бросовые? Почему не вместе со всеми?
Я не знаю. Не успел узнать. В село приехал быстрый милиционер или военный, а вскоре наша семья покинула Хмелевку, чтобы есть досыта хлеб, на который в городе отменили карточки.
III
– Значит, служишь? – спросил Курыль-Мурыль.
– Заканчиваю, – сказал я. – Осенью домой.
– И в Хмелевке с тех пор не был?
– Не был. Лет пятнадцать уже.
В стороне, возле пушки, стояли солдаты, чтобы не мешать нашему разговору, а мы сидели на развалинах бани и курили.
– Не дотянул, значит, до генерала, – сказал он с усмешкой.
– Не дотянул. – Я уже успокоился за разговором и принимал иронию без обиды – виноват, что делать…
– Зычно ты кричишь, громко, я чуть не испугался. Председатель вот так же на меня кричал тогда. Хмелевский председатель. Серьезный он был у вас, глупый. Возьми, говорю, в луга, Христа ради, платы не надо, пусти только, разреши вместе со всеми, с народом! Не положено, говорит, ты ликвидирован как класс. А я ведь с тридцатого года не косил, истосковался…
– Ты любил косить.
– Любил. Ты – сказки, а я – косьбу. На тех лугах сейчас пароходы гудят – море, ровесники мои кто умер, кто уехал, молодых не знаю.
– Давно был?
– В Хмелевке? Да лет уж шесть тому или семь. Как свободно стало, так и поехал, не утерпел, дурак. Там и кладбище перенесли на другое место.
Он сидел сутулый, морщинистый, маленький, и я с болью почувствовал, как он невозвратимо стар и как, должно быть, устал среди чужой каменистой земли и равнодушных гор, глядящих в небо.
– Один живешь?
– Бабу взял, киргизку. Старая уж, ни бельмеса по-нашему не знала, сейчас балакает кой-как. Избу с ней сладили, баню вот поставили весной. Саман я в прошлом году сделал, а ставили недавно, весной…
– Через недельку приедем мы, ты не сердись. Увольнительные возьмем и приедем.
Он промолчал.
Со стороны деревни надвигалось урчанье тягача, оно быстро приближалось, нарастало, переходя в спокойный, сильный рев. Теперь уж не успеет рассказать сказку, не до нее, надо ждать увольнения. Взводный, наверное, объяснительный рапорт сейчас пишет, а комбат записку об аресте для нас приготовил. Суток по десять отсидим, с водителем, а потом попросимся к старику в увольнение.
Тягач шел по огороду междурядьями, но все равно задевал и приминал цветущие картофельные кусты. Я вскочил и погрозил водителю кулаком.
– Ладно, – сказал Курыль-Мурыль, – не лететь же ему. Вон какой он тяжелый…
Тягач развернулся, попятился, солдаты прицепили пушку, подстраховав прицеп, как было приказано, тросом. Вот еще обратно поедем, и пол-огорода будет испорчено.
– Я сообщу там насчет картошки, возместят, – сказал я.
– Ладно, – сказал Курыль-Мурыль.
– Недели через две мы приедем! – крикнул я уже из кабины тягача.
Курыль-Мурыль махнул рукой на прощанье. Он стоял у развалин бани среди потоптанной картошки и глядел нам вслед.
Через недельку мы не приехали (я сидел на гауптвахте), через две – тоже: после проступка надо было заслужить право на однодневное увольнение. А потом наша часть передислоцировалась далеко от тех мест, и повидаться нам со стариком не пришлось.
В штабе мне сказали, что пенсионер товарищ Редькин Кузьма Иванович получил денежную компенсацию за причиненный ему материальный ущерб в размере стоимости бани плюс стоимость урожая с ноль целых двух десятых гектара посевов картофеля по рыночным ценам.
«Густо мне заплатили, богато живете, – писал Курыль-Мурыль в ответ на мое письмо. – На эти деньги две бани можно поставить».
Я просил тогда же написать слова давней сказки и удивился, прочитав в конце письма всего несколько строк:
«Жил-был Курыль-Мурыль. Накосил стожок сенца, поставил посреди польца, пришла серая овца и съела весь стог сенца. Не сказать ли сказочку с конца?»
И все. Я перечитал их раз, другой, третий… Неужели большая красивая сказка моего детства умещалась в два десятка слов? Не могло этого быть, слишком уж коротко, просто!
Я написал новое письмо и через месяц получил ответ.
«Не коротко, – писал Курыль-Мурыль. – Как же коротко, когда всю жизнь так. Вот проживешь с мое и узнаешь, что не коротко, не просто…»
А в конце письма сообщал, что опять строит себе баню.
1968 г.
ВЕЛОКРОСС
– Почему шум в общественном сквере, почему толпа? Разойдись!
– Соревнование, разуй глаза-то.
– Прекратить шум!
– Чего прекратить, блюститель?! Неграмотный, что ли? Прочитай ему, Тимофеич!
– Погляди сюда, милый. Видишь объявленье? Ну вот, слушай: «В сквере райцентра состоится соревнование велосипедистов детсада номер один и детсада номер два. Езда наперегонки на трехколесных велосипедах. Победителям премии». Понял?
– Давай, чего там! Время ведем.
– Тише, товарищи!
– Чего тише! Не организовали, а теперь «тише».
– Успокойтесь, гражданочка, сейчас начнем.
– Чего успокойтесь, утешители! Почему Сережку моего в хвост поставили? Выезжай вперед, Сережа.
– Нельзя, стой!.. Он же крупней других, гражданочка, он нагонит. Стой на месте, мальчик.
– Выезжай вперед, не слушай.
– Это судью не слушать, да? Выставлю с соревнования!
– Я говорил, взрослые хуже детей.
– Напрасно, по себе судите.
– Товарищи родители, отойдите, сейчас начинаем. Судья, расставляй пары.
– Уже расставил, вот последняя… Значит, так, ребятишки: на поворотах не обгонять – упадете, только на прямой. Ехать всем сразу, не толкаться. Поняли?
– Не маленькие.
– А где обгонять?
– На прямой, только на прямой. Финиш у фонтана. Финиш – это значит конец, стой. Ехать друг за дружкой, гуськом.
– А не тесно тут будет, милок? То-то что тесно. На простор надо, на площадь.
– Нельзя, товарищи, там движение, машины.
– Какие машины – остановить! Милиция на что. Старшина, товарищ старшина, давай на площадь!
– Не имею права. Соблюдайте порядок, граждане.
– Порядок, порядок… Как попугай.
– Не волнуйтесь, товарищи, начинаем. Аллочка, подъезжай к Сереже.
– Не по правилам! Почему Аллу с мальчиком? Должна быть женская команда.
– Какая она женщина, господи! Городит чепуху, а еще в шляпе.
– При чем тут шляпа, гражданка?
– А при том! Напьются с утра и мешают людям.
– Позвольте, я непьющий вовсе!
– Тем хуже. Трезвый, а несете околесицу…
– Не околесицу, уважаемая, а правил требую.
– Какие правила, это же дети!
– Вот и приучайте с детства к порядку. А то вырастет такой, как вы, тогда…
– Да замолчите вы, наконец! Ну, кто умней – замолчите!..
– Оба замолчали!
– Судья, давай старт, не тяни.
– Внимание, ребятишки! Как я свистну, сразу нажимайте на педали и – пошел… Одну секундочку. Куда же я его дел, вот досада! Товарищ старшина, дайте свисток на время.
– Не могу, я при исполнении должности.
– Какая должность, дай на минутку!
– Нельзя. Сейчас свисток, потом жезл, а потом и пистолет потребуете. Знаю я эти соревнования!..
– Да свистни сам разок, чего там.
– Не положено.
– А ты свистни, милок, свистни, уважь. Люди просють, и надо их ублаготворить. Свистни…
– Не положено, я не судья.
– Дурак ты, извини за нескромность.
– Что-о? Оскорблять? Публично?! Да я ттебя!..
– Эй, критикан, тут не собрание, заткнись!
– Внимание, ребятишки. Как закричу: «А-а-а!» – сразу трогайтесь. Поняли?
– Поняли?
– Мы не маленькие.
– Вот скупердяй, свистка жалко.
– Свистнуть ему в ухо, будет знать.
– Свистнешь… на пятнадцать суток.
– А-а-а!
– Ну вот, началось светопреставленье.
– Граждане, стоять на месте, ку-уда бросились!.. Да вы с ума сошли, граждане!..
– Милые, тише, ребятишек подавим! Отставайте малость…
– «Отставайте», а сам вперед… Пенсионер тоже!
– Стой, наряд вызову! Куда вы, гражданка, ку-уда!
– Ай, ай, на ногу наступил!
– Сережка, разбойник, не отставай!!
– Чаще ножками, Эдик, чаще, внучок! Так его, так, милый, обходи!
– Старик, не забегай вперед, куда выскочил!
– Аллочка, доченька, новую куклу куплю…
– Тимофеич, не забегай, слышишь!.. Свинья же ты, Тимофеич, а не сусед…
– Вот чешет девчонка!
– Эдинька… внучек… задохнулся я… рупь на мороженое…
– Гражданка, не топчите газоны!
– Отстал он, отстал у вас…
– Сергей, парршивец, уши наррву!
– Ни-иночка-а!..
– Коля! Ж-жми-и-и!
– Сережа! У-у, негодник!
– Ох, батюшки, передняя упала… Слава богу! Жми, Эдик, обходи ее!
– Аллочка, доченька, беги пешком, к ленточке беги!
– Не по правилам!
– Старик! Тимофеич! Ах, сивый черт, ты ногу подставлять!..
– Граждане, прекратить, в отделение сведу!.. Гражданка, вы ему бороду выдерете, вы что! Ах ты, ху-хулиганка! Сейчас же в отделение!..
– Я пенсионер, я старик-ик!..
– Старик? Пенсионер? А кто впереди моего Сережки бежал, кто мне ногу подставил?!
– Финиш! Молодец, Эдик, молодец, Алла, – оба враз пришли!
– Эй, ты, в шляпе, радуйся своей козе, первая пришла!
– Позвольте, это оскорбление, вы не смеете в таком тоне!
– В таком тоне! Впереди всех бежал, а теперь тон ему не нравится – скажите!
– В отделение, гражданка, сейчас же в отделение! А вы, гражданин, будьте свидетелем. И вы. И вы тоже. И вы…
– Что такое?
– Оскорбление действием. Эта гражданка дергала гражданина за бороду.
– Я не виновата. Он сам Сережке моему мешал, а Эдика своего подталкивал.
– Пенсионеры, они резвые нынче, бойкие…
– Пройдемте в отделение, граждане, не задерживайтесь. И вы, гражданин в шляпе.
– Я ничего. Я – зачем? Я не участвовал в инциденте.
– Гляди-ка, правда интеллигент, прослойка.
– Там разберемся.
– Позвольте, я с работы, у меня нет времени.
– Все с работы.
– Сообщим и на работу, не беспокойтесь.
– Вот приварят суток пять, узнаешь.
– Если бы моя жена…
– Твоя жена? Теленок! Да будь я твоя жена, я бы тебя… У-у!..
– Десять суток ей мало.
– А вот у меня соседка, Сильвой звать, вот она да-а… Тигрица!
– А-абъявляю-у результаты! Внимание!
– Пятнадцать ей, ведьме! Мужа, наверно, замучила, муж хоть отдохнет.
– Пер-р-р-вое место заняла команда детсада номер один. В личном первенстве высокие результаты показали Аллочка Пешкина и Эдик Баранов.
– Аллочка, доченька, идем в магазин за куклой!
– Эдинька, внучек, забирают меня, в милицию забирают, скажи маме…
– Значит, Пешкин ваша фамилия? Зафиксируем. А вы, значит, гражданин Баранов?
– То-то и беда, что Баранов. Семен Тимофеич. А виновата она, тут вон сколько свидетелей. Зовут – Гапкина, Ксенья Гапкина.
– Очень хорошо. Прошу в отделение. И вы, гражданин. И вы…
– А-а-абъявляется-а новый заезд! Команды, приготов-виться к выходу на старт!
1964 г.
РАССКАЗЧИК И ЕГО РАССКАЗЫ
(Послесловие автора)
Тридцать лет назад в газете «Защитник Родины» появился мой первый рассказ «Дружба», посланный на литературный конкурс этой газеты. Непривычно и странно было видеть напечатанными собственные слова и подпись внизу «Младший сержант Ан. Жуков» – совсем недавно эти слова были написаны карандашом на четвертушках почтовой бумаги, и вот, напечатанные типографским способом, словно бы отделились и стали будто чужие.
Жюри отметило рассказ второй премией, я очень удивился – так легко? с первой попытки? – и больше не отвлекался от службы. Тогда я только что сдал экзамены за восьмой класс и в оставшиеся до увольнения в запас два года рассчитывал завершить среднее образование. В моей родной деревне не было средней школы, нужда же в грамотных работниках ощущалась большая, а уехать после армии в город не возникало и мысли: я любил землю, заволжскую свою степь, совхоз, где жили родные, товарищи и друзья. Там прошло детство, там я с двенадцати лет, как все подростки военного времени, стал приучаться к самой разной работе: возчиком на лошадях и волах, плугарем на тракторе, копнильщиком и штурвальным на комбайне… Все крестьянские работы узнал.
С дальнейшей учебой тогда не получилось – полк передислоцировался в другое место, где учиться не было возможности, – мечтал я больше не о писательстве, а о путешествиях и этот свой первый рассказ считал случайным и слабым. Я с детства тянулся к книгам, а здесь, в армии, перечитав собрание сочинений любимого А. П. Чехова, уже мог сравнивать.
Наконец, срок службы окончился, я легко распрощался со своей батереей и укатил домой, в Ульяновскую область – там ждала меня большая семья. Отец погиб на фронте в 1945 году, и среди пятерых детей я был старшим.
После войны не прошло еще и десяти лет, наш совхоз только-только оправился от разрухи, я опять с головой ушел в хозяйственные заботы, досадовал, что крестьянские наши дела у нас подвигаются медленно, и стал писать заметки в местные газеты, очерки о земляках, изредка рассказы. Их охотно печатали, за конкурсный рассказ газета «Ульяновская правда» однажды присудила премию. Потом, года три спустя, меня вызвали в обком партии и предложили работу в одной из районных газет. Заодно-де и школу закончишь. Куда это годится – почти готовый газетчик, коммунист, и без аттестата зрелости, позор!
В районной редакции мне дали старый военный мотоцикл М-72 и назначили заведовать сельхозотделом: ты из потомственных крестьян, сельские дела знаешь не понаслышке, – пиши. Район у нас земледельческий, первая и третья страницы газеты – твои.
Земля здесь была иная, приволжская, богатая. После сухой заволжской степи – великая Волга и громадное водохранилище, хвойные и смешанные леса, непривычные рыбацкие деревни, крупные, по 500—800 дворов села. День ездишь, день пишешь. Конечно, пишешь не дневник путешествий, поездки всегда были строго деловыми, целенаправленными, но при некотором воображении их можно считать и как путешествия. Скажем, по родному краю.
Три с лишним года ездил я, пересаживаясь с мотоцикла в моторную лодку, с лодки в автомашину, с автомашины на лошадь. Случалось, конечно, и пешком. Дороги тогда были неважные. А ночами учил уроки, писал рассказы. Не мог не писать. Слишком много оставалось жизненной энергии, много впечатлений от постоянных поездок и встреч с людьми, слишком много вопросов вставало тогда перед нами. После XX съезда партии сельское хозяйство решительно перестраивалось, первые шаги научно-технической революции воспринимались с большим энтузиазмом и воодушевлением, хотя и тогда уже слышались голоса о неизбежных экологических трудностях. Много было вопросов. И, чтобы найти какие-то ответы, я от учебников и книг садился за писание рассказов. В молодости сутки длинные, можно много успеть. В 1960 году я издал в Ульяновске первую книжечку рассказов, а в заочной школе получил аттестат зрелости.
Потом будут Литературный институт, поездки по стране от молодежного журнала, редакторская работа в издательстве… И между делом – опять рассказы. Буду писать я и повести и даже романы, но любимым жанром останется рассказ. Самый мобильный, самый емкий, самый гибкий жанр.
О чем же они, мои рассказы?
Сразу не ответишь.
Если проще, то, вероятно, о том, что видел и хорошо знаю, что подсказано жизненной практикой, проверено личным опытом. Вот же и в сборнике этом есть чисто автобиографические рассказы «Черная и белая», «Му-2», «Песни о любви», где сохранены не только подлинные события, но и собственные имена действующих лиц. В рассказах «Последняя шутка Гуляева», «Жил-был Курыль-Мурыль», «Корни», «Удочка из Европы» такой строгой «документальности» нет, но и в них автор и рассказчик объединены отнюдь не формально, события тоже не выдуманы, хотя и происходили с самыми разными людьми. В рассказах «Надежда», «Английская трубка», «Лунный свет», «Мужлан», «Расскажи мне сказку» все компоненты исходного художественного материала тоже взяты из жизни, но реорганизованы и сплавлены воедино в соответствии с идейно-художественными задачами, а действующие лица и здесь не имели прямых прототипов. Я не писал плугаря Васяню из рассказа «Надежда» с себя, хотя примерно в том же возрасте сидел на тракторных плугах, но я учитывал собственные впечатления тех лет, видел работу и слышал рассказы о ней десятков вдов и подростков, своих товарищей.
Но если так, если перед тобой большой выбор человеческих судеб и реальных событий, которые ты уверенно знаешь, зачем еще что-то выдумывать, перекомпоновывать, смещать во времени и проч. – зачем? Или реальная жизнь и люди беднее твоей выдумки и домысла?
Ну бог с ней, с мечтой стать путешественником и узнать весь мир – детская мечта, наивная, но ты мог остаться в родном совхозе трактористом или бухгалтером, мог работать газетчиком, журналистом, мог освоить какую-то другую профессию, не имеющую отношения к художественной литературе, потому что ведь ты – интеллигент в первом поколении, отец имел три класса, мать так и осталась неграмотной… Эти и подобные вопросы вставали передо мной не раз, особенно когда приходилось туго, когда жизнь, казалось, зашла в тупик. Для литератора это, в общем, частое дело. И вот невольно возвращаешься к исходной позиции, оглядываешься, напряженно всматриваешься в окружающую жизнь, мучительно думаешь и… начинаешь писать новый рассказ. Или повесть. Или даже роман. Смотря по тому, на каких, по масштабу, вопросах «застопорилась» твоя жизнь.
Они могли не иметь к тебе прямого отношения, эти вопросы, – гражданская война, например, коллективизация в деревне, когда тебя еще не было, или война с фашизмом, которую ты встретил десятилетним, – но все равно ты должен пенять эти великие события, найти искомый ответ-оценку, хотя бы и ответ и оценка их давно были даны жизнью. Так родились повести «Под колесами», «Одни», роман «Дом для внука», многие рассказы. Но самым поразительным оказывается то, что писать ты садишься только тогда, когда тебе что-то неясно, когда ты чего-то не понимаешь в тех или иных событиях, людях или в жизни. А когда все понятно, писать не станешь, даже мысли не возникнет, а станешь – из тщеславия или по другой какой грешной причине, – выйдет искусственно, назидательно, плохо.
Однако из этого вовсе не следует, что знание изображаемого предмета, человека или события мешает их художественному воссозданию, а незнание – стимулирует творчество. Конечно, нет. Творчество опирается на хорошие знания, имеет всегда свои истоки и постоянно подпитывается новыми впечатлениями, новыми знаниями. Это я понял еще в армии, а окончательно утвердился в этом мнении в районной газете, с болью почувствовав, как не хватает мне общей и литературной культуры, систематического образования. И, продолжая с десятилетиями наверстывать упущенное, зная свои творческие возможности, область интересов своих героев, можно ли сказать, что вопросов стало меньше?
Нет, вопросов стало больше, много больше. Оказывается, писатель напрямую подключен к меняющейся жизни, он – самая активная ее частица, и у тебя столько вопросов, что пиши хоть вечность – не исчерпаешь. Иначе и невозможно – ведь художественное творчество, оказывается, это не просто способ мышления, способ изучения действительности, а еще и способ активного воздействия на нее.
Вот почему потребность писать приходит тогда, когда перед тобой встает серьезный жизненный вопрос, касающийся не только тебя одного, а многих: социальная значимость, социальная необходимость – одна из важнейших основ любого творчества.
И вот теперь-то, чтобы исследовать, чтобы понять трудную проблему или сложный вопрос, ты собираешься со всеми силами, мобилизуешь все свои знания, все свое умение, весь свой опыт, интуицию, воображение и, подходя к этой проблеме (вопросу) с разных сторон, начинаешь искать пути воссоздания не самой проблемы, нет, – жизненной ситуации, в которой эта проблема проявилась бы с возможно большей полнотой и открытостью. Напряжение при этом испытываешь такое, что в твоем творческом сознании происходит расплав реалий действительности и из этой расплавленной массы наблюдений, впечатлений, предметов, звуков, красок, запахов, лиц и т. д. формируется нечто новое – иная художественная действительность, организованная в соответствии с твоим творческим замыслом. Если научно, то в данном случае ты занимаешься художественным моделированием действительности с целью выявления определенной жизненной проблемы.
Моделирование как метод в науке получило особенно большое распространение в последние десятилетия, в литературе же это изначальный, основной метод со времен Гомера и раньше. Только в науке такие сложные построения формируют своими средствами, исходя из конкретной, с заданными параметрами, задачи-идеи, мы же обычно идем от живого образа, который шире, емче идеи, потому что не имеет такой жесткости, конечности в своем развитии, его можно совершенствовать почти безгранично, он может породить другой образ, он способен к воспроизведению себе подобных, к воспроизведению всей жизни. Образное мышление и рождает художественную модель. И если эта модель действует, если ты увидел проблему, показал ее читателю и вместе с ним ищешь решение, считай, рассказ (повесть, роман) удался.
Но много ли можно показать на такой художественной модели, как рассказ? Много, очень много. Чехов умел столько, что некоторые его рассказы – хрестоматийный «Ионыч», например, – по художественной емкости можно сравнить с романами. В мировой литературе нет другого такого художника, который бы по великому разнообразию созданных им человеческих характеров, жизненных коллизий, психологических ситуаций, бытовых реалий, лаконизму литературного письма мог сравниться с Чеховым. Он создал новый жанр короткого рассказа, способного дать не просто индивидуальный человеческий характер, но социальный характер, даже тип – «Унтер Пришибеев», например, «Душечка», «Хамелеон», «Человек в футляре» и др. В современной литературе я не знаю рассказчика, о котором можно бы сказать – вот последователь Чехова. Невольно думаешь, что созданный им жанр короткого рассказа был выверен и отлажен им самим до такого совершенства, что оказался уже исчерпанным. Во всяком случае известные наши рассказчики идут другим путем, пишут свои рассказы как повести – тот же примерно объем, подробная, порой ненужная детализация, навязчивый психологизм…
И все же уроки Чехова не забыты, они продолжают оказывать благотворное влияние и на развитие современной литературы, но жизнь стремительно меняется во всем мире, и у нас в особенности. Главным в этих изменениях стал основной объект литературы – человек, его социальная роль. Впрочем, она и прежде менялась, но не так стремительно, не так кардинально, как у нас после Октябрьской революции.








