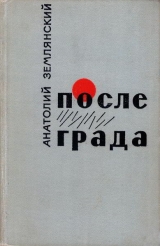
Текст книги "После града"
Автор книги: Анатолий Землянский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Рассветный горн

«Москва – Ленину»

Начав передавать очередную депешу, телеграфист Царицынского военного телеграфа, до щуплости худой, с покрасневшими глазами красноармеец, от удивления даже снял пальцы с ключа. Что такое? Позавчера он передал в Москву точно такую же телеграмму, а сейчас – на вот тебе: опять о том же. И опять краткий, из двух слов адрес: «Москва, Ленину».
Только вчера под телеграммой стояла подпись, кажется, милиционера. Да, да, вспомнил телеграфист, подпись гласила: «Сотрудник милиции Усачев». А сейчас… Он наклонился и прочитал: «Красноармеец Минин».
«Можно подумать, – досадливо качнул головой телеграфист, – что у Ленина и дел других нет, кроме этой контры. Как ее… Серафимы, что ли. Небось опять ходатайствуют. Ну да – вот, пожалуйста…»
Телеграфист взялся за ключ, по белой, медленно ползущей ленте бежали точки и тире: «Арестована семнадцатилетняя служащая Царицынского жилищного отдела. Она изорвала ваш портрет. Просим вмешательства и разрешения освободить арестованную».
Телеграфист неодобрительно покачал головой, отложил в сторону переданный текст, взял новый…
Опять потекла лента с тонкой прерывистой линией посредине. Теперь тире и точки таили в себе пугающие и безрадостные вести о положении в городе. Голод усиливается… Тиф… Не хватает обмундирования и оружия, особенно боеприпасов… На исходе топливо… Вышли из строя паровозы…
Мелко, в механической дрожи бьется под пальцами телеграфный ключ. Царицын докладывает Москве. Докладывая, просит, требует, умоляет. Пошлите… крайне необходимо… Иначе захлебнется начатое наступление…
Царицын пока не знает, что раньше этой поступили в Москву еще более тревожные депеши.
С Запада: Польша, кажется, вторгнется в Литву и Белоруссию.
С Восточного фронта: перешел в наступление Колчак. Оставлена Уфа.
С Юга: Деникин захватил Луганск и часть Донбасса (это означало: страна лишилась угольной базы).
Из Прибалтики: Юденич готовится к наступлению.
С Севера: увеличивается угроза со стороны белогвардейского генерала Мпллера…
Бесконечный поток писем, телеграмм, донесений. Все они невидимо сходятся, концентрируются в Кремле. У Ленина. Каждая в отдельности – сигнал о бедствии. Все, взятые вместе, – судьба революции.
И вот среди них: «Просим вмешательства и разрешения освободить арестованную».
А через день – снова. О том же.
Первая, напечатанная на машинке с ленты депеша легла на стол Ленина шестого марта. Владимир Ильич только что вернулся с заключительного заседания Первого конгресса Коминтерна. Взволнованный и оживленный, он прошел в свой кабинет, не садясь, взялся за телефонную трубку. Начал разговаривать.
Неслышно вошла молодая, скромно одетая, с аккуратно прибранными волосами женщина – секретарь. Положила стопку листков, ушла, бесшумно закрыла за собой дверь.
Ленин говорил спокойно, временами слегка откашливаясь:
– Поймите, дорогой товарищ, это очень важно. Да, да. Законность и еще раз законность… Кому же ее в первую очередь блюсти, как не нам с вами?.. Именно. Проверьте. Сами проверьте.
Разговаривая, Ленин брал из принесенной секретарем стопки бумаг листки, бегло прочитывал, откладывал в сторону. И вдруг голос его стал как бы жестче, морщинки скатились со лба к переносью. Он еще раз пробежал глазами только что взятую из стопки бумажку, но не отложил в сторону, а, помахивая ею в воздухе, стал говорить горячо и быстро:
– Вот, полюбуйтесь. Еще один примерчик того, до какого головотяпства могут доходить некоторые товарищи… Нет, вы послушайте. Телеграмма из Царицына. Арестовали человека. Как бы вы думали – за что? За то, что он – вернее, она – порвала портрет Ленина. Чудовищно! Просто невероятно.
Ленин с расстановкой произнес последнее слово, и его обычно мягкое, вибрирующее «р» прозвучало явственнее и круче, – как всегда, когда Владимир Ильич был разгневан.
– Не-ве-ро-ятно, – с усилием повторил Ленин. – А вы говорите… Что? Поняли? Ну наконец-то. До свидания.
Он положил трубку и тут же вызвал секретаря.
Когда она вошла в кабинет, Владимир Ильич торопливо писал что-то в блокноте. Прямо перед ним, прислоненная к конторке, стояла телеграмма из Царицына, подписанная милиционером Усачевым.
Вырвав исписанный листок, Ленин встал, протянул его вошедшей:
– Отправьте это, пожалуйста, немедленно. Сегодня же. Телеграфом.
Выйдя, секретарь прочитала две короткие строки, адресованные губпсполкому и ЧК в Царицыне:
Семнадцати лет девушка арестована будто бы за мой портрет, сообщите, в чем дело.
Председатель Совнаркома Ленин
В тот же день телеграмма была принята Царицыном…
Портрет Владимира Ильича давно уже был кем-то вырезан из газеты и приклеен размоченным хлебным мякишем к стене в одной из комнат жилотдела. Никто не мог сказать, кем это было сделано. Да никто и не думал об этом – ни степенный, в пенсне, вечно с теплым стареньким шарфом на шее заведующий, которого все звали коротко – Пал Кузьмич; ни высокая, еще моложавая, но угрюмая и неразговорчивая Наталья Федосеевна – делопроизводитель; ни тем более Сима, секретарь, неровная по характеру смуглая девушка, совсем недавно пришедшая в отдел.
Портрет был приклеен на стене между столами Павла Кузьмича и Натальи Федосеевны – на самом видном месте. А стол Серафимы стоял как раз напротив – у противоположной стены. Едва она отрывала взгляд от бумаг, как тут же встречалась глазами с мягким, обрамленным морщинками прищуром и едва заметной улыбкой, которая будто говорила ей что-то хорошее и обнадеживающее.
И сколько Сима ни разглядывала такое уже знакомое ей лицо, все не могла найти в нем того, о чем, переходя почему-то всегда на полушепот, неодобрительно и отчужденно говорил дома отец.
Они жили все время при закрытых дверях и ставнях. Отец, с тех пор как перестал спускаться вниз, в свой магазин (там уже нечем было торговать), почти не отлучался из дому. Правда, теперь чаще, чем раньше, стали приходить в дом какие-то незнакомые Симе люди. Отец иногда подолгу просиживал с ними в своей комнате, а иногда они уходили тут же, едва обмолвившись с отцом несколькими словами. И если то, что они говорили, было приятно отцу, он веселел. Тогда повторялось одно и то же. К ее, Симиному, возвращению он выходил, прислонялся, разбиваемый кашлем, к дверному косяку, закуривал и, затуманенный едким коричневатым дымом, спрашивал:
– Ну, как там большевички? Перемен никаких не слыхать?
– Ничего не слыхать.
Отец начинал сердиться, ругал власти. Сима давно знала, что отец ждет каких-то перемен, но не знала, каких именно. Перед ней вставало улыбавшееся с портрета лицо Ленина, и она никак не могла понять, как это о Ленине, о человеке с таким мягким и открытым лицом, можно сказать что-либо плохое. А он ведь главный большевик…
Однажды Сима возразила отцу:
– А у нас все так любят Ленина. Пал Кузьмич говорит…
– И твой Пал Кузьмич большевик, – сердито перебил ее отец. Он с силой оттолкнулся от косяка, ушел, хлопнув дверью.
Мать в разговор не вступала, а только, закусив нижнюю губу и скрестив на груди руки, поддакивала отцу. Сима растерянно молчала, а утром спешила уйти из дому.
Теперь все сильней пригревало солнце, неприбранные, заснеженные улицы почернели, из подворотен и на покатостях пробивались первые ручейки. Все это скрадывало царившие в городе угрюмость и запустение, они уже не были теперь такими пугающими.
Сима часами бродила по улицам. Думала. Думала о том, что говорил отец с матерью и чем жили ее сослуживцы. И еще она думала об этом чудном парне, простом красноармейце, фамилия которого, кажется, Минин. Последнее время он почему-то зачастил в жилотдел. Худощавый, с белым непослушным чубом под лихо заломленной буденовкой, он, войдя, обращался обычно к Павлу Кузьмичу, а смотрел больше на нее, Симу.
А вчера он провожал ее домой. Откуда-то появился, едва она вышла из жилотдела, спросил разрешения пройти вместе.
«Вот и он за большевиков, – продолжала размышлять Сима. – Такой тихий, застенчивый и добрый».
В тот день Минин опять пришел проводить ее (их полк стоял неподалеку от жилищного отдела). Пройдя рядом несколько шагов, он вдруг ни с того ни с сего сказал:
– Скоро мы выступаем.
– Куда же это? – не успев осмыслить вопроса, механически спросила Сима.
– На фронт. Куда же еще?
– На фронт? – переспросила она и, сама не зная почему, остановилась.
Он взял ее руку, сжал в широких шершавых ладонях, а что сказать, не нашелся, молчал. Она тихо высвободила руку, молча пошла вдоль потемневшего забора к дому. Остановившись у калитки, обернулась, помахала ему рукой.
Потом отчужденно и жестко лязгнула металлическая защелка калитки.
А рано утром милиция арестовала отца Симы.
Когда постучали в дверь, Сима уже не спала. С удивлением и страхом следила она за обыском, переводила взгляд на мать, сидевшую со скрещенными на груди руками в углу, на отца, возле которого стоял красноармеец с винтовкой, на участкового милиционера Усачева, руководившего обыском. Его она знала, считала хорошим человеком. И вот…
Отца увели, и только тогда мать заговорила. Бесшумно передвигаясь по опустевшим комнатам, ломая руки и плача, она повторяла:
– Все пропало теперь, дочка, все пропало. Убьют его большевики. Не вернуться ему больше…
И тогда Сима бросилась догонять отца. Без пальто, простоволосая, она подскочила к озадаченному конвойному, схватила его за рукав шинели, закричала:
– Куда вы уводите моего отца? Не смейте его трогать. Что он вам сделал?
Чьи-то руки взяли ее за плечи, настойчиво отвели в сторону. Она с силой вырвалась, вновь побежала. Но отца уже вводили в какую-то дверь, возле которой стоял часовой. Он преградил ей путь, решительно сказав:
– Нельзя, барышня.
Остальное Сима плохо помнит: как побежала от тюрьмы в жилотдел, как на глазах у всех сорвала со стены портрет…
Нет, она хорошо помнит еще лица Павла Кузьмича и Натальи Федосеевны. Сима никогда не видела их такими. Обычно тихий и добрый, Пал Кузьмич, словно ударенный плетью, вскочил со стула, на который всегда клал несколько пухлых папок. Папки с грохотом полетели на пол, но он не стал их поднимать, а подбежал к ней. И вдруг начал заикаться. Пенсне его слетело и болталось на шнурке, глаза, ставшие неожиданно совсем маленькими и будто чуть косыми, смотрели с несвойственной им злостью.
– Сима, вы… Э… это форменное хулиганство и… и… Он судорожно ловил рукой, но никак не мог поймать пенсне и от этого еще больше заикался.
За Павлом Кузьмичом, потемневшая от гнева, стояла Наталья Федосеевна. Она слово в слово повторяла его слова и свирепо сверлила Симу взглядом…
Потом пришли двое в кожаных тужурках и увели ее.
Назавтра в Москву пошла телеграмма. Начальник участка милиции Усачев не был согласен с арестом Серафимы, но не смог убедить в этом других и решил обратиться к Ленину.
Через день, узнав о случившемся, телеграфировал в Москву красноармеец Минин.
Эта просьба тоже не осталась без ответа. В тот же день в Царицыне расшифровали ленту. Слово за словом ложились на бумагу:
За изуродование портрета карать нельзя. Освободите арестованную немедленно, а если она контрреволюционерка, то следите за ней.
Предсовнаркома Ленин.
А для секретаря (этот текст остался в Москве) ленинской рукой было написано:
«Напомните мне, когда придет ответ… (а материал весь потом отдать фельетонистам)».
Вечером, едва приободрившуюся после недавних вьюг и стыни оттепельную Москву окутало сумерками, Ленин выехал из Кремля на очередное выступление перед рабочими. Рядом с ним сидел в машине Дзержинский. Неосвещенные улицы были пустынны и угрюмы. Лишь кое-где эту угрюмость рассеивали редкие огни в окнах да такие же редкие прохожие. Только если попадался где строй идущих красноармейцев, все, казалось, на минуту оживало и становился слышим мерцающий пульс столичного города. Стихали шаги – снова воцарялась на улицах, во дворах, над домами – всюду зловещая напряженность военного времени. Кудлатились и расплывались, заволакивая небо, тучи. Они будто спешили заслонить собой и те небольшие прогалины, сквозь которые днем время от времени проглядывало солнце.
Ленин вдруг заговорил с Дзержинским о царицынских телеграммах. Закончив рассказывать, добавил:
– Нет, Феликс Эдмундович, когда речь идет о живом человеке, мы, большевики, обязаны считать это первостепенным делом. Да, обязаны. Не-пре-менно. И особенно, когда дело касается законности, соблюдения справедливости. Потому что революция, если хотите, является сама выражением самой высокой справедливости. Да, да. Именно так.
Автомобиль, пофыркивая, катил булыжниковой мостовой. Огни уже почти совсем не попадались – началась окраинная рабочая слобода.
…После выступления рабочие тесным кольцом обступили Ленина, десятки усталых, глубоко запавших, но повеселевших от этой встречи глаз устремлены на Ильича, влюбленно прикованы к его живому и пытливому лицу.
И, беседуя с ними, Ленин как бы продолжал разговор с Дзержинским:
– Мы делаем, товарищи, революцию для всех. А это значит – для каждого… Революция не только борьба за власть, это борьба за отдельного живого человека, привлечение его на свою сторону.
Живое, плотное кольцо, образовавшееся вокруг Ленина, медленно движется по заводскому двору – к темнеющему невдалеке автомобилю.
Кажется, люди, приподняв, несут Владимира Ильича. Или нет, это он – движущая сила. Это он как бы несет всю эту массу безраздельно верящих в пего людей.
Симу освободили в день получения из Москвы второй телеграммы. Сам председатель ЧК вызвал ее, усадил напротив себя за столом, с минуту разглядывал осунувшееся и потемневшее лицо девушки, потом сказал:
– По личному распоряжению товарища Ленина вы освобождаетесь из-под ареста. С этой минуты вы свободны. Вот пропуск.
Сима медленно подняла глаза, и было видно, что она или не все поняла, или не поверила в услышанное.
– По распоряжению Ленина? – тихо и удивленно переспросила она, вставая.
– Не верите? Вот прочтите. – Председатель протянул ой телеграмму.
– А откуда же он узнал? – Широко открытые глаза ее удивленно смотрели то на председателя, то на телеграмму.
– О вас ходатайствовали участковый милиционер Усачев и красноармеец Минин. Это – ответ на их телеграммы.
– Усачев? – не поверила Сима.
– Да. А что?
– Он же арестовал моего отца.
– Вот видите! Отца арестовал, а за дочь ходатайствует. Выходит, он поступает по совести.
Сима взяла протянутую ей бумажку, стала читать. Глаза ее раскрывались все шире, и председателю показалось, что зрачки у нее стали вдруг темнеть – в них будто уменьшалась и таяла какая-то мутноватая волна.
Сима несколько раз прочитала телеграмму, потом бережно положила ее на стол, взяла пропуск и медленно направилась к двери. Уже приоткрыв ее, нерешительно спросила:
– А можно узнать, за что арестовали моего отца?
– Можно, – ответил предчрезвычкома. – Он вышел из-за стола, приблизился к Симе, пытливо и мягко заглянул ей в глаза. – Ваш отец арестован за спекуляцию. Это очень большое зло. Вы должны понять. Подумайте только: разруха, голод, фронт без хлеба… Спекуляция сейчас страшнее шпионажа. Вы должны это понять, – повторил он и, подумав, вдруг предложил: – Пойдемте-ка со мной.
Они прошли длинным, давно не знавшим ремонта коридором, в конце которого была обитая войлоком дверь. Открыв ее, предчрезвычкома ввел Симу в большую комнату. Вдоль ее стен, на скамейках и прямо на полу сидели и лежали оборванные, исхудалые и грязные дети. Симу поразила стоявшая в комнате тишина. Дети молчали. И она вдруг поняла, почему они молчат: дети просто были обессилены голодом.
Председатель тем временем говорил, обращаясь к детям:
– Еще полчаса терпения, ребятки, и будет обед.
Симе он сказал, когда они вышли:
– Вот что делает голод. – Потом, помолчав: – Вы в госпитале не были?
– Нет.
– Съездите, посмотрите. Раненые от недоедания умирают.
На лестничной площадке, откуда Сима должна была спуститься к выходу, он протянул ей руку, еще раз посоветовал:
– Подумайте обо всем этом, Сима.
Она, потупившись, подавленно и виновато кивнула. На улице ее ждал Минин. Он побежал ей навстречу, взволнованно повторял:
– Ну наконец-то, наконец…
Буденовка еле держалась у него на макушке, из-под нависшего на самые брови чуба светились серые улыбающиеся глаза. Они, как показалось Симе, еще больше запали, и еще больше выступили под ними скулы, обтянутые загрубевшей от ветра кожей.
«Какой же он худой, – подумала Сима и вдруг вспомнила: «Разруха, голод, фронт без хлеба… Вы должны понять…»
Она виновато опустила глаза и, взяв Минина под руку, тихо прижалась к нему, спросила:
– Когда вы выступаете?
– Завтра в полдень.
«Значит, я еще успею», – прикинула она что-то в уме, но вслух не сказала.
Назавтра Сима сама пришла к председателю ЧК. Вошла, поздоровалась, сбивчиво заговорила:
– У меня… вы извините, пожалуйста… просьба к вам… Если можно… Переслать Ленину…
– Что переслать? – удивился председатель.
В руках у Симы была какая-то небольшая книга. Сима положила ее на стол, раскрыла, и председатель увидел вложенный между страницами портрет Ленина.
– Я склеила его… очень хорошо склеила, – волнуясь, продолжала Сима. – Перешлите его, пожалуйста… чтобы Ленин увидел…
В уголках ее глаз стояли слезы.
Председатель взглянул на портрет и удивился, с какой аккуратностью листок был склеен и разглажен. Он перевел взгляд на девушку и понял, что она всю ночь не спала, склеивала портрет.
– Хорошо, – согласился предчрезвычкома. – Мы постараемся выполнить вашу просьбу.
Когда Сима вышла, он, не садясь, долго о чем-то думал. На лежавшем перед ним ленинском портрете мирно покоился снопик солнечных лучей, сквозь которые отчетливее виднелись следы помятостей и надрывов. Они чем-то были похожи на зарубцевавшиеся раны.
…В полдень Сима вместе с Мининым ушла из города.
На фронт.
Горсть ягод

Над Туросенкой, извилистой и проворной речушкой, утонувшей в краснотале, медленно ткутся летние закаты. Невидимый челнок наснует над лесом вороха багряной пряжи, и в путаную мякоть ее погружается солнце.
Там, где ивовая сорочка в прорехах, Туросенка кокетливо играет струями, краснея от закатных лучей.
У мостика, что подводит Гулевский шлях к самому Заречному бору, краснотала не густо, и по вечерам оголенная заводь бывает как из бурачного рассола: солнечный луч почти плашмя стелется по ней. Вода красно и тепло отсвечивает, зовет к себе.
И люди, помню, не заставляли ее звать долго. Возвращаясь после работы с колхозного поля, они с разгона бросались в незамутненную глубь: мужчины с одной стороны моста, женщины – с другой. Над речкой повисал веселый гам и девичий визг…
Скоро вода начинала темнеть. Темнела она оттого, что солнце вдруг скатывалось за лес и на заводь наползала мягкая тень от его верхушек. Так близко была наша речушка к лесу.
Мы, жители двух деревушек, оседлавших взгорья по обе стороны Туросенки, больше помнили ее именно вечерней. И если доводилось уезжать из родных мест, увозили с собой в памяти и закатный багрянец речного замостья.
Я тоже всю войну помнил его. И сколько бы ни рассказывал сослуживцам или случайным попутчикам в дальних дорогах, как заметают нашу округу зимы, как щедро украшается она весноцветом и пропитывается медовыми запахами, всегда «на закуску» оставлял описание вечерней Туросенки.
Но с первого послевоенного года я вижу нашу речную заводь окрашенной совсем в другие тона.
Я вернулся домой летом, в знойную сенокосную пору, к самым густым и терпким закатам.
От разъезда, на котором меня почти вытолкнула из вагона тягостная летняя духота, я пошел не железнодорожной насыпью, как хаживало большинство селян, а полем и лесом. Хотелось надышаться бронзовым дымом пшеницы, настоем хвои и опьяненно ступить на тропку, выводящую к моему Заречью. С той тропки открывается взгляду неширокая, вся в мягкой ивовой отделке пойма Туросенки. Я знал, что уже от моста увижу свой дом, рябину перед его окнами, услышу отдаленные голоса, которые будут для меня знакомы и незнакомы.
Поле кончилось, я вошел в лес. И он вдруг гулко и раздирающе опрокинулся на меня. Опрокинулся, казалось, только вершинами – оттуда, сверху, почудилось мне, хлынул в чащу хрипловатый гром, от которого вздрогнула земля. И вздрогнули многолетние сосны, испуганно обронив на землю щепотки отживших рыжих иголок.
…Мальчик не знал, что разводил костер на снарядной яме. Пламя разгорелось быстро и в считанные минуты съело все запасы сухих сосновых веток и березовой коры, которые были принесены с опушки. И тогда он побежал к старому полусгнившему пню, чтоб наотдирать от него гнилушек. Они сначала дымят, заодно подсыхая, а потом ярко и красиво горят.
Он упал на каком-то десятом, может быть, пятнадцатом шагу. Взрывная волна швырнула его в траву. И упал он уже без руки. И еще было на нем до десятка ран, больших и малых. Я видел, как несли его в старомодную и обшарпанную легковушку, к счастью подвернувшуюся на шляху. Машина подняла за собой пыль и в ней растворилась. И мне подумалось, что рыжее наддорожное облако навсегда поглотило мальчика с именем Николай, которого в Заречье все звали Колюхой.
Но Колюха выжил. Мы встретились с ним через год, когда я вместе с десятилетней девочкой Ирой, дочкой моих московских знакомых, приехал на Туросенку в очередной отпуск. И эта встреча осталась во мне как крохотная страничка, вместившая в себя человеческую трагедию и человеческую красоту.
Непоседливая и отчаянная Ирочка быстро сделалась атаманшей и некоронованной королевой самых необычных мальчишечьих турниров. К ее ногам незримо складывались лавры труднейших побед. Счет им в первый же день открыли Серега Шилкин и Васятка Зыков, шумливые и шустрые сорвиголовы, оба курносые, нестриженые и будто косой срезанные по росту.
Только эти двое из всех собравшихся на первый «турнир» сумели перебраться по самым верхушкам с одной из стоявших рядом лип на вторую. Спустились они вниз по-беличьи виртуозно, ловко перекидываясь с ветки па ветку. Спрыгнув на землю, каждый торжествующе глянул на Ирочку.
И она вдруг поняла, что это было сделано для нее. Широко раскрытые светлые глазенки ее на мгновение радостно вспыхнули, но тут же холодно сузились, ощетинясь горделивым прищуром. Неподдельный восторг, с которым она только что следила за смельчаками, спрятался под деланной невозмутимостью и равнодушием.
Но это не спасло от посрамления тех, кто спасовал. Для «публики» победители оставались победителями, хотя королева и пыталась казаться невозмутимой.
И может быть, поэтому сейчас все смотрели на нее. Смотрели девочки. Не пряча досады, смотрели побежденные. Смотрели заметно обескураженные победители. И, стоя немного поодаль, в стороне от всех, с откровенной грустью смотрел на Ирочку Колюха. В негустых подпаленных ресницах его лучились карие глаза. Он был в трусах и светлой клетчатой тенниске. Правый рукав ее пусто свисал с худенького плеча. Левую руку он держал у рта и, не отводя взгляда от Иры, грыз ноготь.
Лицо Колюхи выражало грусть и беспомощность. Я узнал позднее, что до прошлогодней беды он был в Заречье озорным заводилой и смельчаком. Он предводительствовал в огородных и садовых набегах, знал рачьи схоронки во всех речных заводях, был «свой» в лесу и на колхозной пасеке, куда ходил не столько за медом, сколько из-за медогонки, которую тяжело, но интересно раскручивать до появления в ней мягкого шепелявого свиста.
А теперь Колюха стоял сиротски притихший, худощавый, не совсем еще выздоровевший. Но в нем все протестовало, не хотело смириться с бездеятельностью. Глядя на играющих ребят, он в нетерпении переходил с места на место, тоненько вскрикивал, поводил плечами.
Закинув голову, Колюха вместе со всеми следил за Васяткой и Серегой, но в глазах его, как мне показалось, была не зависть, не смущение, а смертная тоска по привычному делу. Он ведь первым, еще в позапрошлом году, проложил эту «воздушную трассу».
Королева не выдержала взгляда всей толпы и растерянно заморгала. А в следующую минуту глаза ее встретились с Колюхиными. И ей захотелось немедля, сейчас же восстановить справедливость, дать почувствовать Колюхе и всем остальным, что он не слабее и не хуже других.
– Ребята, айда на речку! – крикнула Ирочка. И побежала первая. Вся ватага кинулась за ней. Только Колюха не побежал. Сначала он сделал несколько шагов вслед за всеми, но потом, точно вспомнив о чем-то, остановился.
Ира, бежавшая впереди, оглянулась и тут же прыгнула в сторону, пропуская всех мимо себя.
– Бегите, я сейчас.
Она вернулась, подбежала к Колюхе:
– Ты что же, не хочешь вместе со всеми?
Колюха слабо улыбнулся, и глаза его еще больше погрустнели. Он с неосмысленным удивлением смотрел на Ирочку, на ее цветастый сарафанчик, на торчавшие из-за ушей бантики. Она была совсем другая, не такая, как сельские девочки. И это, казалось, заворожило его. Он молчал.
Ира протянула ему руку:
– Побежали.
Колюха отрицательно качнул головой, но руку взял. Он словно хотел удержать Ирочку от ее затеи, грозившей ему новым испытанием. Она же подумала, что он просто стесняется, и настаивала:
– Ну, Колюха…
Что оставалось делать Колюхе? Не признаваться же этой красивой городской девочке, что ему не хочется еще раз оказаться в ее глазах слабее и беспомощнее всех. Тем более что она вот уже тянет его за руку, и глаза ее приветливы и теплы.
– Ну, побежали же! – настаивала Ира. И он покорился.
Лишь на берегу, когда Васятка и Серега, оттолкнувшись от ольховых пней, прыгнули в воду и начали соревноваться в плавании, Ирочка поняла свою ошибку. Уже все мальчишки были в воде и плыли к противоположному берегу, а она, растерянная и смущенная, все держала руку Колюхи в своей. Он был один среди девочек, которые возбужденно кричали, подбадривая вырвавшихся вперед пловцов и совсем не замечали Колюхи, его грустного взгляда, пустого коротенького рукава тенниски, бледности лица.
Ирочка рассердилась. И еще ей было стыдно перед Колюхой за свою опрометчивость, за то, что второй раз – и теперь к тому же из-за нее – он оказывается в таком трудном положении.
А пловцы, достигнув противоположного берега, уже плыли назад. Васятка первым ухватился за розоватую ивовую стеблину, нависавшую над водой, и легко выпрыгнул на берег. Он тяжело дышал, но был ликующе рад и снова с гордостью посмотрел па Ирочку.
Не желавший сдаваться Серега кричал:
– Давай, Васятка, еще. Мне коряга помешала. Васятка усмехнулся:
– Куда тебе со мной! Вон разве с Колюхой попробуешь… С одноруким…
Это было уже слишком. Ирочка побледнела от обиды и досады. Отпустив руку Колюхи, она подбежала к Васятке, вызывающе, с расстановкой сказала:
– Если ты герой – обгони меня.
Она ловко сбросила сарафанчик и, оставшись в одних трусиках, подбежала к берегу:
– Ну что же ты? Ах, устал! Ладно, я подожду. Васятку подзадоривали:
– Что, слабо?
– Девочки испугался.
– Пусть передохнет малость…
– И ничего не слабо, – загорячился Васятка. – Пожалуйста, прыгаем.
Ирочка второй приплыла к тому берегу, а на обратном пути легко обогнала Васятку и, ухватившись за ту же самую стеблину, поднялась на берег.
Но торжествовать она не стала. Схватив сарафанчик, убежала за куст одеться. Потом медленно пошла вверх по тропке – домой.
Назавтра соперничество переместилось в лес. Только здесь оно стало вдруг совсем иным. Девочки, пошептавшись, рассыпались незаметно среди кустов, и вскоре Ирочкины бантики смешались с обрамившими ее голову колокольчиками. Пышный голубой венок сделал девочку и впрямь похожей на увенчанную короной королеву. Такой, по крайней мере, она показалась Колюхе: он смотрел на Иру широко раскрытыми, полными удивления глазами.
И, будто испугавшись того, что в эту минуту переполняло его, он незаметно шагнул от галдевших девочек за стоявшую рядом сосну, оттуда к ореховому кусту и скоро растаял в зарослях. Но через минуту он вернулся и принес Ире насмерть перепуганного сероватого птенца овсянки.
– Ты из гнезда взял? – нахмурилась Ира.
– Нет, что ты. Он же, видишь, уже на вылете. Смотри…
Колюха легонько подбросил птенца над ладонью, и тот, судорожно заработав крылышками, полетел вдоль просеки, медленно снижаясь. К нему тотчас бросилась из кустов взрослая овсянка.
– Сейчас будет уводить, – прошептал Колюха.
– Пусть, – сказала Ира. – Не будем мешать ей. Мать все-таки. Лучше что-нибудь другое придумаем.
– Хочешь увидеть чудо строительной техники? – спросил Колюха.
– Что еще за чудо?
– А вот пойдем…
Они вышли на круглую, отороченную молодыми березками поляну и остановились у глубокого давнего следа, оставленного колесом телеги. След порос травой, местами совсем пропадал под ней. Колюха наклонился, пригласив взглядом Ирочку, осторожно раздвинул траву.
– Видишь?
– Ничего не вижу.
– Ну вот же, смотри. Это муравьиный мост.
Через колею действительно был проложен мост. Две, видно, вдавленные колесом, а потом полураспрямившиеся травинки послужили для муравьев остовом мостика через нежданно появившуюся преграду. Травинки были облеплены чем-то похожим на известняк и склеились вдоль. Получился удобный плоский «переезд», на котором вполне можно разминуться даже с грузом. Колюха давал пояснения:
– Конечно, муравьи могли бы и через колею ползать. Но времени им жалко. И потом – не очень удобно, если ползешь с добычей. А по мостику – раз – и тут. Гляди-ка.
Он показал на появившегося у края мостика большого синеватого муравья, который тащил впереди себя что-то большое и тяжелое. Приподнявшись на задних лапках, муравей легко взобрался на мостик и деловито, по-рабочему продолжал путь.
– Видишь? – Колюха ликовал. Он понял по лицу Ирочки, что его открытие понравилось ей.
Дети все глубже уходили в чащу. Лес был по-утреннему мягок и влажен. Солнце успело высушить росу лишь на просеках и полянах, а в зарослях, под молодой рябиной и бледнолистыми ветками «волчьего глаза» она еще держалась – здесь царила замшело-прелая сырость.
Уже были обследованы два дупла старого дуба над Чистым ручьем, несколько опустевших, но, кажется, еще хранивших птичье тепло гнезд, сорваны молодые, похожие на ананас, сосновые шишки, до которых опять же первыми добрались Серега и Васятка. А Колюха вдруг снова незаметно исчез. И все, увлекшись, забыли о нем. А вспомнили лишь в ту минуту, когда он сам внезапно появился на тропке впереди. Он шел медленно, слегка вытянув перед собой свою единственную руку.
Так он и подошел к Ирочке. И все увидели в его руке крупные, одна к одной, ягоды земляники. Маленькая горсть его была полна ими с верхом, они сочно и влажно рдели, возвышаясь над кончиками полурастопыренных Колюхиных пальцев.
– Это тебе, – сказал Колюха, протягивая ягоды Ире.
– Ой, что ты, Колюха, зачем? – хотела отказаться Ирочка, но вдруг что-то произошло в ней, она пристально, чуть сощурясь, посмотрела на смущенного Колюху и подставила ему обе ладошки.








