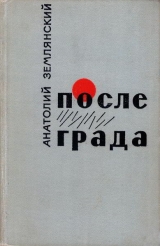
Текст книги "После града"
Автор книги: Анатолий Землянский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Растрелянная

1
Не хватало на фронте стрельбы, так раздались еще эти три выстрела.
И как ни странно, они тоже были частью войны.
Правда, когда они прозвучали, никто не упал. И следы от них в виде ран не были унесены в Германию.
Следы остались небольшими зияющими пробоинами в фотографии.
И еще в нашей памяти. В памяти стрелявших. Сначала они были там вспышкой ненависти, затем сознанием свершившегося возмездия, а потом – сожалением. Острым и необратимым сожалением, оправданием для которого могла служить только горячность молодости. Да еще, может быть, та обстановка, в которой мы находились: фронт!
Но сожаление пришло позднее. А фотографию мы знали давно. С самого начала этой истории. Даже раньше.
И сейчас вот она опять передо мной. Ее мы с Емельяном Гурьяниным попеременно берем друг у друга из рук и подолгу молча рассматриваем.
Я знаю: пробоина в правой глянцево-пухленькой девичьей щеке – моя. Вторую, ниже улыбающихся и тоже немного пухлых губ, сделал стрелявший из трофейного парабеллума замкомбат Шалаев. Третья – она и по счету была последней – осталась от пули Васи Звездина, нашего комбата. Его выстрел не тронул лица, и маленькое круглое отверстие поселилось в светлом взбитом локоне над левым ухом.
По странной случайности ни одна из наших пуль не тронула Марининых глаз. Когда мы сняли фотографию с дерева, к которому прикрепляли ее, глаза Марины по-прежнему широко и ясно смотрели на нас, только теперь рядом с пробоинами казались испуганными и удивленными.
А может, это и не было случайностью – что пули обошли именно глаза. Все мы трое считались неплохими стрелками, и при желании каждый из нас мог послать пулю в любую точку фотографии. И вот: на фотографии все три пробоины, а глаза – два светлых родничка, наполненных веселым лукавством и лаской, – целы.
Сейчас, через столько лет, глаза Марины смотрели с фотографии так же, как и тогда, во фронтовых землянках. Они были такие же светлые, такие же по-детски живые и приветливые. Но испуг, мне сдается, так и не покинул их. Только когда фотографию брал в руки Емельян и я видел изображение с обратной стороны просвеченным (Емельян сидел у окна), все становилось на свое место: пробоины переставали казаться зловещими, а с лица Марины исчезало удивление.
Мне тяжело вспоминать об этом, но мысли сами лезут в голову. А потом – как не вспомнить былое, если ты через много лет встретился с другом, с которым тебя это былое связывало воедино почти тысячу дней и ночей.
Подсчет этот сделал Емельян. Он так и начал свое письмо, полученное мною неделю назад.
«Почти тыщу дней и ночей провели мы вместе, – писал он, – а теперь вот семь с лишним тысяч дней и ночей не виделись. В пересчете на меньшие цифры это означает всего двадцать лет. Ты уж извини меня за эту бухгалтерию, но к чему, как не к числам, может прибегнуть для убедительности забытый всеми учитель математики!..
Нет, правда, – переходил он с шутливого тона на увещевательный, одновременно раскидывая и приманки. – Бруснички наши, если хочешь знать, – кусочек земли обетованной. Воздух такой, что все астмы и склерозы падают замертво. А вдобавок сады… Если ты не увидишь наших садов, то знай, что у тебя никогда не будет точных представлений о русской антоновке. И еще озеро. А в нем коротенькие толстоспинные линьки. Мы с Котькой (это мой сын) за одну зорьку дюжины по три их выкидываем…»
А кончалось письмо Емельяна грустным, грустным мужским вздохом, сквозь который уловил я какую-то невысказанную тревогу, касавшуюся скорее всего Марины.
«…Да и Марину ты не видел, – как бы вскользь, но совсем не случайно говорилось в письме. – А надо бы увидеться вам. Очень надо. И не тяни. Как друга прошу. Приезжай…»
Этот скупой, но искренний вздох властно позвал меня в дорогу. Я почувствовал, что не могу не поехать. Не имею права. Вина перед Мариной все время жила во мне и не давала покоя. И в Звездине тоже.
Нет, она не просто жила в нас. С годами, по мере того как мы взрослели и набирались жизненного опыта, понимание нелепости давнего поступка становилось острей и осознаннее. Встречаясь со Звездиным, израненным и больным теперь, мы часто вспоминали об этом. В переписке же с Емельяном старались не теребить старые раны…
Но это его письмо… Оно было последней каплей в чаше. Переполненный тревогой и волнением, я тотчас же собрался в дорогу.
И вот мы сидим с Емельяном у его письменного стола, стоящего в простенке между окнами. Окна настежь распахнуты, и мне хорошо видны застывшие под ними ярко-красные и желтые дымки георгина, а чуть дальше, в уголке палисадника, – ажурно выстрелившие в небо оранжевые «петушки».
Карточка Марины уже по нескольку раз перешла у нас из рук в руки. Мы забирали ее друг у друга молча. Тот, к которому безмолвно протягивалась рука, так же безмолвно отдавал фотографию и, снова дожидаясь своей очереди, задумчиво смотрел в одну точку… Наверное, это был бессловесный внутренний разговор. Мне кажется, что мы каким-то чудом угадывали и завершение фраз, которых не произносили, и те моменты, когда можно было опять протягивать руку за фотографией.
Когда карточку брал я, Емельян начинал говорить. А когда она оказывалась в руках у него, вспоминал я. И с непривычной и невыразимой тревогой посматривал на дверь: в нее вот-вот должна была войти Марина. Котька уже давно побежал на колхозную ферму позвать ее.
2
Марина… Сейчас должна прийти Марина, та самая, которой мы тогда любовались в землянке и в фотографию которой потом стреляли.
…Нас было в землянке четверо: Звездин, Шалаев, Гурьянин, командовавший «сорокапятками», и я, адъютант старший, а если точнее, то просто начальник штаба батальона. По шутливому выражению Емельяна, мы, вместе взятые, не составляли даже одного столетия, а не то чтобы эпоху или эру. Уже тогда все переводивший на числа и цифры, Гурьянин деланно убитым голосом сокрушался:
– Ну и ну! Явленьице… Четырех лет недостает до совершеннолетия. Всем гамузом только на девяносто шесть годков вытянули. Мужчины!
Но мужчины все же были мужчинами. Нам была уже знакома живая и неистребимая тоска по женщинам, тоска нерастраченная, порой запрятанная в игривую шутку, но в сути своей неизменно искренняя и чистая. Движимые ею, тянулись наши руки к заветным нагрудным карманам и вытаскивали оттуда фотографии любимых.
Правда, у Звездина такой фотографии не было. И мы точно знали, что он еще не влюблен. Как знали и о безответной любви к нему одной из наших батальонных медсестер Жени Жеймонис, веселой, мягкой, но слишком неровной по характеру латышки.
Каждый раз, когда мы надолго зарывались в землю и начинали, как говорил Звездин, оседлую жизнь, на столе, наскоро сбитом из грубых досок, появлялась девичья фотография. Это делалось по неписанному правилу: все карточки размещались рядом, одна к другой, но только оборотными сторонами кверху, и Звездин, отвернувшись, называл «правую», «левую» или «среднюю».
Так мы выбирали «хозяйку землянки». Избраннице отводилось самое видное место. Чаще всего карточка прислонялась к стопке книг, которые как-то незаметно, но неотвратимо появлялись в землянке, или к поставленной на попа обойме с патронами.
В тот раз выбор Звездина впервые пал на Марину. До этого у нас попеременно хозяйничали фотографии, принадлежавшие Шалаеву и мне. Емельяну все не везло. А тут Звездин, не раздумывая, сказал «правая», и над нашим неказистым столом вспыхнуло облачко пышной прически, по-утреннему подсвеченное мягкой улыбкой глаз и губ.
Было в этой коллективной выдумке что-то мальчишеское и даже чуть озорное, но вскоре шутка стала такой потребностью для всех нас, что в томительные и нудные дни затяжной обороны мы уже не могли обходиться без «хозяйки». Об этом знали во всем батальоне, даже в полку. И тоже привыкли. Только Женя Жеймонис каждый раз по-иному и не без затаенной ревности встречала нашу избранницу. Заходя к нам под всяческими предлогами (чаще всего явно и неумело придуманными, лишь бы увидеть Звездина), она, взглянув на фотографию, говорила:
– Ах-ха, коронация состоялась. Разрешите поздравить победителя?
Победителем она считала того, из чьего кармана фотография переселялась на стол.
Она подходила к «победителю», протягивала свою очень маленькую, розоватую и всегда теплую руку. Но пальчиков ее на обхват наших широких ладоней не хватало, и всегда получалось так, что не она «победителю», а «победитель» ей пожимал руку.
Впервые увидев фотографию Марины, Женя ничего не сказала, лишь долго и задумчиво разглядывала ее. Потом, внезапно повеселев, она с задорной игривостью спросила у Звездина:
– Товарищ майор, а когда же наступит очередь вашей невесты?
Звездин попытался отшутиться:
– Моя звезда еще не взошла.
– А может, вы просто не видите ее?
Под пристальным и напористым взглядом Жени он немного растерялся и поспешил переменить разговор. Но она не сдавалась, подзадоривала:
– Звезды ведь порой приходится открывать. Как новый остров или страну.
Глаза ее вспыхнули лукавством, и мы знали, что началась очередная атака на сердечную неприступность Звездина. Поняв, что уже все давно догадались о ее чувстве, Женя стала прятать его под мнимо беспечной игривостью тона, не понимая по наивности, что еще больше разоблачает себя. Ее выдавали и искорки в подвижных серых глазах, и румянец, вдруг выступавший на острых скулах, и улыбка. Улыбка, в которой была она вся, вся – бедовая, эксцентричная и, видно, измученная звездинским невниманием Женя Жеймонис.
Влюбленность ее нравилась нам и поднимала Женю в наших глазах. Самое же главное заключалось в том, что с первого дня своего появления в батальоне она оставалась вне всяких «темных» подозрений. А жадных мужских глаз металось по ней каждый день великое множество. Если бы эти взгляды оставляли после себя следы хотя бы в виде тончайших линий, то невысокой и гибкой Жениной фигуры уже давно не было бы видно за ними. Она утонула бы в них, как в клубке паутины.
Но ни взгляды, ни заигрывания, ни даже ухаживания «с нажимом» начальника медслужбы полка, ее прямого начальника, – ничто не приносило кому-либо победных лавров. Все это осыпалось с нее, как ломкая дорожная пыль, которую незримо и совсем не по своей воле топтал один-единственный Вася Звездин.
Но он топтал эту пыль равнодушно, не заносясь. И не унижая все разгоравшегося чувства Жени. Скорее, он был не рад ему и тяготился сложностью создавшегося положения. Но сказать Жене все напрямик не решался. Каждый приход ее становился для него маленькой пыткой: он краснел, невпопад отшучивался и, найдя предлог, торопливо уходил из землянки.
А мы – Гурьянин, Шалаев и я – были всегда рады приходу Жени. Радовались мы, наверное, потому, что Женя как бы заполняла собой ту пустоту, из-за которой нам все время было как-то неловко перед Звездиным.
Пустотой этой была его невлюбленность…
Нет, мы никогда не сказали об этом друг другу. Возможно, и сами себе мы не давали в том полного отчета, но, видя Женю, перехватывая ее взгляды, улыбки, адресованные только Звездину, только ему одному, мы успокаивались: его тоже любят.
А о Жене, о ее боли, спрятанной под игривостью, мы не думали. Мы были рады Жене и считали, что уже одним этим сполна платим ей за ее чувства к нашему другу. Спрятавшийся где-то в нас живучий и безжалостный мужской эгоизм видел пока только это. Лишь позднее силой трагического случая в нас была надорвана его завеса, и мы увидели большее. И уже совсем по-другому думали о Жене, внезапно ощутив и ее невысказанную боль, и тоску неразделенного чувства, и многозначительность ее улыбок, взглядов, игривой отрешенности от правды, всего, всего, внезапно ушедшего в прошлое.
Но это случилось позднее. А пока… Пока было длительное затишье над передовой, была на столе фотография Марины, были все мы, наша взаимная привязанность, Женина безответная любовь, весенний прибой солнца за окном землянки, с которым вяло и будто нехотя спорили редкие выстрелы.
Марине недолго довелось красоваться на столе, заслоняя собой до блеска вычищенную обойму. На второй или на третий день нашей оседлой жизни в землянке зазуммерил телефон и было передано приказание: Гурьянина – в штаб полка. Он вернулся оттуда быстро и сразу стал собираться в дорогу, радостно прокричав:
– Братцы, усильте бдительность, утройте зоркость: Емельян Гурьянин покидает ваши ряды.
Радость не вмещалась в нем, она струями выплескивалась из глаз, делала чуть неестественным и сдавленным голос. И мы поняли, что он не шутит.
Звездин, не скрывая досады, сказал:
– Улепетывает и радуется.
Мы с Шалаевым поддакнули.
Емельян повернул к нам сияющее лицо и почти продекламировал:
– Явленьице, други. Десять суток в кармане у вашего покорного слуги. Двести сорок часов нежданного отпуска… то бишь командировки. Доблестный тыл лично вручит герою фронта капитану Гурьянину новенькие пушечки.
– Так бы и сказал, – облегченно вздохнул Звездин. – В какие края?
– Урал, братцы, Урал требует меня, – по-прежнему нараспев отвечал Емельян, продолжая немудреные сборы. Закрыв неведомо откуда появившийся старенький чемоданишко, раздобытый, кажется, старшиной батареи, и снарядив полевую сумку, Емельян подошел к столу, взял фотографию. – Хозяйка, други мои, поедет со мной. Уж не взыщите.
Он взял фотографию, и стол мгновенно преобразился, будто что-то светившееся на нем внезапно потухло. Начищенная обойма, к которой была прислонена карточка, блестела теперь, как в полумраке, хотя в землянке было еще светло.
На наших глазах фотография Марины любовно одевалась в свои бумажные одежды, потом в целлофановый футлярчик и, наконец, спряталась в нагрудный карман.
Мы молча наблюдали за медленными движениями тонких и длинных Емельяновых пальцев, за его счастливым лицом. Мы знали, чем он теперь живет, и не хотели вспугивать в нем его тайную надежду.
А надеялся он, конечно же, на встречу с Мариной.
Нет, Бруснички лежали далеко не на пути к Уралу. И «крюк» до них был бы совсем немаленьким. Но кто же все-таки, получив командировку в тыл, не затаил бы про себя обжигающую, пьяную радость возможной встречи! И мы чувствовали, что она уже поселилась в Емельяне и что теперь он будет экономить для этой призрачной надежды не только дни и часы, а минуты и даже секунды.
И он торопился.
А мы не сводили с него глаз.
Звездин сидел за столом, облокотившись на него и запустив пальцы рук в свои длинные льняные пряди. Он следил за каждым движением Емельяна, и было видно, что подавлен так нежданно нагрянувшей разлукой.
Но Звездин был и откровенно рад за друга. И радость эта выливалась в коротких дружеских шутках-напутствиях. Гурьянин знал уже, в каких местах и при каком сигнале светофора безопасно переходить городские улицы, где надежнее хранить деньги и документы, как ступать на эскалатор метро, чтобы не спотыкаться и не порочить тем самым достоинство фронтовика. После каждого совета Звездин спрашивал:
– Уяснил, Меля?
Емельян с самым серьезным видом отвечал:
– Уяснил, Вася. Так и буду делать.
– Вопросов нет?
– Нет, Вася. Все понятно.
– Молодец. Да, вот еще что: не разглядывай манекены в витринах. Некультурно.
– Хорошо, хорошо.
– Каждый день ешь горячее.
– Будет выполнено, Вася…
Мы с Шалаевым не могли удержаться от смеха, а они были подчеркнуто серьезны и сосредоточенны. Только глаза их, черные – Емельяна и голубые, под бесцветными бровями – Звездина, не переставали лучиться искренним и живым теплом дружбы.
Из их рассказов мы знали, что они знакомы с самых первых дней войны. Отступая из-под Бреста, совсем еще молоденький пехотный лейтенант Звездин натолкнулся при переправе через небольшую речушку Ясельду на горстку артиллеристов. Собственно, была уже это и не горстка. У единственной, сохранившей вид оружия «сорокапятки» (остальные были покорежены до неузнаваемости) сидели четверо красноармейцев. Через минуту к ним подошел младший лейтенант. Он шел от реки, где, видимо, умывался, потому что все еще держал в руке мокрый носовой платок.
Звездин знал, насколько были измучены он и его красноармейцы, но, глянув на артиллеристов, сразу перестал думать о себе. Это были смертельно уставшие люди, с осунувшимися лицами и по-голодному запавшими глазами. У двоих белели на перевязи забинтованные руки, сам младший лейтенант был ранен в голову. Над виском сквозь запыленный бинт проступало свежее бурое пятно; и без того смуглое лицо его казалось под белой повязкой совсем черным.
– Младший лейтенант Гурьянин, – представился командир артиллеристов. И Звездин, называя себя, протянул ему руку не столько уже по привычке или в силу этикета, сколько из внезапно родившегося в нем чувства уважения. Мельком глянув за речку и увидев там несколько подбитых танков, Звездин понял, что перед ним дело рук этих вот полуживых молчаливых людей.
– К броду рвались? – спросил Звездин, показав глазами в сторону подбитых танков.
Младший лейтенант кивнул. Он вообще больше разговаривал кивками, и Звездин понял, что это тоже от усталости.
– А вы-то… вы-то откуда? – вдруг спросил младший лейтенант, недоверчиво пройдясь взглядом и по нему, Звездину, и по его людям, успевшим уже присесть и закурить.
– То есть как – откуда?
– Вы из-за речки?
– Ну да.
– Так там же немцы.
Звездин только пожал плечами и, холодея, стал вдруг догадываться, что, в сущности, он только что вышел из окружения. Вышел благодаря тому, что вот эти люди, эти пятеро «сорокапятчиков», задержали здесь и вынудили отступить фашистские танки.
Лишь намного позднее узнал он, что побывал в те дни в так называемом «слоеном пироге» – бои шли сразу на нескольких рубежах не только вдоль, а и по глубине фронта. Подойди он к Ясельде на час-полтора раньше – перед ним оказались бы не пятеро советских артиллеристов, а тыл прорывавшейся к речке немецкой танковой колонны.
– Повезло вам, – сказал после минутного молчания Гурьянин. – Но мне кажется, они опять полезут.
И они полезли.
Не успели звездинцы выложить из вещевых мешков все, что там еще оставалось, чтобы угостить артиллеристов, как за речкой снова послышался гул. Он быстро нарастал. Из-за двух дальних высоток показались бронированные башни танков.
– Выкатывай напрямую, – сказал своим красноармейцам младший лейтенант. – А вы отходите, товарищ лейтенант, – обратился он к Звездину. – Только не идите поймой, заболочено. Держитесь лощины, вон на ту рощицу. А там…
Перехватив злой взгляд Звездина, он осекся и виновато пожал плечами.
– Ну как знаете, – примирительно сказал он. – Только это же танки. – И взгляд его красноречиво скользнул по стоявшим в пирамиде винтовкам. – Вот разве «максимчик» свое слово скажет.
«Максимчик»… С тех пор они только так и называли станковый пулемет. Вспоминали ли о той первой встрече или просто приходилось к слову – «максим» неизменно оставался «максимчиком». Потому, видно, что тогда, у Ясельды, он сказал не менее весомое слово, чем пушка.
Звездин сам не знает, как это пришло ему в голову, но он сразу подумал о возможном проникновении фашистов в тыл совсем открытой и, в сущности, незащищенной артиллерийской позиции. Так оно и получилось. И вот тут-то пригодился «максимчик».
Умолк он только после того, как два из четырех прорывавшихся к броду танка снова скрылись за высотками. Два танка остались уже почти у самой воды. Один из них еще отстреливался беспорядочными и явно неприцельными выстрелами. Он был так близко, что отчетливо виднелся черно-белый крест на башне, блестевшие в закатном солнце траки, даже закопченный срез орудийного ствола, из которого время от времени еще вырывалось пламя.
Младший лейтенант Гурьянин с минуту смотрел на подбитый, но огрызавшийся танк, потом перевел взгляд на снарядный ящик, где оставался один-единственный снаряд, снова глянул на танк и вдруг взял из ящика снаряд. Прицел давно уже был разбит, и Гурьянин стал наводить орудие через ствол. Чтобы навести тщательнее, он вместе с оставшимся в живых заряжающим перенес тела двух убитых своих товарищей от пушки в сторону, на разостланные за бруствером шинели.
Гурьянин целился долго, – видно, ему ни за что не хотелось израсходовать последний снаряд впустую. Когда прозвучал выстрел, Звездин отчетливо увидел взрыв, окутавший огнем и башню и ствол только что стрелявшего орудия на фашистском танке. После этого он уже больше не огрызался.
Гурьянин, присев на станину, долго смотрел куда-то за речку, туда, где садилось солнце. Оно опускалось к земле между двумя лесными опушками, почти касаясь их боками, и было похоже на огромный красный мяч, вмонтированный в живые опоры.
Рядом со своим командиром в такой же задумчивой позе сидел заряжающий – широкоплечий, уже немолодой мужчина, с крупным в кости, но исхудавшим лицом и безжизненно неподвижными глазами.
Над речкой и за ней, над полем, было тихо и тенисто. Отблески на траках подбитого танка сгасли, но вершинки высоток еще были в лучах. Потом потемнели и они, на смену теням по земле крался мрак.
Наверное, мрак и пробудил от задумчивости Гурьянина. Он встал, огляделся и подошел к убитым, рядом с которыми теперь лежали и двое звездинских. И долго стоял над ними, безмолвный и окаменевший.
Похоронили убитых, зарыли в лощине, на полпути от Ясельды до живописной осиновой рощи, орудийный замок и четверо суток выходили лесами из окружения. Потому что, как выяснилось, и оборона на Ясельде была уже внутри «слоеного пирога». А сам этот «пирог» находился… в тылу у немцев.
Выйдя, они прибились к первому встретившемуся им полку, где как раз нужны были пехотные и артиллерийские офицеры. Это и был наш полк.
Мы помнили по рассказам Гурьянина и Звездина все до тонкостей в их давнем и таком невеселом знакомстве. Только тонкости эти были усвоены нами не сразу, а собирались постепенно, по крупицам. Один раз они по какому-либо случаю вспоминали холмы близ Ясельды и ее пойму, второй раз – закат и горевшие в его лучах траки подбитого фашистского танка, в третий – убитых, артиллеристов и пехотинцев – рядом. Так нередко случалось и в нашем полку, как и вообще на фронте… Со слов Звездина мы знали, что Емельян уже тогда любил, удивляясь, говорить «явленьице» и «други мои», а все самое существенное переводил в цифры. Гурьянин в свою очередь по черточкам восстанавливал в себе и рисовал перед нами (не специально, а от случая к случаю) «тогдашнего Васю», по-спокойному смелого и нехлопотливого пехотного лейтенанта, который не терялся в любой обстановке.
«…А помнишь, когда убило осколками сразу двух твоих пулеметчиков и ты в один прыжок оказался за «максимчиком»?…»
«…Солнце… Никогда не забуду висевшего между двумя дальними опушками солнца…»
И начинались воспоминания. Оба скоро забывали о себе и говорили о солдатах. О погибших особенно.
«Был у меня первый номер. Из-под Харькова, кажется. Закривидорога – фамилия. Ляжет к «максимчику», ухватит узластыми пальцами рукоятку – и считай, что их уже не расцепишь. То есть пулемет и пулеметчика…»
«У меня такой же наводчик был. Семиглазов. Ну прямо артиллеристом родился. Веселый, как черт…»
После вступлений следовала пауза со вздохом, потом вспоминались подробности: смешные привычки, черты характера, особенности разговора… Как же много, оказывается, они знали о своих бывших подчиненных! Знали, конечно, и хорошее и плохое. Но говорили только о хорошем. Вспоминали и забавное, и горестное, а то и просто пустяковое, о чем, не погибни те красноармейцы, никогда бы никто и не вспомнил…
3
Когда Емельян уложил наконец все свои немудреные пожитки, мы пошли проводить его до штаба полка. Над всем сосновым редколесьем, вдоль опушки которого мы занимали оборону, было еще по-дневному и по-весеннему светло, а внизу, у спусков в землянки, в траншеях и ходах сообщения уже копошились первые вечерние тени. У одного из изгибов хода сообщения Емельян увидел какой-то неяркий, с распущенным лиловым венчиком цветок. Он выпрямился во весь рост, потянулся за цветком, сорвал его, хотел понюхать, но венчик вдруг отделился от стебелька и упал в свеженарытую землю, в которую с лукавым высвистом зарылась и пуля.
– Явленьице, однако, – растерянно пробормотал Емельян, вертя в пальцах стебелек. Звездин рывком схватил его за ремень, опрокинул на себя, и в ту же секунду над нами свистнуло еще раз.
– Если останешься жив, Меля, – сказал Звездин, – посвяти остаток своей жизни на розыски этого незадачливого снайпера, чтобы поблагодарить его.
– А всего лучше, – добавил Шалаев, – пошли ему этот стебелек. На память. И приписочку сделай: мол, хоть ты, гад, и загубил цветок, но все ж спасибо, что голову мою в живых оставил.
– Ну уж нет, – отозвался Гурьянин. – Стебелек я подарю Марине. Я ведь для нее старался.
Идя следом за Емельяном, я видел, как прямо на ходу, не разгибаясь, он заталкивал цветок в тот же самый нагрудный карман, в котором минутами раньше утонула и Маринина фотография.
Пряча стебелек, он продолжал говорить:
– А что касается снайпера, то вот тебе мое дружеское поручение, Троша: к моему возвращению добиться от него самого низкого земного поклона. И без разгиба. А? Докажи ему, что у лучшего полкового снайпера-любителя еще полно пороху.
– Это мысль, Меля, – отозвался Шалаев. – Завтра же займусь этим субчиком…
От штаба полка мы спустились в глубокую, расписанную песчанистыми следами паводковых ручьев лощину. Оттуда начиналась, уходя за косогор, объезженная лесная просека. По ней, подскакивая на корневищах, и покатился юркий запыленный «виллис», увозя Емельяна Гурьянина в тыл.
А мы пошли обратно. Пользуясь сумерками, Звездин нашел отбитый снайперским выстрелом венчик цветка, принес его в землянку и наколол на острие пули в той самой обойме, к которой недавно был прислонен портрет Марины. Уже поблекший цветок сиротливо чернел среди книг, планшетов, карандашей и табачных пачек.
Новую хозяйку мы решили не выбирать, и на столе быстро воцарился холостяцкий беспорядок.
Да следить за порядком теперь и некому было. Дня два Звездин провел в штабе полка на совещаниях, потом выезжал на рекогносцировку. Мы с Шалаевым сначала принимали пополнение, потом у меня прибавилось чисто штабной работы, а он стал выслеживать снайпера. Он уходил в заранее облюбованные места задолго до рассвета и возвращался лишь к завтраку. Потом, «разгрузившись по службе», снова уходил.
Злости ему прибавили новые проделки немца: на второй или на третий день после отъезда Гурьянина на том же месте, где были сделаны выстрелы по нему, погиб от снайперской пули офицер из первой роты. А назавтра вечером немецкий снайпер тяжело ранил посыльного штаба полка.
И уже совсем рассвирепел наш Трофим, когда немец разбил ему оптический прицел. Отпросившись у Звездина с вечера, Шалаев взял с собой еду и несколько «приманок» (это были два чучела, метровая палка с вделанным в один из концов осколком стекла и еще что-то им самим состряпанное) и ушел из землянки.
Он вернулся на следующий день к вечеру и тут же, не сказав нам ни слова, позвонил полковым разведчикам. И мы слышали, как он говорил их командиру старшине Обрядину:
– Слушай, у вас за свежим хлебцем не собираются? Да?.. Так ты зайди ко мне, просьба одна есть.
Через полчаса старшина Обрядин вошел в землянку, и Шалаев, подозвав его к столу, развернул карту:
– Вы вот тут случайно не пойдете?
– Нет, туда уже трое наших пошли. А мы сюда вот, рядышком, собираемся. Низина тут, и, кажется, аккурат у них на стыке.
Невысокого роста, рыжеватый, шустрый в движениях и такой же бойкий на язык, Обрядин немного заглатывал окончания слов, поэтому слушать его было трудновато. Но мы все-таки понимали его хорошо, потому что успели изучить карту, кажется, до самой последней точки. Да к тому же Обрядин несколько месяцев был ординарцем Звездина, и все мы привыкли к его манере говорить. Это было с год назад, но я хорошо помню, как Звездин привел в землянку (тогда мы тоже стояли в обороне) молоденького рыжего парнишку, немного застенчивого, но расторопного.
У комбата было правилом – брать в ординарцы самого необкатанного и неопытного юнца из пополнения. На это сначала не обращали внимания, потом заметили, но не поняли.
А Звездин, как пополнение, обязательно менял ординарца. Гурьянии не утерпел однажды, спросил:
– Что ты их, как перчатки, Вася? Или по нраву подобрать не можешь?
– А ты видел, чтобы ординарцы от меня по-плохому уходили?
– Верно, не было такого, – подумав, сказал Емельян. – Тогда в чем же дело?
– Хочется, Меля, – ответил тогда Гурьянину Звездин, – чтобы хоть на каплю, да меньше лилось напрасной крови. Вон он идет за нами, – показал Звездин через плечо пальцем (позади шел только что взятый Звездиным новый ординарец). Вчера при маме, сегодня – под пулями. Долго ли протянет? А вот малость пообвыкнется, пооботрется – смотришь, где-либо и обхитрит смерть.
Гурьянин, тряхнув кудрями и обнажив рисованно яркие зубы, хотел что-то сказать, но Звездин перебил его:
– Знаю, что наивно, знаю, что капля в море. Но ведь капля не воды, а крови!
Емельян действительно на наивность и хотел намекнуть, но после слов Звездина передумал. А через минуту, свернув к своей батарее, сказал:
– Ладно, всего, Вася. Золотой ты человек, ну тебя… – Он пожал протянутую руку. Потом попрощался за руку и с ординарцем. И даже обнял его за плечи, слегка встряхнув. Но ничего не сказал. И стоял потом, задумавшись, пока Звездин, а за ним и новенький ординарец не скрылись за поворотом тропки.
Невысокого роста, коренастый, с чуть искривленной правой ногой (след крымского ранения сорок первого года), Звездин был похож и не похож на комбата. Похож потому, что был всегда сдержан, молчалив и храбр. А непохожим на солидного командира его делала молодость. Тридцатилетний, не подумав, назовет мальчишкой. А вот пожалуйста – комбат. И других «мальчишек» жалеет.
Неведомо, с того ли момента потянулась ниточка или было ей иное начало, но с чьего-то легкого слова приклеилась вдруг к Звездину кличка Гуманист.
А однажды стали мы шутя подсчитывать, сколько у нас бывших звездинских ординарцев, и ахнули: шестеро набралось. И все были заметными людьми. Трое, в том числе и прославившийся на всю дивизию «ночной ас» Ефим Обрядин, в полковую разведку входили…
Обрядин заметно возмужал, немного форсил, но был по-прежнему подвижным, расторопным и хватким. Шалаев не случайно обратился за помощью именно к нему. Они долго водили пальцами по карте, потом Шалаев со вздохом сказал:
– Трое, говоришь, пошли? Эх, черт, не знал я. – Шалаев поморщился, как от боли, и просящим голосом продолжал: – А не смогли бы вы подвернуть к двум сломанным березам, что на отшибе у этой вот рощицы? Впереди и позади березок виднеется по холмику. Может быть, это пни. Они соединены ходом сообщения, и там, возможно, лежит труп немецкого снайпера. Если, конечно, его не убрали еще. Удастся – проверьте, пожалуйста.








