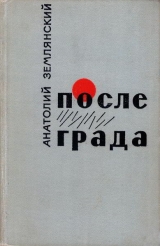
Текст книги "После града"
Автор книги: Анатолий Землянский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Девять страничек

– Отбой!..
Голос дневального до краев заполнил казарму, но тут же и растаял как дым. Ему на смену пришел звон расстегиваемых наременных блях, шуршание гимнастерок и легкий стук снимаемых сапог. В этом шуме совсем неслышным был легкий хлопок торопливо закрытой книги.
Но вскоре книга – толстенный, увесистый фолиант – опять открылась. Только обладатель ее уже не сидел у тумбочки, как минуту назад, а, подложив под голову руку, лежал в своей постели, на койке второго яруса.
Полузакрытая одеялом, книга была едва видна. Но и глаз у старшины Овчарова цепок на редкость.
– А вас, рядовой Чупреев, команда «Отбой» не касается?
Книга мгновенно скрылась под одеялом, но тут же, повинуясь строгому взгляду старшины, медленно выползла обратно.
– Товарищ старшина, еще девять страничек, – взмолился Чупреев. – Тут самое интересное.
– Никаких страничек. Отбой!
С койки послушно свесилась длинная загорелая рука и положила книгу на тумбочку.
А ночью, часа за два до рассвета, казарму наполнила другая команда. Она рывком взметнула над спавшими одеяла, с минуту повисела над кроватями и ружейными пирамидами молчаливой размеренной суетней и гулким топотом выкатилась вместе с солдатами на плац.
Полк подняли по тревоге.
К рассвету он был уже за деревней Нехаевкой, в пятнадцати километрах от военного городка. Здесь остановились.
– Прива-а-а-л! – понеслось по колонне.
Солдаты поспешно снимали вещевые мешки, клали их на землю, удовлетворенно приваливались к ним спинами, вытягивали перед собой уставшие ноги.
– Притомились? – Старшина Овчаров, пряча в напускной строгости улыбку, медленно переходил от одного к другому. – Ничего, ничего. Это еще одна добрая щепотка соли. А ить ее пуд целый надо…
И вдруг он умолк. Полные губы его раза два шевельнулись, но слов не получилось. Лишь через какое-то время он смог наконец заговорить:
– Да вы что, рядовой Чупреев, спятили? Такую книжищу… полупудовую… с собой… на марш-бросок?
Чупреев, тоже сидевший, привалясь к вещмешку, проворно вскочил, захлопнул книгу и, часто-часто моргая, виновато смотрел в расширенные от удивления глаза Овчарова.
– Такую тяжесть… – не унимался старшина. Он взял у Чупреева книгу и, как бы взвешивая, покачивал ее на ладони.
– Так на самом же интересном, товарищ старшина, – оправдывался Чупреев.
А старшина смотрел уже не на Чупреева, он обводил взглядом всех, кто сидел поблизости. Книга по-прежнему была у него в руке, и он так же покачивал ее, словно говоря: «А? Что вы на это скажете?»
Но в глазах его был не вопрос. Чуть прищуренные, в обрамлении морщинок, они светились улыбкой.
– Ну что ж, добивайте, – отдал он Чупрееву книгу. – А то привал скоро кончится.
Лейтенанты

За какой-то час пешего хода я ухитряюсь узнать у Романова (а он, конечно, у меня) все, что произошло в нашей жизни с тех пор, как мы расстались. Потом мы ударились в воспоминания. Были перебраны десятки имен, все забавные случаи и приключения, прозвища преподавателей – постоянных жертв курсантского остроумия.
А сейчас мы сидим у крутого спуска к незнакомой нам обоим речке. Сидим прямо на чемоданах. А чемоданы у нас потому, что мы идем со станции, где час назад неожиданно встретились: прибыли к новому месту службы.
Река разлилась. Кое-где из воды торчат безлистые макушки кустов. Вокруг них – заводи грязноватой пены, которую по кускам отрывает и уносит течение. У берегов тоже пена, она рыжевато-мутная и неживая. А вдали река как зеркало, в котором отразилось сразу полнеба.
Пахнет весной. Прозрачный воздух, холмистое поле за речкой, уже обжитое жаворонками, – все наполнено хмельным будоражащим звоном.
И мы наполнены чем-то подобным. Нам весело. Весело и оттого, что мы так нежданно встретились, и, видимо, оттого, что кругом весна. И наверное, потому, что нам весело, мы не все сразу замечаем. Я вот только теперь увидел на погоне Романова третью звездочку. При выпуске у всех у нас было лишь по две.
– Ты что же это молчишь? – легонько толкаю я его в плечо. – Скромничаешь?
– А ты? – он отвечает таким же дружеским шлепком. – У тебя ведь тоже раньше не было третьей!
Жмем друг другу руки, смеемся. Смех у Леши нисколько не изменился, он по-прежнему заразительный и звонкий. И сам Леша каким был, таким и остался – курносым, белобрысым и веснушчатым. И как бы затаенно грустным. Грусть в нем покоилась где-то глубоко-глубоко, и лишь изредка, будто по неосторожности, выплескивалась то во взгляде, то во внезапно гаснущей улыбке. Теперь, мне кажется, ее стало больше, чем было тогда, в курсантские годы. Это смущает меня, и я никак не осмелюсь задать Алексею вопрос, который давно уже висит у меня, как говорится, на кончике языка. Но любопытство берет наконец верх, и я как бы вскользь бросаю:
– Ну а как Рокотов?
Мне хочется спросить еще: «А Лена?» Но о ней я так и не решаюсь заговорить. Их обоих, Рокотова и Романова, еще на втором курсе угораздило влюбиться в эту худенькую, пышноволосую и большеглазую девушку. А она сразу выбрала Рокотова. Вот мне и казалось, что спрашивать о Лене у Романова как-то неделикатно, хотя они с Рокотовым были закадычными друзьями и даже после выпуска служили в одной части.
Романов, Рокотов и я – однокашники по военному училищу. Все трое – Алексеи. И все были в одном отделении. Сведет же подчас судьба!.. Курсанты, удобства ради, быстро перекрестили нас. Впрочем, Романова не тронули, он так и остался Лешкой. Мне же все три года довелось быть Леней. Рокотов превратился в Лео. Это была дань его привычке излишне манерничать и рисоваться.
Мы безропотно покорились товарищескому произволу, а Рокотов был, кажется, даже рад. Имя Лео, видно, пришлось ему по вкусу, и я не раз слышал, как он, высокий, гибкий, с красивым лицом, представлялся девушкам:
– Лео.
Галантно улыбаясь, он после небольшой паузы добавлял:
– Рокотов…
– Рокотов? – повторил мой вопрос Алексей и заметно помрачнел. Я же мысленно выругал себя: «Чудак, и зачем было о неположенном спрашивать?»
Но Романов вдруг огорошил меня:
– Рокотова, брат, судом чести недавно судили, – сказал он словно бы через силу, досадливо. И даже не повернулся ко мне. Уставился в какую-то точку над кручей.
– Судили? – переспросил я, но сделал это скорее механически, чем от неожиданности. Откровенно говоря, я как-то не очень и удивился. Мне тогда еще, в училище, казалось, что в Рокотове есть этакая болезненная зазубринка, за которую его следовало бы… Нет, не судить, конечно, а просто дружески пожурить. Романов в таких случаях высказывался конкретнее: «Проработать». И сейчас он в том же тоне заговорил:
– Проморгали мы тогда, скажу я тебе. Вовремя не спохватились…
– Не проработали, – съязвил я, чувствуя, как все весеннее во мне тает и омрачается.
– Да, именно так, – принял вызов Алексей. Он по-прежнему сидел и смотрел на воду. И, не меняя позы, стал рассказывать.
Я слушал и силился представить себе немного заносчивого, но умного и дельного Рокотова на суде. В училище, по крайней мере в нашей роте, он был виднее всех – эрудированный, цепкий в деле, горячий в споре, остроумный. Я не помню, чтоб была без его портрета Доска отличников.
А Романов рассказывал:
– Взвод он в части получил слабый. Особенно по успеваемости. Предшественник его долго болел, вот и подзапустили работу. Ну а Рокотову будто того и надо было. Он с душой взялся за дело. Ты же знаешь его. Людей увлечь может. Да и методист он неплохой. Через месяц комбат на совещании его уже в пример ставил. А ко Дню Советской Армии Рокотову благодарность в приказе по полку.
Алексей достал папиросы, мы закурили. Глубоко затянувшись, он продолжал:
– Так год прошел. Меня комсомольским секретарем полка избрали. И тут Лео стал открываться мне совсем с другой стороны. А одну встречу с ним я, кажется, никогда не забуду.
Алексей снова на минуту умолк, а я, глядя на него, с удивлением заметил: Алексей, тот самый узкоплечий, остроскулый мальчишка-курсант, повзрослел, научился желваки под кожей катать. Вон как они ходят…
– Так вот. После инспекторской дело было. В поле, – продолжал Алексей, – осенью. А вернее сказать, в бабье лето. Ветерок, помню, белую паутинку носил над свежей еще стерней, солнце светило. Хотя было нам тогда, признаться, не до лирики. От усталости ноги подкашивались. Улучив свободную минуту я и присел на опушке небольшой березовой рощицы отдохнуть. Рощицу эту мы тогда целую неделю громко именовали рощей Безымянной. Учения шли. И тут появился со взводом Рокотов. Увидел меня, что-то сказал своему заместителю. Взвод проследовал дальше, а он подошел. Тоже сел. Вижу, не в себе он. Сидит, разглядывает носок сапога, молчит. «Что, витязь, – говорю, – не весел? Или не ладится что?» Он, мне показалось, как раз и ждал, чтобы я разговор начал. Потому что сразу же с горькой такой усмешечкой говорит: «Все вроде хорошо, мой мальчик. Одно плохо: фортуна мне досталась неулыбчивая». – «А в чем это, – спрашиваю, – тебе фортуна не улыбается?» Замялся он, потом, словно собравшись с духом, ответил: «А в том, например, с чем она к Ерошкину пожаловала». – «Не понимаю, – говорю, – о чем ты». – «Как, разве тебе неизвестно, что Ерошкин на повышение пошел?» Тут только смекнул я, в чем дело. Видишь ли, старшего лейтенанта Ерошкина, командира взвода в той же роте, действительно выдвинули тогда на повышение. И вот Рокотова взяла обида: почему не на него пал выбор?
Алексей бросил папиросу, встал, сердито растоптал окурок.
– Ерошкин, скажу тебе, хороший офицер. Взвод его, правда, особо не вырывался, но четверку всегда давал твердую. Командовал же взводом Ерошкин уже около четырех лет. Ну, я и начни это Рокотову втолковывать. Говорю, тут у тебя, Лео, мушка сильно сбита, от скромности далеко в сторону берешь. А он вспыхнул весь, глазами сверкнул: «Но мой взвод все-таки лучше?» – «Куст, – говорю, – хорош, но ягода еще зелена. Вполне повременить можно». Это и вывело его из себя. «Повременить, – не сбавляя тона, повторил он. – Мудрость эта не нова. Но мне, дорогой мой мальчик, жезл маршальский покоя не дает. Как, видимо, и тебе. Понимаешь? Без которого солдат – не солдат. А ты – повременить…» Он со злостью покусывал травинку, а затем, отшвырнув ее в сторону, уже тише, с плакучей такой горечью продолжал: «Я тружусь, не досыпаю. От подъема до отбоя с солдатами. Посмотри, что осталось, – он сжал пальцами впалые щеки, – а мне… благодарность в приказе… Конфетку – маленькому!» – «Слушай, Лео, – говорю ему, – а не рановато ты того… в маршалы?» Опять вспыхнул, медленно, с расстановкой, иронизируя (да ты знаешь, как это у него получается), сказал: «Докладываю вам, товарищ секретарь, что сентенции мне противопоказаны». – И быстро ушел. Ну и с тех пор… Словом, пошло все через пень колоду. Лео мой, смотрю, вроде тот, но все-таки и не тот. При встречах спрашиваю у командира роты, капитана Курочкина, как, мол, там у вас Рокотов. Капитан цедит с недосказочкой: «Ничего, тянет». А однажды, подумав, говорит (в ротной канцелярии дело было): «Да я к нему все присматриваюсь. Что-то того… Подзатуманилось в человеке». – «Головокружение от успехов?» – «Э, нет, – решительно не согласился капитан. – Успехи-то были, а теперь тают. И с коллективом он лоб в лоб». И вдруг Курочкин предложил: «А не поговорить ли нам с ним? Тем более что Рокотов так легок на помине: вон он идет к штабу», – показал капитан в окно. Рокотов вошел такой же хмурый, каким был все последнее время. По-уставному обратился, получив разрешение, сел. Но, почувствовав, о чем пойдет речь, вспыхнул, заторопился с оправданиями: «Ну вот, был вроде хорош, а теперь испортился». – «Малость есть», – сказал капитан. «Считайте, как хотите…» И все в том же духе в течение целого часа. По лицу его бродили розовые пятна, в глазах метался беспокойный и злой огонек. Так и ушел он, ни с чем не согласившись, уверенный в своей правоте. И когда дверь за ним закрылась, командир роты спрашивает у меня: «Ну а теперь скажи мне, комсомольский бог, что я должен написать о нем вот на этой бумаге?» – Капитан вынул из стола бланк аттестации на присвоение очередного воинского звания. «Это, – говорю, – уже вам решать». – «Так вот я и решил: пока не ходатайствовать».
…Мы закурили еще по одной папиросе. Я задумался над тем, что рассказал Алексей.
В каждой черточке я узнавал Рокотова, того самого Лео, красивого и дельного курсанта, эрудированного, остроумного. Но тогда мы были так слепы и так по-товарищески нечутки к нему.
И еще я думал, глядя на Алексея: «Ну а Лена? Что же ты, упрямец, о ней не скажешь ни слова? Я ведь помню, как ты мучился, как краснел при встречах с ней, как неумело отбивался от наших шуток и этим разоблачал себя… Ну так хоть одно слово о Лене, дружище. А?»
Алексей не мог прочесть моих мыслей и довершал рассказ. О том, как ушел вверх по инстанциям пакет с аттестациями, как взамен его прибыл в часть другой пакет – с приказом, как Рокотов, поздравив его, Алексея Романова, с «третьей каплей», ушел вечером из части, а ночью дежурному по полку позвонили из комендатуры: задержан лейтенант Рокотов… пьяный…
– Заливал обиду, – подытоживает с горькой усмешкой Романов и умолкает. И долго-долго смотрит не мигая куда-то-за речку и за маревое поле. Смотрит со злостью и с той же затаенной, глубоко спрятанной грустью, которую не сразу и разглядишь. А затем порывисто встает, одергивает гимнастерку:
– Пошли…
Остальное Алексей договаривал уже на ходу.
– Вынесли ему на первый раз общественное порицание. Само собой, по комсомольской линии всыпали.
У Алексея был тяжелый чемодан, он часто менял руку и поэтому рассказывал с паузами.
– Позавчера Рокотов провожал меня. Я попрощался с ним в полку, а на вокзале вижу – идет. И сразу: «Что ж, Лешка, мы теперь и не друзья?» – «А это, – говорю, – зависит от письма, которое я получу ровно через три месяца». – «От какого письма?» – спрашивает. «От твоего, – говорю. – Вернее, от его содержания. Если я увижу, что у тебя вот в этой представительной коробке (тут я стукнул его по красивому лбу) обозначилась наконец отсутствующая извилина, тогда…»
Алексей меняет руку, и я вижу, что он уже улыбается.
– Рокотов спрашивает: «А почему именно через три месяца?» – «Такой, – отвечаю, – тебе карантинный срок. На предмет избавления от инфекции». Он улыбнулся, послал меня к черту и подтолкнул в вагон, потому что в эту минуту тронулся поезд. И знаешь, – Алексей останавливается, вытирает со лба пот, глаза его сияют, – именно потому, что он чертыхнулся, а не фыркнул, как это бывало раньше, я верю: появится нужная извилина. А ты как думаешь?
Леша с надеждой, как мне показалось, смотрел на меня. Взгляд его и все курносое, разгоряченное лицо будто упрашивало согласиться. Но я поосторожничал. Сказал, что письмо, мол, покажет. И еще что-то говорил в том же духе, а сам думал уже не о Рокотове, а о Леночке, о ее, как мне казалось, странном выборе. О том, какой слепой бывает любовь и какой странной – доброта.
***
Письмо от Рокотова пришло не через три месяца, – намного раньше. Мы уже обжились на новом месте, а с наступлением лета выехали в лагеря. Началась страдная пора.
Моя рота только что с ходу форсировала Тихоню (странное оказалось название у знакомой нам с Романовым реки), был дан отбой, и, искупавшись, солдаты отдыхали. Я тоже прилег на пахнувшую влагой и землей траву, отдаваясь блаженному ощущению покоя. И тут ко мне подошел Алексей, теперь уже – наш замполит. Прилег рядом и внешне недовольным голосом, в котором я не мог не уловить ликования, сказал:
– Ослушался, непутяга, приказа. Посмотри, – и протянул письмо.
Рокотов каллиграфически четким почерком писал: «Извини, Лешка, но настоящим письмом я подаю тебе рапорт с просьбой о досрочном переводе из карантина в строй. Тяжко и стыдно до сих пор. И гадостно донельзя. Сам себе противен…»
Сияющий, с обветренными щеками и обгорелым от солнца носом Алексей неотрывно (я это чувствовал) следил за мной и всем своим видом как бы говорил: «Ну что, Фома неверующий? Все-таки я прав оказался?!»
Я дочитал страничку, и тут Алексей, как-то вмиг потухнув, сказал, потянувшись за письмом:
– Дальше неинтересно.
Но листок был уже перевернут, и я прочитал: «Спасибо за письмо Лене. Она послушалась тебя – приехала. На следующий день после твоего отъезда я встречал ее. И только теперь понял, как незаменимо она нужна была мне в те по-дурацки горькие для меня дни. Ты понимал это, а я нет. Значит, был я и по отношению к ней неправ. Все выжидал, а чего – сам не знаю. Словом, мы расписались с ней, и вы с Ленькой можете нас поздравить».
Алексей рассеянно и невидяще смотрел за речку. И я не мог понять, что пытался он разглядеть там, в знойном и терпком воздухе. И что стояло в ту минуту перед его задумчивым взглядом.
Я протянул ему письмо, он взял его, стал медленно складывать. И будто очнулся. На лице снова появилась улыбка, в глазах таяла, уходя куда-то в глубину, невысказанная грусть.
Алексей быстро отвернулся от меня, торопливо встал и крупно зашагал к соседней роте…
Первопуток

Наш «Утеныш» – так прозвали мы с чьего-то легкого слова свой маленький и уже не новый пассажирский катерок – курсировал между Энском и большим, прямо на глазах поднявшимся в тридцати – сорока километрах от города рабочим поселком. Там же стояла и какая-то воинская часть.
«Утеныш» рано выходил в первый рейс, «в обгон солнышку спешил», как любил говорить мой совсем еще безусый, но охочий до слова помощник Виктор, стажер из речного техникума. Солнце еще только лизнет красным языком небо над лесом – лес же у нас по обе стороны реки, – а мы уже, глядишь, на полпути к поселку.
Вольготно бывает в такую рань на реке. Она как-то по-первозданному свежа и лучиста. На палубе, на скамейках, на спасательных кругах – всюду крупным потом – роса. И кажется, от нее зябко. Но это не от нее. Это от воды в порассветье тянет таким приятным охмеляющим холодком. И, как бы нежась в нем, кокетливо красуется перед глазами взбухшая в весеннем разливе речка. Легкий ветерок слегка рябит ее, будто причесывая, и, шевеля летучие гребешки, купается в них.
Это впереди катера. А позади него, за кормой, речка уже иная. Растревоженная, вспененная винтом вода сердито скручивается, выгибаясь тугими, разбегающимися к берегам валами.
Нет, что ни говорите, а нравится мне наша игривая Быстриха, особенно в такое вот, вешнее, время.
Но сейчас речь не о том. Сейчас я расскажу вам об одном… Как бы это лучше выразиться?.. Словом, об одном что ни на есть весеннем случае…
На «Утеныше» нашем с первого рейса – еще виднелись кое-где последние льдинки – стала появляться девчонка. Молоденькая, лет восемнадцати, не больше. Вся беленькая – и лицом, и бровями, и пышными волнистыми волосами, достигавшими узких и покатых плеч. А глаза у девушки… Ну будто взял искусный мастер родниковую воду и заключил ее в темно-синий хрусталь. Да еще оторочил эту прозрачную синь густыми темными пушинками.
Девушка была подвижна, говорлива, громко смеялась, щедро раздаривая всему окружающему улыбчивые взгляды. И в этих взглядах не было ничего, кроме озорной полудетской радости да еще, может, желания быть замеченной. Того невинного желания, которым грешны, видать, все молодые.
И ее замечали. Мне было видно из моей капитанской рубки, как светлели у пассажиров лица, едва раздавался где-то на трапе Любашин голос. Я уже не говорю о своем стажере, Викторе, который, завидев девушку, на полуслове умолкал, и штурвал ему с этой минуты доверять было, пожалуй, опасно.
Девушку наперебой приглашали на всех скамейках, ребята ей уступали место:
– Садись, Любаша.
– Любушка, к нам!
Она смеялась. Смеялась для всех. Щедро и душевно. Любаше словно не хотелось одному кому-либо отдавать весь струившийся из нее свет, и она, на ходу благодаря, улыбаясь, порхала между рядами. И все сияло в ней, плескалось, бродило…
Так было почти всякий раз. Каждый день, утром и вечером, слышался над Быстрихой Любашин смех.
Но как-то встал ей навстречу, уступая место на скамейке, солдат. Он тоже был нашим постоянным пассажиром, потому как – я это знал – возил из города в воинскую часть почту. На вид вроде не очень уж и приметный, в поношенной шинели, щупловатый в плечах, но как-то разом стихла и на секунду замерла перед ним раскрасневшаяся Любаша. В нежданном замешательстве широко раскрылись ее глаза, встретились с таким же ошеломленным взглядом солдата и отпрянули, метнулись вниз, потупились.
Он взял со скамейки свою ношу, закинул ее на плечо, а Любаша послушно опустилась на предложенное ей место. Солдат до самого поселка стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу и время от времени поправляя на плече сумку с почтой.
Они сошли вместе (на трапе он пропустил ее впереди себя), но потом, видел я, разошлись. Солдат стал взбираться по скользкой тропке на кручу – это была ближайшая дорога к воинской части, а девушка пошла вправо, в поселок. Видать, она туда на работу ездила.
Солдат поднимался все выше, а Любаша неторопливо шла устланной досками тропкой. И вдруг – понять не могу, как это они так угадали, – оба разом обернулись и с добрую минуту недвижно стояли, молча глядя друг на друга.
Не знаю, что такого особенного было во всем этом, но Виктор, стажер мой, куда-то непрерывно смотревший из приоткрытой двери рубки, внезапно с силой захлопнул дверцу и, облокотись на штурвал, задумался. И стоял так, пока «Утенышу» не пришла пора вновь отчаливать.
А назавтра Любаша опять взбежала к нам по трапу. И опять посыпались ей навстречу приветствия, приглашения сесть.
Она по-прежнему улыбалась, отвечала с озорной игривостью и смехом, но глаза ее явно искали кого-то. Синий огонек под ресницами беспокойно метался.
Выглянуло солнце. Незаметно соскользнуло с берега на воду, вмиг золотисто окрасило ее, осыпало метущимися бликами. Каждый лучик высекал искорку, и через какое-то мгновение они мириадами плясали вокруг «Утеныша».
Мне показалось, что Любаша была чем-то сродни им, этим пляшущим искоркам.
Не знаю, что случилось минутой позже, только «Утеныш» мой внезапно задурил, пошел зигзагом, и я поспешил взять у Виктора штурвал. И в тот же миг увидел Любашу, а рядом с ней солдата. Они стояли у лееров, спиной к моей рубке, и мне были видны лишь две лежавшие рядом на леерах руки. Широкая – его и маленькая, с розовыми ноготками на тонких пальцах – ее.
Назавтра девушка и солдат опять оказались друг возле друга. И на следующий день. И позднее. И все в той же неподвижной позе. Посмотрю – две руки покорно лежат рядом. Только, как мне казалось, расстояние между ними с каждым днем уменьшалось.
Вот и опять я вижу их. Сегодня руки уже совсем близко одна от другой. Тонкие девичьи пальчики временами вздрагивают, крохотный мизинчик, словно ища чего-то рядом, отделяется от остальных, но тут же, метнувшись назад, замирает.
Мне кажется, что молодые люди молчат. Они неотрывно смотрят вдаль, навстречу им плывет облитая солнцем река. А я не могу оторваться от этих двух рук, от этого потерявшего покой Любашиного мизинчика. Вот он снова вздрогнул и, кажется, слегка коснулся второй руки. И та будто проснулась, от нее тоже отделился и робко пополз по лееру мизинец.
Мне почудилось, что была какая-то вспышка, с искрами и пламенем, когда они встретились. Пальцы вздрогнули, отпрянули друг от друга, на мгновение замерли. Но только на мгновение. Неведомая сила вновь двинула их в мятежный поиск. Когда они опять встретились, его палец остановился и застыл. А розовый ноготок снова затрепетал. Нет, он уже не отпрянул назад, он только порывисто вздрагивал. Незнакомая близость пугала его. Тогда тот, второй, поднялся и ласково, но властно лег на дрожащий мизинчик.
А через минуту вся маленькая девичья рука вдруг пропала под широкой ладонью.
Опрокинутые купались в реке берега, утреннее небо… Все было опрокинуто, и все оставалось на месте.
И до конца рейса руки уже не разлучались.
Не знаю, может, кому-либо рассказ мой покажется смешным и, как это еще говорят… сентиментальным, что ли, но только мне все это видится теперь полным большого и радостного смысла.
И пальцы эти – особенно.
Я говорю «теперь» потому, что тогда, в самом начале, в меня прокрался вдруг этакий черный жучок опасения.
«Присушила парня, озорница, – думал я, прислушиваясь к тяжким вздохам Виктора, который, как я уразумел наконец, был тоже влюблен в нашу пассажирочку. – Так пойдет – не зашло бы далеко…»
И хотя никому не высказал я своего опасения, но появилось оно вдруг и среди пассажиров. Как-то, едва сошли на своей остановке Любаша и солдат, услышал я совсем рядом женский голос:
– Ох и допрыгается девка! Солдаты, они…
– И не говори, – согласился с первым второй голос – Тут до беды, как до воды.
– А мать потом расхлебывай…
Я глянул на говоривших – они, грызя семечки, пристально, с прищуром смотрели на удалявшихся от причала Любашу и солдата.
И мне стало еще тоскливее и боязнее.
Но скоро смог я не только разувериться в своих опасениях, а и устыдиться того, что как-то не совсем по-хорошему думал о солдате. Да и о Любаше тоже.
Произошло все совсем случайно.
Точно по графику причалили мы у поселка. Пассажиров как ветром сдуло. Сошли и Любаша с солдатом – она разнаряженная, светленькая, а он, как всегда, со своей почтовой сумкой.
Я проводил их взглядом и стал сдавать вахту. А потом побрел потихоньку домой. Путь мой тоже лежал через кручу, и я медленно взбирался на нее – не в мои лета с ходу брать такие препятствия. Вдруг до меня отчетливо донесся Любашин голос. Глянул я – в сторонке, у большого, белого как мел валуна, стояли мои знакомые.
Сам того не желая, я услышал их разговор.
– Останься, – мягко и просяще говорила Любаша. – У тебя же еще есть время. А у нас на фабрике вечер сегодня.
Она снизу вверх смотрела на солдата, и я, не видя ее глаз, отчетливо представил себе их лучистую, умоляющую синеву.
– Не могу, Любушка, – послышался голос солдата. Сумка его лежала на камне, и он держал руки девушки в своих. – Почту надо отнести. Ты знаешь, как солдаты писем ждут…
Любаша не ответила.
– Ты не должна сердиться, – с нежностью в голосе сказал солдат.
– Я и не сержусь, что ты! – горячо запротестовала Любаша. – Это же очень хорошо, что ты такой… – Она помолчала, подыскивая слова, потом закончила: – Не о себе только думаешь…
Я поднялся уже на кручу, а они все стояли у камня.
Потом я увидел, как солдат взял с камня сумку, закинул ее за плечо и медленно пошел к тропке. Поднявшись на кручу, он обернулся. Любаша все еще стояла у валуна. Руки их одновременно вскинулись вверх, и они долго махали друг другу.
Майское небо купалось в Быстрихе, кое-где сбегали с кручи вниз к реке шустренькие, местами будто витые – так стремителен был их бег, – говорливые ручейки.
Пофыркивая, «Утеныш» уходил вверх по течению. Ему было и невдомек, что это он свел на большом весеннем пути два красивых человеческих сердца.
А может, и не он. Сердца сами умеют находить друг друга. Ну а весна для них вроде бы как первопуток.








