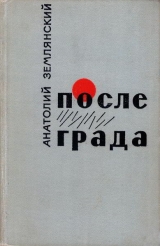
Текст книги "После града"
Автор книги: Анатолий Землянский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Цветы

Я возвращаюсь с дежурства по номеру. Это так говорят в редакциях. Дежурить по номеру – значит выпускать очередной номер газеты.
В ушах еще не умолк стук телетайпов, еще пляшут перед глазами разномастные шрифты и заголовки, больно бьют по памяти тревожные вести: готовятся новые ядерные испытания в Сахаре… Неспокойно в Южном Вьетнаме… Запущен спутник-шпион…
Город узнает об этом лишь утром, а я, дежурный по номеру, уже знаю. Мы помещаем иностранную информацию, как правило, на четвертой полосе, и она, эта полоса, всегда бывает самая тревожная.
Но я думаю сейчас не о четвертой полосе, а о словах главного редактора. Подписывая номер в свет, он сказал:
– О хороших бы людях больше. Выиграл бы номер.
Я понял его. Это он намекает на критические статьи. По недосмотру секретариата их оказалось в номере целых три, в том числе и моя. Про бюрократов.
Понял я и второй намек редактора.
– Вы, кажется, собирались в командировку? – спросил он.
Да, я собирался в командировку. Теперь я знаю, что выеду завтра же. И еще я знаю, что буду искать материал о хороших людях.
Искать? А что, их так мало?
Я начинаю спорить с самим собой. «Не мало, но все же… А потом ведь надо что-то необычное».
В метро у входа на эскалатор меня поймала ребристая ступенька, понесла вниз. Навстречу поплыли незнакомые лица. Все хорошие.
Все ли?
Опять начинаю спорить с самим собой. И тут раздаются вдруг быстрые цокающие шаги. Сначала они надо мной, потом рядом. Наконец вижу: это почти бежит по эскалатору солдат. Он с цветами. Спешит. Наверное, кончается увольнительная.
Солдат зря спешил. Поезда еще не было. А когда поезд подошел, мы вместе вошли в вагон.
Цветы у солдата – пионы и лилии, наполовину в газете.
Странно: с цветами – в часть? Или просто какая-то гордячка не приняла подношение? Но в таком случае цветы бросают и топчут. Или отдают (в кино, например) случайно появляющейся старушке. А он, этот обветренный, остроскулый солдат, значит, пожадничал: не бросил цветы и не отдал старушке.
Мы сидим рядом, и я (шутя, конечно) решаюсь спросить, кивая на цветы:
– Видно, не приняла?
– Что? – переспрашивает он. И вдруг понял. Заулыбался. Потупился. – Нет, тут другое дело.
– Тайна сердца?
– Да нет.
– Просто любите цветы?
– Люблю, но тут другое… Понимаете… Словом, к одному нашему солдату завтра невеста приезжает. Рано утром. А где он возьмет цветов?
– Значит, он попросил вас…
– Да нет, он не знает.
– Ага, сюрприз.
– Да нет. Просто я шел мимо цветочного киоска, и меня будто в голову что – стук. Думаю, с чем же он ее встретит?.. Теперь бы вот на электричку не опоздать. – Солдат в который раз посмотрел на часы.
– А что, увольнительная кончается?
– Да нет, у меня суточная. Завтра ведь выходной. Но цветы-то надо отвезти?
На разгоряченном лице, под звездатой фуражкой сияют почти детские серые глаза. На щеках местами шелушится кожа. Мундир отглажен, подворотничок – снег, узковатая грудь еще без наград. Один комсомольский значок…
И я почему-то подумал вдруг: а хорошо бы на том месте крупным планом вот это лицо. И цветы… На том месте, где говорится про бюрократов. В газете то есть.
– Может, вы дадите мне свой адрес? – спрашиваю у солдата.
– Пожалуйста, – говорит. – Войсковая часть…
И назвал номер. Я, кстати говоря, бывал уже там.
– А фамилия ваша? – спросил я.
– Рядовой Громов, – представился он, считая, что только так и надо отвечать офицеру.
Он уехал с последней электричкой, а я приехал в часть с первой. Утречком. По литеру, который тоже назвал мне Громов, я узнал у дежурного, что это шестая рота. Поднялся на второй этаж. Открыл дверь. И сразу же увидел цветы. Ими была уставлена вся тумбочка дневального. Из-за них едва виднелся невысокий пухлощекий солдат.
Цветы стояли в котелке и в двух флягах, наполненных водой. Пионы и лилии я сразу узнал. Но откуда взялись еще гладиолусы, гвоздика, горошек и алые, цвета закатного неба, розы?
– Эти вот Громов принес, а эти – Сапожников и Черемных, – сказал дневальный.
– Сапожников и Черемных тоже были в увольнении?
– Так точно. Они как сговорились. А Соломин еще ничего и не знает.
Дневальный тихонько засмеялся, отчего его щеки стали похожи на небольшие шары, и посмотрел на часы. До подъема оставалось двадцать минут.
Я догадался, что Соломин – это солдат, к которому ехала невеста…
Цветы были по-рассветному заспаны и, казалось, тоже отдыхали. Казалось, едва прозвучит слово «подъем», они, как солдаты, проснутся, неповторимые в своей тонкой живой красоте, которая, видно, сродни красе человеческой.
И я уже почему-то не заспорил с самим собой. Я только опять подумал: да, если бы в номере, по которому я дежурил, рассказывалось об этих вот солдатах, его четвертая полоса не казалась бы очень тревожной…
Постскриптум
Рассказ в письмах

Письмо первое
Здравствуй, Вера! Отвечаю на твое письмо и на твои вопросы об Игоре. Ты его любишь, я знаю. Но раз ты спрашиваешь о нем, я должен или отмолчаться или написать всю правду. Я выбираю второе, потому что молчать просто не могу.
Только сразу предупреждаю тебя: правда, о которой я собираюсь говорить, очень горькая. Как полынь. Или нет – еще горше. Мне кажется, что лучше целый год пить ежедневно по кружке полыни, чем один раз в жизни проглотить такую пилюлю. Словом, Игорь сбежал.
Сначала мы все думали, что случилась какая-то беда. Искали его в степи, обшарили каждую скирду, каждую ямку. А потом видим, летит к нам прямо по стерне на велосипеде Витька Заяц и кричит:
– Не старайтесь, ребята, он просто дал тёку! Дать тёку на Витькином наречии – значит удрать. Мы гурьбой к нему.
– Откуда знаешь? – спрашиваем.
– Так он же целую буханку хлеба с собой прихватил. Ту, что нам вчера с база привезли.
Чудаки мы, не догадались сразу провизию проверить. И потеряли на этом часа три драгоценного времени.
Понимаешь, Вера, в это утро как раз пошел дождь. А у нас зерно на току, правда, под соломой. Но разве это защита для хлеба?
Между прочим зерно чудесное. Кристаллы просто. Знаешь, такого лунного цвета. Будто каждое зернышко чьи-то мастерские руки вытачивали и шлифовали. Глянула бы ты только!
Кстати, из такого зерна (у нас тут и мельница неподалеку) была выпечена и та буханка, которую прихватил с собой Игорь. Когда мы внесли ее, еще теплую, к себе, так по всему общежитию сразу аромат пошел до головокружения.
Да ты сама знаешь, как бывает в доме от свежевыпеченного хлеба.
Ну а сегодня у нас в общежитии совсем другой «аромат» царит. Ходим все злые, друг другу в глаза не то боимся, не то стесняемся глядеть. Вот уже неделя, как стоит, точно хворая, под навесом машина Игоря. Шофер он, надо сказать, фартовый, ни одному из нас с ним не потягаться. И сколько он уже смог бы вывезти хлеба! А тут, что греха таить, без порчи не обходится: подгнивают кое-где вороха, внутри же от влаги и тепла прорастает зерно.
Мы сейчас работаем и ночью. Это Витька Заяц предложил. Колготной такой хлопец. Но молодец! А хлеборобство любит – фанатик. В тот день – в день бегства Игоря – он говорил:
– Братцы, в наших рядах образовалась дезертирская брешь: за нее и мы все в ответе. С нами ведь прилетела сюда перелетная птичка. Так вот: заштопать надо брешь-то. У ночки каждый по лоскутку урвет – и порядок.
Конечно, мы все согласились.
Но я, кажется, отклонился. Ты ведь спрашиваешь об Игоре. Что я могу сказать? Вот есть у нас Семен Дятлов. Мы его зовем Дятлик – за маленький рост и остренький, книзу, как бы птичий нос. Я, помнится, рассказывал тебе о нем, когда приезжал в краткосрочный. Ну, тот, что близнецов вынес из огня во время пожара. Ты еще тогда спросила у меня: «А ты бросился бы в огонь?» А я растерялся и не нашелся, что ответить.
Так этот Семен Дятлов вчера ухитрился сделать восемнадцать рейсов вместо пятнадцати плановых. А знаешь, что это такое по нашим тут дорогам?! Разбиты они, да еще дождиком посыпало, как на раны солью. Одним словом, развезло. Другой раз еще затемно сядешь в какую-либо колдобину, а только засветло выползешь.
Это у нас, у шоферов, называется «позагорать». Семен же ухитрился обходиться без «загара». Сейчас, когда я пишу, он спит. Крепко спит, что богатырь. Я как портрет тебе с него рисую. Он от меня через одну койку – через Игореву. Она пока пустует. Я предложил Семену перебраться поближе ко мне, но он отказался. Не хочу, говорит, на его место ложиться.
Так вот, одна рука у Дятлика закинута за голову, а вторая, правая, на одеяле. В запястье она вся мутно-оранжевая – пожар след оставил. И на щеке тоже следы ожогов. Эти почему-то сейчас синие. Может, оттого, что в тени. (Я самодельный абажур на лампу сделал, чтобы ему на лицо свет не падал.)
Ровно через час я должен его разбудить. А лег он… Сейчас скажу тебе точно… Да, два с половиной часа назад. Ровно в четыре утра он сядет за баранку. Перед этим скажет обязательно:
– Плесни-ка малость, Сережа.
Это значит, что я должен вылить на его неширокую, но крепкую спину ведро холодной воды. Мы все поеживаемся, а он только смачно так крякнет и обязательно процитирует что-либо на тему о здоровье, вроде:
Если хочешь быть здоров,
Постарайся
Позабыть про докторов…
Последнее время, между прочим, эту привычку у Дятлика Витька Заяц перенимает. Он в отличие от Семена очень длинный и худой. И мы все смеемся, что на его спине хорошо бы золотой песок промывать: между ребер и вдоль позвоночника так бы и откладывались золотые крупинки.
Словом, Вера, живем мы весело и не унываем. А иначе, где ж тогда и силушку свою испробовать, на каком наждачке житейском характер проверить?
Ну а вы там как? Заречное наше, поди, все в багрянце. Я люблю, когда над родным селом эта медь осенняя нависает. Жаль, посмотреть сей год не удастся. Недосуг. Но ничего, вот спадет горячка наша, на недельку загляну домой. Как раз, видать, к первым инеям поспею. Думаю стариков своих сюда забрать – больно уж широкое тут раздолье.
А пока желаю тебе всего хорошего.
Сергей Полозов.
Письмо второе
Вера, еще раз здравствуй!
Вчера письмо отослать не успел – срочно надо было ехать в Крутую балку Антона Синеву выручать. А сейчас вот вспомнил, что об Игоре я так тебе ничего и не написал. Что ж, придется восполнять пробел. Только я не стану уж вскрывать конверт, лучше отправлю тебе сразу два письма. А отвезет их на базу, откуда у нас почту забирают, Антон. Я объявил ему такое наказание за слишком долгое «загорание» в балке.
Впрочем, наказания, кажется, не получилось, потому как слишком уж охотно принял Антон кару. Только лукаво усмехнулся. Я догадываюсь, конечно, в чем дело. У него у самого небось накопилось с полдюжины посланий. По преимуществу, разумеется, сердечного характера. И непременно в стихах. Я тебе из части еще писал, кажется, что Антон Синева – наш поэт. Ни один концерт художественной самодеятельности не обходился без него. Витька Заяц (он обычно ведущим был) нараспев и торжественно так объявлял:
– Антон Синева! Стихи собственного сочинения.
И Антон, раскрасневшийся, чернобровый, на щеках и на подбородке – ямочки, не торопясь выходил из-за кулис. И знаешь, своими стихами он побивал даже самых голосистых наших теноров. Я говорю «побивал» потому, что все девичьи аплодисменты (а на наших концертах нередко бывали девушки) доставались ему. Немного завистливый в этой области Витька Заяц досадливо выговаривал Антону:
– Пощадил бы гостей: ведь с мозолями на ладонях уходят.
Антон вырастал до потолка и еще отчаяннее падал в объятия музы.
Здесь он тоже не расстается с ней. Случается, даже ночью встанет, зажжет лампу, пододвинет поближе стул, на котором по армейской привычке укладывает всю свою амуницию, вытащит из кармана гимнастерки блокнот, карандаш – и ну строчить.
Вчера он нам читал свои стихи, которые написал уже здесь, на целине. Между прочим почти все про любовь и про какую-то недотрогу. И я почему-то подумал, что допеваются уже самые последние куплеты в холостяцкой песне Антона. Видать, быть скоро среди нас какой-то воспетой в стихах недотроге. Вырвет злодейка-любовь из нашей железной шеренги еще одну свою жертву, а там…
А там и наш черед наступит, чего доброго.
Ох, кажется, я слишком расписался. Прости меня, Вера, но такой уж чудный парень этот Антон, не устоял я перед соблазном написать тебе и о нем несколько строчек.
А вот и он сам. Как говорится, легок на помине. Идет от машины к окну, у которого я пишу. Что-то кричит. Ага, требует письма. Едет, значит, на центральную усадьбу.
Ну что ж, тогда кончаю. Жму твою руку. Хотя постой, об Игоре-то я опять не написал. Впрочем, сейчас уже не успеть: Антон протягивает в форточку руку. Придется писать третье письмо.
Будь здорова, Вера.
Сергей.
Письмо третье
Знаешь, Вера, я как в воду глядел, когда писал тебе о холостяцкой песне Антона. Кончилась она. Стихи сделали свое дело. Недотрога сдалась на милость победителя. Вчера он привез ее со станции. Она, правда, маленькая, выпрыгнула из кабины – чуть выше колеса, но собой хороша. Большущие серые глаза, под стать им ресницы. Поднимет их – и кажется, что ветерком на тебя пахнуло. И еще тугие две косы, а над бровями легкие, вьющиеся прядки…
Нет, видно, все-таки я не за свое дело взялся. Мне ли, не поэту, описать такую девушку?..
Словом, вкус у Антона что надо. Мы только затылки чесали. И кто мог сказать, о чем каждый в эту минуту думал? Знаю лишь, что Витька Заяц весь вечер писал что-то, пристроившись у тумбочки. Чует моя душа – быть нам скоро с Дятликом в одиночестве.
Хотя кто знает. Может, и Семен взял уже тот же прицел. Дело это такое – сердцу не прикажешь.
Но не буду об этом. Что тут гадать, все само собой сделается.
А недотрога – зовут ее Асей – славная девушка. И очень боевая, сразу всех нас под свою опеку взяла. Сегодня в общежитии милый такой командирский голос раздавался. Сейчас жилище наше не узнать: блестит все.
Мы, разумеется, очень довольны, хотя все, за исключением Дятлика, успели заработать у сероглазого командира по наряду вне очереди. Я и Витька – за неповоротливость, а Антон – за пререкания.
Однако я опять, кажется, увлекся и забыл о твоей просьбе. Ты, наверное, скажешь: ну и хорош этот Сергей, в третьем письме обещает ответить на вопрос, а пишет все о другом. Вернее, о других. Каюсь, Вера. Только дело тут не в забывчивости. Я нарочно написал тебе о наших ребятах и об Асе. Поставь теперь рядом с ними Игоря, и ты поймешь все без моих описаний. Могу только добавить, что сбежал он ночью, тайком. Вернулся из позднего рейса, мы все спали, он и собрал монатки. Буханку он взял из Витькиной тумбочки (Заяц у нас как бы нештатный начпрод).
Вот, пожалуй, и все, что я мог ответить на твои вопросы.
Еще раз жму твою руку.
Очень уважающий тебя Сергей Полозов.
P. S. Нет, про буханку-то он не забыл. Понимал, что без хлеба не обойтись. Э, да что говорить…
Пуговица

Взвод идет, затаптывая шестью десятками ног оставшиеся после дождя оспинки на песке. Оспинок много, вся линейка стала конопатой от них и потемнела. Лишь кое-где поблескивают, отражая куски закатного неба, небольшие лужицы, да там, где удалось сквозь деревья пробиться низко осевшему солнцу, легли поперек линейки золотыми шпалами его лучи. Взвод идет, как по шпалам.
Рядовой Григорий Бабенко невесело, из-под нахмуренных бровей смотрит через плечи впереди идущих – вдоль просеки. Смотрит, но, кажется, ничего не видит: мысли заняла жгучая и болезненная обида.
Он идет четвертым в первой шеренге, в затылок своему обидчику ефрейтору Шарипову. Плечи у Гамзата немного покаты, но он крепок и строен. С головы до ног глянешь на него – ладно сбит солдат. Что смуглый, стриженный под бокс затылок, что узкая и гибкая талия, что тугие икры, точно вбитые в кирзовые обручи голенищ, – всем вышел Гамзат Шарипов. И все это видно Григорию, давно знакомо до мелочей.
Только сейчас видит он не загорелый и крутоватый затылок Гамзата, а его лицо. Видит таким, каким оно было час назад, когда Гамзат выступал на комсомольском собрании. Смуглые широкие скулы чуть порозовели, в темных и обычно спокойных глазах прибавилось блеска. Так всегда бывало, когда Гамзат сердился. И когда он сердился, сильнее проявлялся его татарский акцент.
– Па-ачиму товарищ Бабенко тянет нас позади? Па-чиму забрал слово – не удержал его?
Голос Гамзата до сих пор звучит в ушах Григория, и он, Григорий, мысленно возражает, злится. «Почему, почему… Раскричался. А еще другом называется. Выслуживается, что ли?»
Обида становится все острее, и каждое слово Гамзата отдается сейчас еще больней, чем на собрании. «Нечестно, не по-комсомольски…» Да как он смеет так говорить! Ну не сдержал слово, провалил стрельбы – так что, теперь публично разносить? Упрекать в нечестности? И потом – разве не с каждым может оплошность выйти?.. Да вон у самого-то… пуговица на чехле лопаты…»
Григорий не верит своим глазам. Как на нежданную счастливую находку, смотрит он на полузастегнутую пуговицу. Лопата в такт шагу колышется на Гамзатовой ремне, и кажется, пуговица вот-вот выскочит из узенькой кожаной петли.
Григорию почему-то хочется, чтобы она выскочила побыстрее. Воображение его как-то невольно начинает рисовать картину: пуговица выскальзывает из петли, крышка чехла открывается, лопата выпадает, и вот уже сержант отчитывает Шарипова перед строем за ротозейство. Сержант обязательно говорит ему: «Вы понимаете, что своим поступком тянете весь взвод назад?»
Нет, это не сержант говорит, это он, Григорий, на перерыве как бы невзначай спрашивает: «Так кто это тянет нас назад?» Гамзат, конечно, сразу поймет намек…
Гамзат – продолжает рисоваться Григорию картина – стоит перед командиром красный и растерянный. А потом, повернувшись, отправляется искать лопату. Но тут он, Григорий, догоняет его и великодушно говорит: «Вот она, лопата. Бери. Я не такой…»
Пуговица все не выскальзывает из петли, но Григорий не сводит с нее глаз, она будто заворожила его. «А что, если чуть-чуть тронуть ее пальцем? – мелькает неожиданно в голове. У Григория в нетерпении чешется рука. – Да посмотреть бы потом на его физиономию…»
Размечтавшись, Григорий видит только полузастегнутую пуговицу и не замечает давно уже постреливающих в его сторону серых, чуть навыкате глаз ефрейтора Чубина. Тот идет рядом с Бабенко, узкоплечий и худощавый, с веснушками по переносью. Скатка делает его осанистее, скрадывая узость плеч, но сапоги все же выдают «малую кость»: самые узкие, какие только можно было подобрать, голенища излишне свободны на ногах, «гуляют» вокруг икр.
Линейка кончилась, строй повела полевая дорога. Лагерь, если оглянуться, утонул в лесу и затянулся первой сумеречью. Только вершины сосен над ним еще золотились, словно подсвеченные снизу.
Теперь уже недалеко то место, где взвод, перекурив, получит задачу и где начнутся ночные занятия. Еще двадцать – тридцать минут ходьбы.
Чубин снова скашивает глаза. Что такое? Как магнитом притянуло глаза Григория к лопате Гамзата. И в глазах уже не хмурость, а какой-то выжидательно затаившийся огонек. «Ах, вот в чем дело». Теперь и Чубин заметил полувыскользнувшую из петельки пуговицу. Еще один взгляд на Бабенко, один – на лопату Шарипова… Понимающая и хитроватая улыбка тронула обветренные губы ефрейтора.
…На перекур расположились в небольшой лощине. Как всегда, уже, кажется, по привычке, присели полукольцом вокруг Чубина. Он взводный балагур и презабавный рассказчик.
– Что приготовил нам уважаемый сочинитель на сегодня? – этот вопрос всегда задавал маленький, подвижной и говорливый Коля Колков. Обняв руками колени, он сел ближе всех к Чубину, готовый слушать.
Чубин, собираясь с мыслями, переспросил:
– Что приготовил? – Он оглядел всех и увидел Бабенко позади Гамзата. И то ли ему показалось, то ли… Нет, в самом деле рука Григория потянулась к чехлу Шарипова. Вот быстро отпрянула…
– А если я не сочинять, а спрашивать буду? – сделав вид, что ничего не заметил, продолжал Чубин. – Вот, например: что такое обида?
– Как это? – послышалось сразу несколько удивленных голосов.
– Да так. Обиделись вы, скажем, на своего друга. Или просто сослуживца. Может, он в чем-то оплошал, может… – Чубин сделал паузу, – покритиковал вас. Как поступите? – Чубин увидел, как, подняв голову, насторожился Григорий. – Ну вот хотя бы ты, Колков?
– Как поступлю? – вскинул на Чубина льняные брови Колков. – Ну, поговорю с ним, выясню…
– А навредить бы ты из чувства обиды мог? – уже напрямик спросил Чубин и снова мельком глянул на Григория. Тот по-прежнему настороженно слушал.
– Как это – навредить?
– Ну, допустим, ножку в чем-то подставить, подвох какой-либо устроить. А потом позлорадствовать…
– Это было бы не по-дружески, – сказал кто-то за спиной у Колкова. Ему отозвалось сразу несколько голосов:
– И подло.
– Конечно.
– Вот именно.
Потом еще одни голос спросил:
– А к чему это ты, Чубии?
– Да просто так. Мы ведь никогда на эту тему не говорили. А разве не бывает у нас обид?
– Хитер ты, – шутливо грозя Чубину пальцем, сказал Коля Колков. – Видно, заприметил что-то.
И в это самое время увидел Чубин, как снова потянулся Григорий к лопате Гамзата Шарипова.
А через минуту раздалась команда строиться. Командир взвода, светя фонариком, стал проверять подгонку снаряжения. Когда круглый снопик света, скользнув по скатке Гамзата, остановился на его лопате, Чубин увидел, что чехол застегнут.
А снопик, точно обрадовавшись, перескочил на спину соседа.








