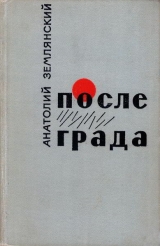
Текст книги "После града"
Автор книги: Анатолий Землянский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Живая душа

Дороге не было конца. Впрочем, какая это дорога. Каша в горчичном соусе. Проезжую часть так разбило и расквасило, что иглой не нащупать сухого места. Да и по обочинам расплескало жидкую, как подогретый холодец, грязь – идешь по ней, словно по самой черной неизвестности. Может, достанет тебе только до щиколотки, а может, так сиганешь, что перельется через голенище и неприятно лизнет мокрым холодом икру. Эх, дороги…
Лейтенант Василий Шелест, от природы неугомонный и веселый, подтрунивает над собой. «Шагай, шагай, веселый следопыт. Вот только выйдешь ли ты к заветной дорожной развилке, как это было подсказано тебе на станции? Выйдешь? Ну, ну, посмотрим».
Он шагал напрямик. Шагал тем расторопно широким шагом, какой вырабатывается, видно, только у курсантов военных училищ. И если в самом начале пути, чуть отойдя от станции, Шелест еще пытался беречь глянцевый блеск своих новеньких «выпускных» сапог, то теперь он махнул на них рукой: «По прибытии наведем глянцы».
Прибытие состоялось вечером. У дорожной развилки, где лейтенанту пришлось поджидать счастливой оказии, его принял в крытый кузов залепленный грязью военный грузовик. После получасовой тряской (будто попал ты в веялку) дороги он спрыгнул у зеленой будки КПП. Грузовик проследовал в распахнувшиеся перед ним ворота.
Короткий разговор по телефону с дежурным – и вот уже крепкого склада, большеголовый и высокий солдат повел Шелеста в гостиницу. Они шли рядом, и лейтенанту виден был грубоватый профиль провожатого, его нависший над глазами с пучком черной брови лоб, костистый нос, смуглая обветренная щека.
Солдат шел молча. А Шелест не мог молчать. Неведомо откуда подкравшееся волнение взбудоражило в нем, кажется, каждую жилку. Так, видимо, бывает с любым новичком, прибывшим к первому месту службы.
Чтобы хоть немного унять-волнение, Василий решил завязать разговор.
– У вас тут, выходит, и своя гостиница есть? – он дружелюбно посмотрел на солдата. Но тот даже не повернул головы. Вынув из кармана руку, он стал что-то подбрасывать и ловить. Шелест рассмотрел – это был спичечный коробок. И еще увидел Василий лукавую усмешку на тонких, иронического склада губах своего проводника.
Солдат тем временем заговорил.
– Есть гостиница. Сейчас увидите. – Он сделал недвусмысленное ударение на слове «гостиница».
Будто не расслышав иронии, Василий продолжал спрашивать:
– А еще что хорошее есть?
Солдат снова улыбнулся.
– Есть и овощ в огороде – хрен да луковица, есть и медная посуда – крест да пуговица.
– Ого, – засмеялся Шелест, – да вам, видать, палец в рот по клади. Критичный парень, острый.
– Поживете в этой скучище, товарищ лейтенант, тоже заостритесь.
– Выходит, скучно у вас?
– Скучно.
– Что так?
– До города далеко, в деревню пойдешь – самоволкой считается. В клубе старые фильмы крутят – от них уже в глазах рябит.
– Что ж вы сами ничего не придумаете?
Солдат, подбросив коробок еще раз, спрятал его в карман.
– Кто это – сами?
– Ну, комсомольцы, молодежь. Самодеятельность бы организовали. Экскурсию.
– Эх, товарищ лейтенант, комсомольцы наши если что и делают, так это на собраниях штаны протирают. Одни говорят, другие подремывают. Словом, сами увидите. А сейчас – вот гостиница.
Он показал на приютившийся по-бедняцки в самом отдаленном уголке городка маленький, в два оконца, приземистый домик.
– Вход с той стороны. Кланяйтесь дверям, а то ушибетесь. Там вас солдат по прозванию Алеша Коротыш встретит.
Обижаться ему за столь фамильярную речь на солдата или промолчать? Василий выбрал второе и, отпустив провожатого, шагнул к домику. В передних окнах почему-то не было света, но со стороны входа, рядом с дверями, одно светилось. Шелест глянул в него и замер: у открытой печки, в которой вовсю полыхали дрова, сидел на табуретке солдат и виртуозно играл на балалайке. Лейтенант даже не понял сначала, что он делает с бедным инструментом. Балалайка то покорно лежала у него на коленях, то вдруг взлетала в воздух, скрывалась за спиной музыканта, не переставая в то же время издавать звуки, то снова замирала под лихорадочной рукой солдата. И так старательно, так звонко и чисто выпевали струны простенькую мелодию «Светит месяц», что Василию показалась она совсем новой, только что услышанной. Сам заядлый музыкант, он впервые за все время, проведенное в пути, пожалел, что не взял с собой баяна.
Солдат, будто почувствовав, что его кто-то слушает, неожиданно оборвал игру. Василий толкнул дверь и, наклонившись, шагнул через порог.
***
Спустя несколько дней в отдельном батальоне, куда Шелест был рекомендован секретарем комитета комсомола, состоялось отчетно-выборное комсомольское собрание. Василий в первую же минуту вспомнил слова провожавшего его в гостиницу солдата о том, что тут на комсомольских собраниях «одни говорят, другие подремывают». Да и на перерывах, оказывается, не лучше. Вон как невесело встали, пошли, растекаются по всему клубу.
Какая-то струнка не выдержала у Василия, он встал, ушел за кулисы – искать начальника клуба. А через минуту, взорвав тишину, в фойе заиграл баян. Люди вздрогнули, заулыбались и потекли отовсюду на торопливый переливчатый голос. А баян будто только набирал пары, живые и разливистые переборы его с неторопливо-гортанным придыханием басов звали все властнее и ласковее.
Играл лейтенант Шелест. Белобрысый, с развалившейся надвое светлой шевелюрой, он широко улыбался и задорно выкрикивал:
– Песенники налево, плясуны направо. Кто горазд трепака?
Кончилось минутное замешательство, прекратились переглядывания, и вот уже в кругу первый «танцепроходчик» – коренастый, с короткой прической кругляш. Плавно пошел солдат, с раздумьем, с кокетством, этакой павой, потом, словно передумав, наклонился и рассыпал замысловатую дробь ладоней по голенищам, бедрам, плечам. Шелест от удивления даже головой качнул: «Лешка Коротыш и тут мастак. Ай да Лешка».
А кругом шумели:
– Поддай, Гапонов.
– Ходит хата, ходит печь…
– Коля, а ты что скромничаешь?..
Подошел комбат, слегка лысеющий, но еще моложавый, подтянутый подполковник Ремнев. Одобрительно кивнул Шелесту и, улыбаясь, загляделся на плясунов. Потом поискал кого-то глазами – нашел: по ту сторону круга стояли замполит батальона майор Шикин и секретарь парткома капитан Козырев. Переглянулись. «Нравится?» – спросили из-под густых, сросшихся на переносице бровей глаза Шикина. «Хороший парень», – взглядом же ответил капитан. Глаза Ремнева неопределенно сузились, брови вскинулись и опустились: мол, поживем – увидим.
А в кругу уже лихо отплясывали четверо. Пол слегка прогибался и поскрипывал. Шелест по-прежнему широко улыбался, пальцы его проворно и знающе плели музыкальные узоры. Увидев напротив себя подполковника Ремнева, Василий озорно показал на него взглядом одному из плясунов, и тот, широко и плавно пройдясь по кругу, вдруг лихо ударил перед комбатом вприсядку. Ремнев растерянно и виновато улыбнулся, точно прося пощады, но фойе безжалостно наполнилось аплодисментами, а почти у самых ног подполковника, вызывая на танец, били дробь уже все четыре плясуна.
Комбат глянул на Шикина и Козырева – те тоже, смеясь, аплодировали. Махнув с шутливой безнадежностью рукой, машинально поправив китель, Ремнев пошел в круг…
Потом все вместе пели. И удивлялись – каждый про себя: как хорошо получается. Но друг другу ничего не сказали. Только, сидя в президиуме, подполковник Ремнев с какой-то раздумчивостью в голосе сказал Шикииу:
– Знаешь, я, брат, давно не был так близок к солдатам, как сегодня.
Шикин улыбнулся и одобрительно закивал…
***
После собрания капитан Козырев, выходя из клуба, взял под руку Шелеста. Тихо, как бы мимоходом, поймал его правую руку, крепко пожал ее (мол, поздравляю) и спросил:
– В общежитие? Пошли вместе.
Ночь выдалась ясная. Как воткнутые в ночную мякоть неба необычно большие светящиеся бусинки, висели над городком звезды. Под ногами мягко шуршал опавший лист. Разговаривая, вышли за КПП, взяли вправо, к офицерским домикам.
– Что ж, Василий, – говорил парторг, – комсомольцы свою волю выразили. Теперь за тобой слово. И скажу тебе сразу: держи плечи круче. Работы много. – Козырев произнес последнее слово в растяжечку, певуче, как бы подчеркивая, что нисколько не преувеличивает.
– Чувствую, – тоже с убедительностью протянул Шелест и спросил: – А кто этот рядовой Жмуров, о котором так много говорили сегодня?
Козырев помрачнел.
– Это из второй роты. С заковыкой солдат. – И, помолчав, словно нехотя, добавил: – На гауптвахте он. За самоволку. Выйдет – разбирать его будут на ротном собрании.
***
Во второй роте лейтенанта Шелеста ждала встреча со старым знакомым – солдатом, провожавшим его когда-то от КПП до гостиницы. Узнав от дневального, что секретарь комсомольской организации сержант Шоркин находится в ленинской комнате, Василий направился туда и, едва переступив порог, увидел знакомое лицо. Солдат стоял, наклонившись над полуразобранной гармошкой. Размышляя над чем-то, он подбрасывал в руке миниатюрную отверточку. Глаза их встретились. Василий подошел, подал руку.
– Гора с горой… – пошутил. У солдата оказалась сильная, с шершавой ладонью рука. – А вот как величают вас, я тогда и не спросил.
– Андреем Жмуровым величают.
– Жмуровым? – переспросил не в силах скрыть удивления Шелест. И подумал: «Так вот, оказывается, о ком идет в батальоне такая худая слава».
Жмуров заметил удивление и внезапно засветившийся в глазах лейтенанта настороженный огонек. Понял, в чем дело.
– Небось уже наслышались обо мне, товарищ лейтенант? – Отверточка стала взлетать над его ладонью выше.
– Не наслышался, но слыхал, – напрямик ответил Василий, и решил переменить разговор. – Да вы, оказывается, мастер?
– Приходилось иметь дело. И сейчас вот в охотку взялся. А то и поиграть не на чем.
– Играете?
– Так, маленько.
– А мы как раз свою самодеятельность думаем организовать. Хотите записаться?
– А чего ж, дело хорошее. Только… – он замялся.
– Что – только?
– Вряд ли что получится из этой затеи. Тропку такую у нас торили, торили… К какому-либо празднику проторят, а потом она снова быльем порастает.
– Так от нас же самих все зависит.
Жмуров как-то необычно передернул лохматыми бровями – одна поднялась вверх, вторая сползла чуть ли не до середины глаза, – но ничего не сказал. И Василий понял, что этого упрямца можно убедить только делом.
***
Василий начал вести дневник. Пока что в простой школьной тетрадке, где он на полях ставил дату, а по линейкам галопом пускал угловатую размашистую конницу строчек, было всего три записи:
14 октября, среда.
Что ж, Василий, комсомольцы свою волю выразили. Теперь за тобой слово». Это сказал мне сегодня после собрания парторг. Каким-то оно будет – мое слово?
Дел уйма. И кажется, есть заковыки. Какой-то Жмуров, комсомолец, во всем батальоне – притча во языцех. Он мне, наверное, сегодня во сне приснится.
16 октября, пятница.
Проводил бюро. Обсуждали один-единственный вопрос – о роли комсомольских организаций в укреплении дисциплины. Но вдруг из него, как из рога изобилия, высыпалось около дюжины маленьких вопросиков.
Маленьких? Нет. Тоже больших и важных. Первое – изгнание скуки. А это значит: а) умело отдыхать, б) организовать художественную самодеятельность, в) выпускать стенгазеты, г) сделать свой кинофильм. Второе – объявить войну сквернословию…
Вывод ясен: всем сообща браться за дело.
17 октября, суббота.
Жмуров-то, оказывается, мой старый знакомый. Нет, его исключать нельзя. Неплохой он. А протереть надо. И с песочком.
***
Собрание проходило в ленинской комнате. Комсомольцы собрались как-то разом. Валом вошли, молча расселись за столами, стали ждать. Жмуров вошел последним, сел в самом дальнем углу, полез в карман. Достал спичечную коробку, подбросил, но тут же, будто спохватившись, сунул обратно. Не зная, куда смотреть, уставился в пол.
Сержант Шоркин открыл собрание.
Первым попросил слова ефрейтор Жолудь, книголюб и неутомимый рассказчик всевозможных былей и небылиц, знаток дат, необыкновенных историй и знаменитых имен. Он не торопясь поднялся и, протискиваясь между стульями, пошел к трибуне.
– Где-то я читал (конечно же, он не мог не упомянуть о книге) шуточный рассказ, как надо готовить к употреблению чайку. Надо-де привязать к лапке веревочку, вскипятить котел воды, опустить туда чайку, вынуть, снова опустить. Так несколько раз. Потом, – Жолудь сделал паузу, – надо чайку выбросить. Все равно она к употреблению не годна.
Все встрепенулись, подняли на оратора удивленные взгляды. А он продолжал:
– Шутка эта не простая. Она в данном случае о Жмурове. Сколько ни варим мы его в нашем солдатском котле, а он остается все тем же. Потому как не гож для честной службы. Он неисправим. И не место ему в комсомоле.
И тут тишине пришел конец. Последние слова Жолудя потонули в нараставшем гуле.
– Насчет чайки ты это брось! – басовито раздалось из самого дальнего угла. Все обернулись и увидели: говорил красный как рак Жмуров.
Потом другие голоса:
– Перехватил малость, Жолудь…
– А что – правильно!
– Со Жмурова сознательности – что с гуся воды.
– Слова прошу. Прошу слова…
К трибуне вышел рядовой Носов. И снова все приутихли: Носов был близким другом Жмурова. Он об этом и заговорил.
– Вы знаете, я дружу со Жмуровым. Много его тайн знаю. Он мои знает. Но сегодня, кажется, любая дружба криком закричит. Два раза комсомолец Жмуров обещал исправиться – на ветер пустил слова. Да он и в комсомол-то обманным путем попал…
Опять – удивленные взгляды, полуоткрытые рты, в том числе и замерший на полуслове рот оторопевшего Жмурова.
– Объясни! – голос с места.
– Охотно. Я говорю обманным потому, что в заявлении о приеме Жмуров писал небось клятвы да обещания, а потом отступился от своих слов. Да он просто частный собственник: мне, мол, все можно, а от меня ничего не требуйте…
– Правильно говоришь, Носов, – не выдержал кто-то.
– Верно…
– В точку рубит…
– Дайте мне слово…
Снова загудело собрание. Жмуров наклонялся все ниже. Заходившее солнце через окно пучком лучей упало ему на смуглый, в редких конопатинах лоб, и все увидели на нем крупные капли пота.
Последним выступил лейтенант Шелест.
***
В дневнике Василия записей прибавлялось:
19 октября, понедельник.
Разбирали Жмурова. Досталось парню. Еле удалось сдержать страсти. Вот только что скажут комбат, майор Шикин и капитан Козырев? Правильно ли я поступил?
20 октября, вторник.
Они сказали: правильно.
***
Дела захватывали лейтенанта Шелеста все больше, и он с головой окунался в их кипучую круговерть. После нескольких ясных дней полили дожди, а потом однажды к вечеру дохнуло с черневших в отдалении полей так ледяно и знобко, что на окнах проступила жилистая и прозрачная вязь первого обледка. А утром, когда солдаты выбежали на физзарядку, белые нательные сорочки их растворились на фоне первозданно чистого снега. Его мело и переметало порывистым колючим ветром.
Василий записал в этот день: «Надо же, у молодых солдат сегодня первые стрельбы – и такая погодка. Впрочем, это хорошо. С трудного начинать лучше.
Но поговорить с комсомольцами все-таки нужно.
До вечера, товарищ дневник. Вечер сегодня мудренее утра…»
Вечером запись была продолжена:
«Молодцы комсомольцы. Хоть и не блестяще, но и далеко не плохо. А Жмуров-то, Жмуров! Лучший результат в роте. Нет, начало хорошее. Так и комбат сказал.
Теперь – за подготовку к учениям.
И еще самодеятельность. Через неделю – первый концерт»,
***
Долго будут помнить в батальоне этот концерт. Будут помнить чародейскую балалайку Леши Коротыша – она, вся изливаясь звуками, виртуозно отплясывала у солдата на коленях, взлетая, поворачиваясь и кружась. Неведомо, что ее бросало, каким это волшебством передавалась ей та сила, которая так захватила и повергла в изумленное молчание добрые две сотни людей!
Потом четверо пели – вокальный квартет. Аккомпанировал Жмуров. А когда певцы ушли, он играл один. Играл задушевно, не глядя в зал, будто забыв, что вышел на сцену и что слушает его весь батальон…
Шелест вел концерт. А перед последним номером сам вышел с баяном. Сам объявил:
– Полонез Огинского…
Шевелюра надвое. Мороз уже тронул и чуть осмуглил лицо, отчего еще ярче молодая и заразительная улыбка.
Пальцы коснулись перламутра пуговиц, из-под них брызнули первые звуки, перешедшие тут же в грустно-мятежную мелодию. И в ней, как в волне, стала растворяться улыбка Василия. А глаза продолжали смеяться.
В первом ряду сидели офицеры. Капитан Козырев наклонился к майору Шикину, вполголоса сказал:
– Грустит и радуется наш Василий. Жена едет к нему.
Шикин понимающе кивнул.
А музыка уже неистовствовала во всем зале. Она не терпела ни одного равнодушного сердца – и таких не было. И даже когда умолк баян, она, казалось, продолжала звучать, пока через мгновение не обрушился водопад аплодисментов.
Потом была пляска. Откуда только и взялось у этих шестерых солдат столько прыти, столько стремительного лада с музыкой, такое умение разговаривать каблуками, переходить вприсядку, взлетать, как на пружинах, в воздух. Сидевшие в зале узнавали и не узнавали своих сослуживцев, ахали, довольные, держа наготове побаливающие уже ладони. А когда пляска вместе с дружным вскриком оборвалась и танцующие замерли, фиксируя последнее, как бы заключительное па, десятки голосов закричали:
– Би-ис!..
– Повтори-ить!..
– Би-ис!..
…Выходя из клуба, майор Шикин сказал подполковнику Ремневу:
– А молодец наш Шелест, раскачал комсомолию.
– Молодец, – довольным голосом подтвердил комбат. – Живая душа парень, ничего не скажешь.
Роты с песнями расходились от клуба.
Василий вышел последним, загляделся на звезды. Прислушался. И в хрусте снега под шагом удалявшегося строя почудился ему шум поезда.
– Едет… – сказал вполголоса.
На осенней дороге

Добрый час простоял я у незнакомой развилки дорог, поджидая попутную машину. Мне сказали, что хотя и не часто, но машины все-таки ходят здесь, с трудом одолевая те сорок километров, которые отделяют Сосновку от Зеленовязовского лесопильного завода.
А дорога здесь, как я вскоре убедился, в самом деле тяжелая: выбоина на выбоине, скос на скосе. В низинах же и на размытостях – матово-смоляные заводи грязи. И как угадать шоферу, что кроется там, под этой вязкой топью, – твердый грунт или метровой глубины впадина? Потому и рулит водитель на авось. А чуть зазеваешься – грузовик сползет колесом так, что в вязкой черной жиже скрываются подфарники. Буксуй тогда, поминай чертей с матушками…
Приехал я в эти места по просьбе своей племянницы, которую не видел ровно восемь лет. Путь от Брянщины до нашей енисейской глуши неблизок и нелегок. А Машенька к тому же все училась. Сначала в школе, после – в ремесленном. Потом стала работать и опять учиться – в вечернем техникуме. Так и пролетело восемь лет.
А теперь письмо от нее пришло. Радостное такое. Буковки, кажется, так и прыгают в нем. Я его наизусть запомнил. Пишет: «Выхожу я, дядя Михей, замуж. За кого? Ты его не знаешь, и я не стану описывать. Для меня он лучше всех, а вообще – обыкновенный человек. Приезжай на свадьбу – посмотришь. Обязательно приезжай. Это наша совместная просьба. Ждем тебя очень…»
Как можно было не уважить такую просьбу? И вот – я в окрестностях Зеленого Вяза. Поезд, несколько суток качавший меня на полке плацкартного вагона, уже давно ушел, над приткнувшимся к железной дороге унылым косогором быстро растаял его серый дымок.
Я стоял на пригорке, чтобы дальше было видно в сторону Зеленого Вяза. Туда убегала разбитая ненастьем дорога; черной лентой петляла она промеж озимых хлебов. А пропадала где-то там, откуда выступал негустой, по-осеннему унылый березнячок.
Из него-то, этого березнячка, и выползла – увидел я – какая-то горбатенькая и неповоротливая трехтонка. Накреняясь то вправо, то влево, то вдруг тыкаясь носом в колдобины, она шла и, казалось, принюхивалась к дороге, стараясь выбрать места потверже и понадежней.
Выглядел грузовик неказисто. Залепленный грязью, с покореженными крышками, он будто только что вышел из тяжелой фронтовой переделки.
Я успел промокнуть весь до нитки и с нетерпением ждал, когда наконец укроюсь в кабине этого грузовичка. Еще издали мне удалось рассмотреть, что рядом с шофером никого не было.
Машина с воем и фырканьем взобралась на пригорок, я «проголосовал», и шофер, поравнявшись со мной, остановил машину.
– До Сосновки не подбросишь?
– Садись, что с тобой поделаешь, – громко отозвался шофер.
Он открыл дверцу и, пока я садился, с сочувственной улыбкой рассматривал меня.
Поздоровавшись, я тоже глянул на него, но не нашел в этом парне ничего примечательного. Под реденькими, цвета вылинявшей рогожи бровями – серые глаза. Приветливые и в то же время с тенью не то разочарования, не то обиды. На висок из-под форменной армейской фуражки раскосмаченной прядью выбились светлые волосы. Лоб и щеки обветрены. Над карманом вылинявшей гимнастерки – комсомольский значок.
Встретив мой взгляд, шофер отвернулся, включил сцепление и тронул машину. Задрожав всем корпусом, трехтонка послушно покатилась под гору. На смотровом стекле еще живее закопошились серыми пузырьками дождевые капли, которые тотчас смазало «дворником».
– К вечерку-то причалим? – спросил я, отмечая про себя, что мой сосед, пожалуй, слишком молод. Правда, синеватая татуировка на запястье его правой руки говорила, казалось бы, о другом. Пронзенное стрелой сердце намекало, что перед вами не какой-нибудь мальчишка, а видавший виды «Сергей К.». В остальном же это был, по первому взгляду, совсем еще зеленый и не очень тертый жизнью юноша.
– К вечерку? – не поворачивая головы, переспросил Сергей и посмотрел на часы… – Вполне. Если, конечно, не приголубит какая-либо колдобина.
– Кто-нибудь вытащит, – бодро ответил я. – Свет не без добрых людей.
Сергей невесело улыбнулся и глянул на меня так, будто сидел перед ним не пожилой в морщинах и с проседью человек, а не успевший еще по-настоящему приглядеться к терниям жизни мамин сынок.
– А вы их много видели, добрых-то? – холодно спросил он.
– Случалось, – шутливо ответил я. – Вот и сейчас вижу.
Сергей не принял шутки, промолчал. А я опять к нему:
– Что ж ты, Сергей, так на людей обижен?
Он удивленно вскинул брови (откуда мол, тебе мое имя известно), потом глянул на татуировку, понимающе улыбнулся. Но заговорил резко и раздраженно:
– Не обижен я. За что на них обижаться? Только знаю, что каждый человек – прежде всего себе самому приятель…
Теперь в глазах его вовсю разгорелся огонек, который показался мне вначале неопределенным. Так обычно смотрит человек, если с ним обошлись черство и нечутко.
Сергей продолжал:
– Вот послали меня за сорок верст на этом драндулете. За тесом. И гляди-ка – шиш везу. На авось послали. А мне, может быть, сегодня, как глоток воды при смерти, дома надо быть. Вот и судите тут…
– Ты случаем рассержен, Сергей?..
– Случаем? – распаляясь, перебил он меня. – Да ежели хочешь, папаша, я тебе сто примеров назову. Вот третьего дня…
Сергей не договорил, что произошло третьего дня. Грузовик наш вдруг сильно накренился, запыхтел, раза два стрельнул из выхлопа и остановился. Шофер переключил скорость, и мотор заревел с новой силой. Но в ответ послышалось лишь отчаянное жужжание буксовавших задних колес. Я почувствовал, как машина, медленно оседая, все больше кренится вправо.
– Вот и приголубило, – с поразившим меня спокойствием сказал Сергей. Он с грустью посмотрел на часы, чертыхнулся и, взяв лежавшую рядом с ним замасленную кацавейку, не выключив мотора, вышел из кабины.
Крестя про себя крепкими словами дорогу, вышел и я. И тотчас убедился, что дело наше не из веселых. Машина, слишком близко подойдя к кювету, не удержалась на его размокшей кромке и сползла вниз. Хорошо еще, что кювет был старый и наполовину замытый песком. Кромка его была не обрывистой, а пологой. В ней-то и загрузло почти по самую ступицу правое колесо. Левое от пробуксовки тоже успело осесть. Мотор работал на малых оборотах, и грузовик едва заметно дрожал, будто не мог отдышаться после своего нелегкого ползания по грязи.
В поле не было ни души. С прежней методичностью сыпал мелкий дождь, заслонив, будто размазав, все, что виднелось окрест.
Поразмыслив немного, Сергей полез в кузов и одно за другим выбросил оттуда лопату, два грязных горбыля и топор.
Спрыгнув прямо в грязь, он принялся подкладывать горбыли под колесо. Я в нерешительности глянул на свои сапоги, на промокшее пальто, потом махнул рукой и стал молча помогать ему. Вскоре горбыли были подведены, топор и лопата отложены в сторону, и Сергей сел за руль, Мотор взревел, послышался легкий треск. В одно мгновение наш долгий и кропотливый труд взялся прахом. Горбыли утонули в грязи, выскользнули из-под шин, а колеса осели еще глубже.
Мы повторили все сначала, только горбыли положили уже поперек. Но теперь изношенная резина вхолостую скользила по их обломанным ребрам. Мелкие, перемешанные с грязью куски древесины брызгами разлетались в стороны.
Первый раз за все время Сергей со смаком, по-шоферски выругался. Он снова задумался, только смотрел уже не на загрузлые колеса, а в сторону от дороги. Там что-то темнело, похожее на кустарник.
Наклонившись, чтобы загородиться от дождя, Сергей опять посмотрел на часы.
– Знаешь что, папаша, – повернулся он ко мне, – не мокни зря, полезай в кабину. А я до тех вон кустиков за хворостом сбегаю.
– Что ж ты один? Бери уж и меня.
– Ну что ж, пошли, коли не лень. Захвати тогда топор. Протянув руку в кабину, он заглушил мотор, взял из-под сиденья веревку, еще раз глянул с беспокойством под кузов и торопливо зашлепал через кювет в сторону кустарника. Я тут же догнал его, и мы пошли рядом.
Очень трудно идти в дождь по размокшему полю, с которого недавно убрали картофель. Ноги скользят, по щиколотки увязают в раскисшей земле, путаются в полусгнившей ботве. Пропади ты пропадом такое плавание! Но нам обоим хочется к вечеру попасть в Сосновку, и мы терпеливо отмеряем шаг за шагом.
Особенно прыток Сергей. И ноги не длинны у него, и шаг вроде не забористый, но я еле успеваю держать равнение.
– Торопишься? – спрашиваю у него, чтобы хоть что-нибудь сказать.
– Есть маленько.
Мне чудится, что в его серых глазах появляется новое выражение. Зрачки начинают живо и тепло улыбаться.
– На свидание небось?
Теперь и все лицо его теряет угрюмость, расплывается в широкой улыбке.
– Хуже, папаша. – Сергей откровенно смеется. Я чувствую, как весь он наполняется непонятной для меня радостью, будто начинает изнутри светиться. – Свадьба у меня сегодня… должна быть. Решил покончить с холостяцкой жизнью, а тут вот…
В голосе Сергея нескрываемая грусть, а глаза продолжают лучиться и чему-то улыбаться. Конец веревки, которую он несет в руке, тянется по земле. Пораженный и растерявшийся, я бессмысленно слежу за извивающимся по земле мокрым, разлохмаченным и грязным ее хвостом. «Так вот откуда его обида и разочарование в людях», – думаю я.
Больше мне ни о чем не хочется говорить, и я заметно вырываюсь вперед, а он догоняет меня. И тут только возникла у меня мысль: «На свадьбу? Постой, а не он ли, этот «Сергей К.», зять мой? Или в Сосновке сегодня не одна свадьба?»
Я останавливаюсь. Мне хочется тут же расспросить Сергея обо всем. Но я быстро меняю курс. Думаю, стоп: если он действительно жених Машеньки, так лучше я рассмотрю его, так сказать с замаскированных позиций. Останусь, как это говорят, инкогнито. А если нет, об этом никогда не поздно узнать. На том и порешил.
Мы уже почти вплотную подошли к кустарнику, когда порыв ветра донес до нас приглушенный гул. Он быстро пропал, унесенный тем же ветром, но Сергей замер на месте, прислушиваясь. Остановился и я, только ничего не уловил, кроме глухого шороха кустов. А Сергей вдруг радостно закричал:
– Машина идет! Эх, черт, вот так здорово. Включай четвертую, папаша…
С непостижимой легкостью сняло Сергея с места. Через минуту он был от меня так далеко, что я и не пытался догнать его. Но, конечно, тоже побежал. Теперь и я слышал шум приближавшейся машины. Он доносился с той же стороны, откуда ехали мы. И гул этот подстегивал меня не меньше, чем Сергея.
Я перевалил через кювет, когда Сергей, запыхавшийся, но повеселевший, стоял уже возле своей беспомощно покосившейся трехтонки.
Машина приближалась к нам не торопясь, но уверенно. Был это шедший порожняком тяжелый трехосный грузовик. Он смело вползал в самые широкие лужи, властно гнал перед собой волны грязи и неторопливо, со спокойной уверенностью выбирался на пологий раскатанный берег.
Сергей с восхищением следил за грузовиком и, словно желая подбодрить меня, повторял:
– Ишь прет, ишь прет! Без разбору лезет.
Он метнулся к своей машине, встал на подножку, лихо перемахнул в кузов и тут же спрыгнул на землю, держа в руках небольшой металлический трос. В следующую минуту он уже крепил трос к передним буксирным крюкам, радостно приговаривая:
– Этот без труда нашу матрешку вытащит. Вот как пить дать. Это, мил друг, сильная штука. Трехосник…
Трехосник держался противоположной обочины. За его рулем мы успели разглядеть крупнолицего, смуглого человека лет тридцати в лихо откинутой почти на самую макушку черной кепке.
– Помоги, мил друг! – крикнул Сергей, как только грузовик поравнялся с нами. – А то, брат, хоть ночуй тут. – И Сергей дружески засмеялся.
Грузовик замедлил ход, в открывшейся дверце кабины показался водитель.
– Не могу, дорогой! – полунаклонившись в нашу сторону, прокричал он. – Бензинчику маловато. Да и спешу до зарезу. – Для убедительности он провел ладонью по горлу.
– Бензинчику подбавим, – горячо отозвался Сергей. – А делов тут – минута. – В голосе его звучала откровенная мольба.
– Не могу, ей-бо, – повторил водитель трехосника и, захлопнув дверцу, прибавил газу.
– Слушай, друг, ну что ж ты так! – в отчаянии закричал Сергей, бросившись за машиной. Но та, обдав его облаком сизого дыма, продолжала набирать скорость.
Сергей застыл на месте. Кирзовые сапоги его утопали в грязи, ко лбу прилип комок белых волос, пальцы бессмысленно перебирали концы веревки. Потухшим взглядом смотрел он в след удалявшемуся трехоснику. На горле у него, в том месте, где были расстегнуты верхние пуговицы гимнастерки, раза два дернулся острый продолговатый кадык – точно Сергей с большим трудом что-то проглотил.
Грузовик скоро пропал из виду, а мы с Сергеем, не сговариваясь, молча перебрались через кювет и опять поплелись к маячившим в отдалении кустам.
Сергей долго молчал, потом сказал:
– Вот он, папаша, свет, и вот они – добрые люди.
Мне нечего было ответить, и я промолчал.








