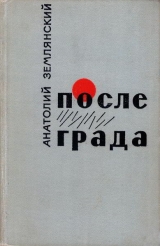
Текст книги "После града"
Автор книги: Анатолий Землянский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
То, что было в записке, дошло до него как оглушение от удара. Сначала его коснулась острая, будто ожог, боль, а потом стало заливать все вокруг тупое и яростное оцепенение. И он стал тонуть в нем, как в паводке.
Он знал, что Женя удивленно смотрит на него, поэтому зачем-то попросил ее оставить его одного. Он не знал, сколько сидел, склонившись над столом, не помнил, как, поднявшись, заметил в углу флягу, как наливал из нее и залпом пил…
И еще он не знал, что Женя только вышла, а не ушла. Она стояла за дверью, обескураженная, растерянная, не зная, как поступить дальше.
И конечно же, Емельян не знал, что сейчас вот, сию минуту произойдет что-то непоправимое. И даже больше чем непоправимое – это невозможно выразить словами. Да и о каких непоправимостях он мог сейчас думать, кроме одной: кроме утраты Маринки? Как же она могла так?.. А ее слова… тогда, на станции, после его выздоровления?.. А письма? Совсем недавние письма?.. Как же она могла так?.. Все это вспыхивало в сознании обрывочными беспорядочными импульсами, смешивалось, скатывалось в клубок, угасало и – опять вспыхивало. «Маринка, как же ты могла – так?..»
Боль была необъяснимо жестокой и потому нестерпимой. И, будто спасаясь от нее, он пошел из землянки. Он раскрыл двери, с минуту постоял, потом, не замечая Жени, быстро шагнул вперед.
На выходе из-под наката Емельян вдруг повернул не в ход сообщения, а к ступенькам, что поднимались из траншеи. Женя бросилась за ним:
– Товарищ капитан!..
И что-то тотчас ответило ей, только она не разобрала, чей это был голос и был ли это голос вообще. Потому что возник он, как гром падающих камней – дробяще-гулкий, резкий и неприятный. Возникнув, этот гром стал медленно падать и словно потянул за собой к земле Емельяна, а потом и ее.
Больше она не слышала этого звука. Она не смогла понять, голос это был или гром, не видела, поднялся ли Емельян. Последнее, что она видела, была тощая вершина сосны, которая почему-то не просто покачивалась на фоне синего неба, а как бы описывала круги. Правильные, все замедляющиеся круги. На них сверху и со всех сторон наползала густая, похожая на деготь темнота. Когда круги стали совсем маленькими, темнота замкнулась над ними.
А над Емельяном не было ни кругов, ни похожей на деготь темноты, ни верхушек сосен. Он лежал ничком.
В землянку мы его втащили, не видя, что в левой, уже безжизненной его руке белеет скомканный листок бумаги. Когда Емельяна перевязывали, он глухо стонал и временами произносил одну и ту же фразу:
– А я так верил…
На этот раз в него стрелял не снайпер. Ключицу и всю плечевую кость раздробило ему из пулемета. Прицельной, рассчитанной очередью, часть которой досталась Жене: две пули пробили ей грудь и шею.
В тот же день Женю похоронили, а Емельяна отправили в тыл.
Мы все провожали его, а вернувшись с эвакопункта, увидели на столе, рядом с фотографией Марины, мятую, измазанную землей и кровью записку. Прочитали сильно растянутые, редко брошенные по листку строчки:
«Может, ты удивишься этому, Емельян, но я иначе не могу. Ни в чем я не буду тебя упрекать. Только и ты не упрекай меня. Так уж получается у нас. Я выхожу замуж. Поэтому писать мне не надо. Желаю тебе счастья. Марина».
Клеточки на бумаге были крупными и четкими, и мелкие Маринины буковки смотрели на нас словно бы из-за частой и плотной решетки. А потом вдруг они начинали казаться нам надписью, что сделал Звездин на столбике, поднявшемся над Жениной могилой…
Записка побывала в руках каждого из нас, но особенно запомнилась она мне в руках Звездина. Прочитав ее, он долго смотрел в одну точку стола, обхватив ладонями голову и запустив пальцы в длинные сыпучие волосы, потом поднялся, спокойно и жестко сказал:
– Мы будем ее судить. – Подумав, добавил: – За измену.
– Кого ее? – спросил Шалаев.
– Ее, – с той же жесткостью ответил Звездин, показав глазами на фотографию. – Суд, пусть заочный, но должен состояться. Я предлагаю – расстрел.
Мы в недоумении смотрели на него, а оп уже брал со стола фотографию. Заметив, что мы молчим, спросил:
– Других предложений нет?
Мы пожали плечами.
– Тогда пошли.
Миновав штаб, мы спустились в лощину и по той самой просеке, по которой Емельян уезжал на Урал и по которой его, тяжело раненного, увезли сегодня в тыл, вышли к небольшой лесной поляне. На ней уже кустилась низкорослая зелень, пересыпанная ранним лесным разноцветьем. Из глубины сосняка густо и утомляюще тянуло живицей, прелой хвоей и бодрящим запахом молодого папоротника.
А над всем лесом висела плотная майская синь. Вершины сосен качались, и казалось, что это они, гигантские раскидистые кисти, так ровно и тонко выкрасили небо. Лишь над поляной оно было посветлее, и мы, точно забыв, зачем пришли сюда, долго смотрели вверх, ничего не говоря друг другу. Мы и за всю дорогу не обмолвились ни словом, каждый думал о чем-то своем. А скорее всего, каждый думал о случившемся. Потому что нельзя было не думать об этом столь нелепом и так потрясшем нас случае.
Да, фронт есть фронт. Да, и ранение и смерть здесь не в диковинку. Ко всему мы были готовы и привычны. Но причина гибели Жени и увечья Емельяна не укладывалась в нашем сознании и не могла быть оправдана. Тем более Звездиным. Он все делал, чтобы не пролилась и капля лишней крови. Даже по неопытности или по случайности. («Знаю, что наивно, знаю, что капля в море, но ведь капля не воды, а крови!» – вспомнил я давний его разговор с Гурьяниным.) А тут откровенно бессмысленные жертвы. Жертвы холодной, как нам казалось, и беспричинной жестокости. Именно так была воспринята нами каждая строка в Марининой записке.
Да и не только смерть Жени и ранение Гурьянина подавляли нас. Мы были угнетены самим фактом девичьей неверности. На наших глазах взялась прахом казавшаяся несокрушимой святость чувств, отчего в каждом из нас мгновенно поселилось тягостное и непреходящее ощущение зыбкости самой высокой и большой веры.
Но с верой всегда расставаться трудно. Даже если не остается сомнений в том, что тебя обманули. И даже если ты наполнен негодованием, как свинцом. Она словно бы не сразу выветривается из сознания, в котором долго и полноправно жила.
Наверное, поэтому мы и медлили и, безотчетно выигрывая время, околдованно смотрели на небо, дышали лесными запахами, которые как бы расслабляли нас.
Мне показалось, что Звездин уже колеблется. Наверное, об этом подумал и Шалаев, потому что вдруг пристально и многозначительно посмотрел на меня, переведя тут же взгляд на комбата.
Но Звездин не переменил решения. Он повернулся, подошел к ближайшей от нас сосне и шильцем перочинного ножа прикрепил к стволу фотографию.
С расстояния пятнадцати метров карточка казалась очень маленькой. На матово-розовом сосновом стволе блестел крохотный прямоугольник. Отчетливо виднелись контуры прически, овал лица, высветленного доверчивой и мягкой улыбкой.
Мне довелось отмеривать шаги и стрелять первым. Я изготовился, Звездин кивнул, и рука моя стала поднимать пистолет.
Я знаю, что был не меньше Звездина и Шалаева зол на Марину за ее измену, но все же хорошо помню, что во мне жила и тогда какая-то противодействующая сила. Наверное, от сознания недоказанности вины. И теперь я знаю, что нет ничего страшнее пренебрежения такой недоказанностью. Оказывается, оно может уносить жизни. А в лучшем случае оставлять травмы.
По нахмуренности лиц и еще по каким-то неуловимым признакам я догадывался, что Звездин и Шалаев обуреваемы теми же сомнениями. Только сомнения наши были намного меньше боли и ненависти, вызванных гибелью Жени и ранением Емельяна. А вдобавок ко всему мы были просто молоды и не умели побеждать чувства мудростью размышления. Да еще столь чистые и праведные чувства. И поэтому на поляне один за другим все-таки прогремели три гулких выстрела.
Но насколько же иными были мы все при свершении этой символической казни! Я хорошо знал, и теперь помню, как обычно стреляли Звездин и Шалаев. Звездин бывал при стрельбе красив и строг: левая рука резко отведена за спину, белые брови стянуты к переносице, ноги расставлены нешироко и упруго, пистолет в руке – как впаянный.
Комбат принимал эту стойку в одно мгновение и почти не целился.
А Шалаев стрелял с форсом: сильно разворачивал корпус и отводил руку далеко в сторону. И долго целился. Я подражал Звездину.
А на этот раз нас никто бы не узнал. И мы сами себя не узнавали. Стреляли мы торопливо и как-то принужденно, не заботясь ни о стойке, ни о форсе. Пистолеты мы не вскидывали, а медленно и вяловато поднимали, как очень большую и непривычную тяжесть. Сделав выстрел, каждый старался не смотреть на других, поспешно отходил в сторону и снова принимался молча, бессмысленно разглядывать верхушки сосен и синее небо.
Звездин стрелял последним.
По лесу где-то еще металось эхо его выстрела, а он уже снимал фотографию со ствола сосны. И до самой землянки даже не взглянул на нее.
Только, вкладывая карточку в конверт, в который была вложена и записка, мы не удержались: каждый брал в руки казненную «хозяйку землянки» и подолгу в суровом молчании смотрел на нее.
А потом я выводил на конверте адрес: область-район… село Бруснички, Созиной Марине…
9
Письмо наше принесли Маринке вечером. Принесла его тетка Домна, сельский почтальон, сухая, остроскулая и говорливая вдова, знавшая в Брусничках подноготную каждой хаты. Не знала она только, отчего это Созина Маринка последнее время переменилась, будто наговор ей какой сделали. «Такая девка, хохотушка и певунья, а вон как ее умаяло что-то…»
И когда, перебрав на почте тощими пальцами письма, тетка Домна увидела наш неказистый конверт, она решила, что теперь-то развеются Маринкины печали. Бойкая и резкая на язык, готовая в любую минуту по-свойски отбрить любого, хоть даже само районное начальство, тетка Домна была в то же время щедрая на добро. Письмо для Марины она положила отдельно и теперь, кажется, не шла, а летела в Бруснички.
Уже была роздана вся почта, начиная с самого дальнего края, и вот наконец хата Созиных. Обычная, ничем не выделяющаяся хата – с крыльцом, с резными ставнями, с невысоким палисадником к улице.
Тетка Домна остановилась у палисадника, напротив уличных окон, и через штакетник крикнула:
– Созины! Эй, Созины!..
Мать открыла окно, и уже совсем отчетливо слышался в хате звонкий голоо тетки Домны:
– Дочку шли, дочку, Акимовна. Послание ей важное несу.
Марина опрометью выбежала на крыльцо, но вдруг какая-то сила остановила ее, по ступенькам она сошла неторопливо и опасливо.
– Получай фронтовые поцелуи, Маринка, – тетка Домна, как веером, обмахивалась конвертом. – Всю дорогу бежала, спешила порадовать тебя. На, читай в свое удовольствие.
Незнакомый почерк на конверте заставил Марину тут же вскрыть письмо…
Все остальное она помнит смутно. Помнит только, что в тот же вечер бегала к председателю сельсовета спросить, как можно разыскать военный госпиталь, в который отправили раненого с фронта. Председатель посоветовал сходить в военкомат, и она утром побежала на тракт ловить попутную машину, но вдруг пришло ей в голову написать в наш полк.
Я хорошо помню, как звонили нам в батальон из строевой части и спрашивали, не присылал ли Гурьянин письма из госпиталя. Мы действительно получили накануне первое письмо от Емельяна, и Звездин, не кладя трубку, потянулся к столу, взял конверт и продиктовал обратный адрес.
– А это зачем? – спросил он.
– Девушка его разыскивает.
Девушка? Мы пожали плечами, переглянулись. Никому из нас и в голову не пришло, что это могла быть Марина. Ведь она вышла замуж.
Теперь вот, в беседе с Емельяном, одна за другой открывались передо мной давние подробности, от которых становилось и тяжело и радостно одновременно…
Через трое суток после того, как пришел ответ из полка, Марина сошла с поезда в небольшом волжском городе, а еще через час ее вела медсестра длинным неуютным коридором к двадцать седьмой палате.
Всю долгую дорогу Марине казалось, что поезд идет страшно медленно, а время и вовсе остановилось. Теперь же ей вдруг захотелось, чтобы госпитальный коридор был подлиннее. Вплотную подступившая минута встречи подтачивала в ней решимость, и она не слышала ничего, кроме ошалелого стука в груди. Этот стук, казалось ей, заглушал все звуки, даже жесткие цокающие шаги медсестры, которая с откровенным любопытством разглядывала ее.
Навстречу им попадались раненые, и Марина с еще большим ужасом думала, что один из них неожиданно может оказаться Емельяном, и тут уж она совсем не будет знать, что делать. Но раненые были незнакомы ей, а коридор вдруг кончился, уставясь на Марину сильно истертым картонным квадратом, на котором кто-то по-школьному вывел чернилами цифру «27».
– Вот здесь, – сказала сестра. – Койка у окна справа. – И ушла, обдав Марину еще одним оценивающим взглядом.
Марина почувствовала, что не может двинуть рукой, не может дотянуться до дверной ручки. И ноги еле держали ее, и сердце теперь не стучало, а, оглушенное, молча и затаенно лежало в какой-то пропасти, куда его толкнула вот эта цифра на картонном квадрате.
Марина отошла от двери, готовая во всю мочь побежать по этому длинному коридору обратно, но другая мысль тут же остановила ее и властно вернула к палате. А когда она протянула руку, смущение и боязнь мгновенно оставили ее. Она, постучав, открыла дверь.
Справа и слева от нее было по четыре кровати. Но она помнила: койка у окна справа. И Марина сразу пошла туда, к окну, к кровати, спинка которой немного находила на оконный проем.
Она не знала, кто ей ответил «Входите», но она видела, что все смотрят на нее и не понимают ее появления.
Он тоже смотрел на нее. И тоже не понимал. На белой подушке, среди белых простыней курчавая смоляно-кудрая голова его выделялась больше, чем другие, и это сразу бросилось ей в глаза.
Выдержки, которая пришла к ней, едва она коснулась дверной ручки, хватило ровно на те несколько шагов, что отделяли от кровати. Последний шаг ее был и последним усилием воли. Встретившись с ошалелым от удивления взглядом Емельяна, она остановилась, неловко, по-детски подтянула к подбородку руки, потом закрылась ими и заплакала.
Наверное, это и вывело Емельяна из оцепенения. Он порывисто потянулся ей навстречу, внезапно охрипшим голосом позвал:
– Маринка!..
Раненые медленно и молча вставали, выходили из палаты, чтобы оставить их наедине. Но Марине и Емельяну, кажется, это и не нужно было. Они и в любых других условиях говорили бы только то, что они говорили теперь. А вернее сказать, они точно так же не находили бы слов, потому что в таких случаях их попросту негде бывает взять: все силы души и рассудка мгновенно затопляются невыразимым и потому не подчиняющимся слову волнением. Так при паводке река теряет свои береговые очертания, которые, в сущности, становятся ничем по сравнению с ее буйной вешней переполненностью.
Появление Марины тотчас вернуло Емельяну его веру в нее, и он даже не спросил, почему она послала ему такое странное письмо. А Марина ждала этого вопроса и удивлялась молчанию Емельяна. Удивление ее скоро перешло в тревогу, и она спросила сама сквозь слезы:
– Ты, наверное, меня презираешь?
– За что? Что ты!
– А мое письмо.
– Не надо об этом, Маринка. Хорошо, что ты приехала.
Она взяла его руку, которую он с трудом выпростал из-под простыни, и вдруг почувствовала, что второй руки нет.
Почувствовала? Или поняла по выражению его лица, по взгляду, в котором никогда раньше не было такой виноватости, перемешанной с беспомощностью и болью? Глаза Марины наполнились ужасом, она побледнела и захлебнулась в новом приступе плача. Все тело ее дрожало. И дрожали слова, которые она произносила сквозь всхлипывания:
– Меля, что же это я наделала? Прости меня, Меля… Она пыталась сдерживаться, но не могла, а он, видя, как мелко дрожат от всхлипываний ее плечи, не находил слов успокоения.
10
Больше месяца Марина прожила в волжском городе, дожидаясь выздоровления Емельяна. А ранним июньским вечером они вдвоем вышли из проходной госпиталя, направляясь к вокзалу.
Ночью они с трудом пробились в переполненный вагон какого-то проходящего поезда, потом сделали две пересадки и наконец добрались до своей станции.
Они считали, что всю дорогу им везло: нигде им не пришлось сидеть слишком долго, ожидая поезда. И здесь, на родной станции, их не обошла удача. Почти у самого вокзала они натолкнулись на тетку Домну, и та сказала, что скоро из МТС придет машина.
Они сели на привокзальную скамейку, но Марина тут же стремительно встала и, взяв из рук тетки Домны ее тоненький ореховый посошок, торопливо пошла через площадь.
– Марина, ты куда? – спросил Емельян и в ту же минуту увидел Саркисова.
Марина быстро приближалась к нему. И прежде чем Емельян поднялся со скамейки, рука Марины вместе с посошком вышла на короткий и хлесткий замах.
Она била стиснув зубы и не произнося ни слова. Саркисов загораживался руками, в одной из которых была планшетка, и быстро пятился к невысокому деревянному заборчику, в котором виднелся широкий, доски в три, пролом. Когда посошок плашмя ударял по планшетке, над всей привокзальной площадью вспыхивал резкий шлепающий звук. Но он тут же растворялся в граде менее громких и менее отчетливых ударов.
К площади со всех концов стекались люди. Кто-то попытался унять Марину, но тетка Домна, оказавшаяся впереди толпы, загородила ее, крича:
– Праведный суд вершится, граждане: не мешайте. Из-за этого подлеца честная кровушка пролилась.
Шагах в двух от забора Саркисов споткнулся и упал назвничь. Быстро перевернувшись, он стал ползком продвигаться к пролому и юркнул в щель в ту минуту, когда к Марине подбежал Емельян. Он обнял ее, успокаивая, а она, разгоряченная, с переполненными ненавистью глазами, все порывалась догнать Саркисова.
…Когда потрепанная трехтонка въезжала в Бруснички, над селом вовсю светило полуденное солнце. Марина и Емельян, обнявшись, сидели в кузове на какой-то мягкой поклаже. Ветер порывисто бил им в лица, неся с собой запахи чего-то родного и долгожданного.
11
К окну, у которого сидел Емельян, подбежал запыхавшийся Котька:
– Мама сейчас придет, – сверкнул он такими же, как у отца, темными глазами.
Емельян поспешно взял у меня из рук фотографию и сунул ее в лежавшую на столе книгу. И вдруг почти вплотную придвинулся над столом ко мне.
– Понимаешь, в чем дело, Гриша, – он запнулся, подыскивая слова. – Писал-то я тебе, что с Мариной бы вам надо повидаться. А знаешь, почему? До сих пор она травму в себе эту носит. Пятнадцать лет прошло, а в глазах ее то же выражение вины и отчаяния, с каким она тогда, в сорок третьем, в нашу госпитальную палату вошла. И вот эта давняя виноватость словно застыла в ней. И она никак не отойдет. Стану сорочку менять или еще что одноруко делать – она в слезы. А уж если по неосторожности назову себя калекой, то и вовсе казнит себя. Это, мол, я все наделала, из-за меня ты на всю жизнь увечным стал… Уговариваю ее, объясняю, что все вышло из-за подлого обмана, – ничто не помогает. Все время как пришибленная. А ко мне относится… стыдно сказать… ну, что твоя рабыня.
Емельян взял со стола папиросы, прямо из пачки, губами достал одну, ловко зажег спичку, прикурил и, глубоко затягиваясь, продолжал:
– Пуще же всего на Марину действует эта фотография. Увидит или вспомнит – на целые недели замыкается в себе. А порвать не дает.
Я слушал его, все более удивляясь и все настороженнее ловя шорохи за окном. В любом звуке мне мерещились шаги Марины, и я внутренне вздрагивал. С каждой минутой меня все сильней охватывало непонятное и непередаваемое волнение. А слова Емельяна лишь подбавляли масла в огонь.
Сейчас я должен увидеться с той, в которую стрелял. Конечно, на мушку пистолета я насаживал просто кусок бумаги с изображением девичьего лица. Но стрелял-то я в него, как в живое! И когда стрелял, видел живые глаза, смотревшие прямо в мои зрачки. А сейчас, через какие-то минуты, та, расстрелянная нами, откроет вот эту дверь, перешагнет вон тот невысокий порожек и, наверное, скажет: «Здравствуйте».
Я судорожно искал в себе слова, которые нужно было сказать Марине при встрече, но они не находились.
А Емельян все говорил:
– Так вот я и подумал: надо, чтобы она увидела кого-либо из вас… Ну, то есть… из стрелявших. Может, после этого и переменится. Звездина звал, но он так и не собрался. Ты ведь знаешь, не очень здоров он, все лечиться ездит. Шалаева нету, – Емельян тяжело, по-мужски вздохнул. – Поэтому на тебя надежда.
Он еще что-то хотел сказать, но в это время в окне за георгинами показалась Марина.
– Идет, – сказал Емельян и достал из пачки новую папиросу.
Он мог не говорить мне, что это идет Марина. Я сразу узнал ее. Узнал по красивому лбу под взбитыми кверху волосами, по разлету бровей, очертанию лица и особенно – глаз. Если бы я встретил ее где-либо случайно, то, наверное, тоже узнал бы сразу. Правда, лицо ее уже было тронуто годами, но все же это было то самое, Маринино, лицо…
Она быстро прошла мимо окон, по комнате метнулась легкая тень. Но вот раскрылась дверь, и меня коснулся полный испуга и растерянности взгляд.
– Здравствуйте, – робко сказала Марина, не делая ни шагу от порога. – С приездом вас… – Она быстро переводила взгляд с меня на Емельяна, не зная, как ей поступать дальше и бессловно прося у него совета.
Я тоже стоял молча, не находя слов и все более подчиняясь охватившему меня волнению. Как из лесной чащи или из подземелья, доносились до меня слова Емельяна:
– Знакомься, Григорий. Это Марина. – Он взял меня за плечо, тихонько сжал. И я понял, что пожатие его было безмолвным продолжением нашего разговора. Это, видимо, и заставило меня решительно шагнуть Марине навстречу. Я протянул ей руку, она робко подала свою. И теперь я совсем близко увидел ее глаза. Даже в растерянности они светились безотчетной доверчивостью и лаской. И ко мне вдруг сами пришли те слова, которые я искал и не находил:
– Простите нас, Марина, – сказал я, сжимая ее худенькую шершавую руку.
Брови ее удивленно поднялись, отчего взгляд и все лицо посветлели. И я заметил, как дрогнули ее губы. Дрогнули едва приметно и неуверенно. Она перевела взгляд на Емельяна, потом опять на меня, все больше проясняясь и оживая.
А я смотрел на ее по-девичьи статную фигуру, на мягкость черт лица, на ее неуверенную от смущения походку и не мог поверить, что это она, Марина, тогда, в сорок третьем, могла разыскать далекий заволжский город, где Емельян лежал в небольшом номерном госпитале.
Еще менее верилось мне, что эта красивая хрупкая женщина, ни минуты не раздумывая, решила по-своему, пусть грубо, не по закону, но так, как требовало исполненное гнева сердце, проучить негодяя.
«Какое же чудное переплетение в ней, – думал я, – добра и праведного гнева. И гордости. Той самой гордости, из-за которой и было послано роковое письмо на фронт…»
А мы… Мы были так житейски неопытны. И в то же время за нами было безграничное моральное право судить о верности строго и требовательно. Почти мальчишками мы встретились с войной, наша молодость не мешала ей убивать нас. Так почему же из-за молодости мы не могли быть судьями (и строгими судьями!) тогда, когда нас убивала еще и просто женская жестокость?..
И все же, глядя на Марину, я думал: помешай нам в тот день что-либо сразу свершить свой заочный суд, на лесной поляне не прозвучали бы наши выстрелы.
Но они прозвучали. И теперь я от всего сердца просил у Марины прощения. Просил именем всех. И живых и мертвых. И, как наяву, видел нашу фронтовую землянку, прислоненный к обойме портрет, столбик со звездочкой над свежей могилой Жени Жеймонис, окровавленного Емельяна на его самодельном топчане, измаранную глиной и кровью записку, фотографию, приколотую к сосне, и мой крупный почерк на конверте: «…село Бруснички, Созиной Марине…»
Мне все представилось вдруг одним большим и неровным клубком, намотанным на гнилое и холодное сердце очень плохого человека.
Емельян сказал об этом по-своему:
– Какой математической категорией можно выразить виртуозное мастерство войны зверски и кроваво шутить над людьми? И ту поистине собачью верность, с какой служит ей человеческая подлость?
Мы сидели с ним вечером на невысокой круче у озера. Внизу, возле самой воды, стоял с удочками Котька. Марина еще была на ферме, и мы дожидались ее, заранее условившись, что она зайдет за нами.
По ту сторону речки в небольшом отдалении виднелся старый сосновый бор, за острым правым углом которого размещался когда-то запасной полк. Солнце, раскрасневшись, уже коснулось верхушек сосен, и казалось, они сейчас же вспыхнут таким же красным пламенем. И дым лесного пожара сольется с мягким, еще реденьким паром, наползавшим на заболоченные места озерной впадины.
Бруснички лежали за нашими с Емельяном спинами, на крутом взгорке, заслонившись от озера садами. В самом центре села выше всех хат поднималась железной крышей школа.
Туда к Емельяну пришло счастье. Светлое, сероглазое, улыбчивое и доверчивое.
А вон там, за речкой, за острым углом соснового бора, уже тогда ходила по земле двуногая подлость…
Я смотрел на школу, потом на край бора, снова и снова переводил взгляд и чувствовал, что не могу освободиться от ощущения почти зримого передвижения по земле добра и зла. Только первое мне казалось воздушно бесшумным, как прикосновение солнца к верхушкам сосен, а второе чудилось ржаво скрипучим, одетым в осторожные воровские шорохи. Прислушайся – и услышишь. И тогда крикни людям: осторожно – подлость!
И крик этот полетит над землей, очищая ее. Как тогда, в войну, мы очищали ее от фашизма.
Мне опять вспомнилась наша фронтовая землянка, один из июльских рассветов, когда, казалось, само зарождение нового дня тонуло и пропадало в бешеной канонаде артподготовки, смерть Шалаева. Несуразная, обидная смерть: мы выдвигались на новый КП, он замешкался в блиндаже, и его накрыло прямым попаданием снаряда.
На третий день наступления ранило Звездина. Сначала в руку, и он отказался уйти с КП. Потом осколком – в бедро…
– О чем задумался?
Я вздрогнул и увидел повернутое ко мне лицо Емельяна. Но ответить не успел: от ближайшей к круче сельской околицы к нам спускалась по тропке Марина. В правой руке ее развевалась косынка.
Марина спешила…








