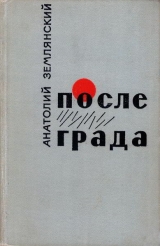
Текст книги "После града"
Автор книги: Анатолий Землянский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
– А точно там есть ход сообщения? – оживился Обрядин.
– Точно.
– Так, там, мо… быть, и того… засадку мо… устроить? – еще быстрее посыпал Обрядин уже совсем полусъеденными словами, и глаза его озорно заблестели.
– Ход есть, – сказал Шалаев. – Это точно. А остальное… Решайте сами. Вам видней. Но если доведется там побывать, – проверьте: был снайпер или нет? Ну а если был, сувенирчик на память не забудьте. Лады?
– Лады, товарш старш…нт… – Обрядин, захваченный какой-то новой идеей, козырнув Звездину и не дождавшись его ответа, выбежал из землянки.
А Шалаев тут же, за столом, подмяв под локти карту, уснул.
Еще прошли сутки и ночь, и на самой зорьке у нас опять появился старшина Обрядин. Он вручил Шалаеву немецкую снайперскую винтовку и пластмассовый медальон, в котором значилось: «Фриц Артур Зайдлер. Гамбург. Юхгенсдорф, 11».
Оказалось, что трое разведчиков, ушедших на поиск в район сломанных берез, сами натолкнулись на мертвого немецкого спайпера. Они решили взять с собой его винтовку, а вдобавок документы и медальон.
Гурьянин вернулся ровно через десять дней. Фотография Марины тотчас заняла свое место на столе, где все мгновенно преобразилось. Табак перекочевал на окно, карандаши разбежались по планшетам, а те – по гвоздям на стенах.
И опять мы благоговейно смотрели на пышное облачко Марининой прически, на ее улыбку, на неяркую и спокойную посадку бровей.
И опять, заходя к нам, Марину ревниво рассматривала Женя Жеймонис, неумело маскируя свои наполненные тоской и радостью взгляды, которыми она то и дело одаряла Звездина.
А дней через пять или шесть пришло от Марины то злосчастное письмо…
4
Из писем Емельяна я вкратце уже знал эту печальную историю. Но теперь в разговоре с ним увидел все с новой силой. Истоки ее уходили к поездке Гурьянина на Урал. А точнее – к его возвращению обратно.
На получение и отправку пушек ушло столько времени, что ни о каком посещении Брусничек нельзя было и думать. Но Емельян все-таки думал. Бруснички эти сладкой занозой торчали в его голове и не давали покоя. Емельяну казалось, что это слово выскрипывают поизносившиеся вагонные перегородки, выстукивают колеса, высвистывает на поворотах паровоз.
Емельян беспомощно вертелся на средней полке, старался заснуть, закрывал руками уши, принимался читать, но заноза застряла в мыслях и делала свое дело. Бруснички… Бруснички… Слово будто наматывалось на какие-то невидимые валики, которые тут же начинали раскручиваться, разматывать те же звуки, те же постукивания и поскрипывания. Всего бы двое лишних суток – два дня и две ночи – и он побывал бы в Брусничках. Ведь это так просто: сойти в Энске, сесть на другой поезд, проехать часов восемнадцать, а там, за станцией, у развилки дорог вскочить на попутную машину, отмахать еще три десятка километров – и вот они, Бруснички. Село словно бы по волшебству вырастет крышами из садов и лип и гостеприимно ляжет перед ним: добро пожаловать, Емельян. И он, не чуя под собой земли, пробежит мимо школы, обогнет полуразвалившуюся церковную ограду, свернет в поросшую одуванчиками улочку, а там уже сами глянут на него знакомые окна.
Все, все припомнится ему до мелочей, хотя был он в Брусничках всего один раз. В первый год войны в селе, в просторном двухэтажном здании школы-десятилетки, размещался госпиталь. Там срастили ему тогда раздробленное предплечье и вынули осколок из голени.
Там он познакомился и с Маринкой. Она каждый день приносила раненым лимонно-желтую пахучую антоновку, молоко и последние, собранные уже с пожухлой ботвы недоросли-помидоры.
Она приходила не одна, но, вся светлая и статная, больше других бросалась в глаза. Загорелые руки ее ловко выбирали из корзинки помидоры, а когда она протягивала на ладонях яблоки, Емельяну казалось, что это не плоды, а она, Марина, излучает ароматную медовую спелость…
Бруснички… Бруснички…
Перегородки все скрипели и скрипели, но, думая о Марине, Емельян забывал о них. Он закрывал глаза и ясно видел Маринино обветренное лицо, всю ее…
И тут он совсем терял власть над собой.
Лишь под утро удалось ему забыться некрепким и недолгим сном.
А когда он уже часам к десяти проснулся, внизу, за столиком выпивали. Его, наверное, и разбудили эти громкие мужские голоса, в которые то и дело врезался заразительный женский смех.
– За фронтовиков! – сказал кто-то внизу, сильно растягивая слова.
Другой мужской голос возразил:
– Почему же так сразу – за фронтовиков? Давайте за общее что-то выпьем…
– Тогда за единство фронта и тыла!
– За победу! – весело выкрикнула женщина.
Послышался легкий стук, по которому Емельян определил, что пили из алюминиевых кружек, а потом первый мужской голос спросил:
– Небось опять туда, на передовую?
– Опять туда.
– Завидую. А меня вот все не пускают. Пять рапортов написал. Приду к начальству, умоляю, прошу, а майор свое: «Пойми, Саркисов, в тылу тоже умные люди нужны».
Емельян молча улыбнулся: «Повело парня. Ох уж этот зеленый змий!..»
Он привстал на локте, чтобы закурить, и увидел говорившего. Был это лет двадцати пяти старший лейтенант. В глазницах его торчало и двигалось по серому полуяблоку, над ними густели рыжеватые с завихрениями брови. На угластый, с впадиной лоб наползала старательно зализанная челка.
Саркисов тем временем брал нотой выше:
– Правду сказать, так так оно и есть. Такого, как я, специалиста поискать. А работа у нас… нюх нужен, интуиция. Это не каждому дано.
– Кем же это вы работаете? – насмешливо спросила женщина.
– Я? Кто – я? – переспросил старший лейтенант. – Да вы знаете, какая у меня служба была? Во! И рос я – дай боже. Только вот война чертова… А теперь… Да что говорить!..
Опять смеялась женщина, и опять водка булькала, звенели кружки.
– Вот с фронтом не получается, – снова начинал свое Саркисов, не переставая жевать. – Да оно и майора можно понять. Какой же из начальников захочет отпустить ценного работника?.. Так и сижу в запасном полку. В этих захудалых Брусничках.
– В Брусничках?.. – Емельяну почудилось, что ему сдавили горло. Сдавили сильно и жестко, так, что стало трудно дышать. И он, словно боясь чего-то и так же неясно чего-то желая, пересохшим голосом спросил, свесившись с полки: – А эти ваши Бруснички… не в Светляницком районе?
– В Светляницком. А что? Не оттуда ли родом? – полуяблоки неторопливо развернулись в сторону Емельяна.
– Да нет. Просто знакомые там есть.
– Девушка небось, – весело вставила женщина и опять громко засмеялась.
Теперь Емельян видел и ее: высокий зачес каштановых прядей, подвижные глаза.
– Ну конечно же, вон как покраснели!
– Да вы слазьте, присаживайтесь, за компанию веселей, – засуетился собеседник Саркисова, такой же молодой старший лейтенант, только с фронтовыми погонами и петлицами. – Новому компаньону – почетное место. Наталья Ивановна, не возражаете?
– Пожалуйста…
И Емельян слез. Ему пришлось сесть рядом с Натальей Ивановной. Он, может быть, и не стал бы садиться именно с ней, но другого места не было. Да он и не придал этому значения. Его интересовал теперь только Саркисов. Емельяну не терпелось хоть что-либо узнать о Брусничках, а если возможно, то черкнуть несколько слов Марине. И он рад был такой неожиданной встрече.
Когда он вместе со всеми выпил, Саркисов вплотную придвинулся к нему, спросил:
– Так кто же у вас в Брусничках, если не секрет? Я там почти всех красавиц знаю. – И он весело пропел:
Бруснички, Бруснички,
Бруснички – кабаре…
и заговорщически, поощрительно подмигнул Емельяну. – Любой температуры привет передам. Любое поручение. Приказывайте!..
Емельяна смущала развязность Саркисова, но был велик и соблазн услышать хотя бы одно слово о Марине. И он спросил:
– А вы вправду там всех знаете?
– За исключением неродившихся.
– Созиных знаете?
– Созиных? Постой, это каких же?
– Да недалеко от церкви, у криничного спуска.
– А-а, вспомнил. – С лица Саркисова мгновенно слетела улыбка, но он тут же попытался вернуть ее, с явным усилием оголив зубы. – Это что ж… Маринка?
Емельян не заметил, как заметались в глазах Саркисова какие-то пляшущие тени. Лишь позднее в его памяти все это всплыло и приобрело смысл. И то, как Саркисов заикнулся перед словом «Маринка», как перед этим «водворял» на место улыбку, как зрачки сначала сузились, потемнели, а потом вспыхнули лукавой наигранной оживленностью.
Все это вспомнилось позднее. А тогда, в вагоне, Емельян ничего не заметил. Он ждал ответа.
Саркисов же выигрывал время.
– Маринка Созина? – вопросительно повторил он. – Как же, знаю. Лучшая доярка в колхозе. Гордячка и певунья. Клад частушек и припевок. Словом, девушка по всем статьям. Не могу не похвалить ваш выбор, капитан.
Саркисов говорил что-то еще, чаще прежнего подливал Емельяну, а сам будто вспоминал что-то, рассеянно покусывая нижнюю губу. Вдруг он почти закричал:
– Наталья Ивановна… Товарищ капитан… – Он поискал глазами и старшего лейтенанта с фронтовыми погонами, но того не было в купе. – Я совсем забыл. Вот простофиля! У меня же с собой ФЭДик. Позволите? На память карточку?..
С кошачьей проворностью вскочил он на нижние полки, достал сверху небольшой зачехленный чемодан, долго, торопясь, расстегивал чехол, потом так же долго рылся в чем-то звякающем и звенящем и наконец вынул фотоаппарат.
– Я быстро. Один момент, – суетился он. – Как же, такая встреча…
Фотографируя, он попросил Емельяна и Наталью Ивановну сесть ближе к столику, а потом смешил их и торопливо, восторженно щелкал затвором.
5
От станции к Брусничкам ведет извилистая грейдерная дорога. Та, которая только что привела в село и меня.
А тогда, подгоняемый нетерпеливой жаждой уязвить непокорную и недоступную Маринку, не принявшую его любовь, по этой дороге ехал на попутной Саркисов. Он знал уже, что при первой же встрече отдаст Маринке записку Емельяна, что двусмысленно предостережет ее при этом от излишней доверчивости, кое на что намекнет, а об остальном пока не скажет ни слова. Она, разумеется, не поверит ему, и вот тогда, сожалея, извиняясь, сочувствуя, он покажет ей фотографию.
Смазливенькое лицо Натальи Ивановны (она и не подозревает, какую услугу ему оказала) и с широкой цыганской улыбкой лицо Гурьянина – рядом. В момент пирушки!.. Железная вера и та даст трещину.
Саркисов представлял себе, как удивится Маринка, как прихлынет к ее щекам кровь, как, пряча слезы, она сначала убежит. И он не станет в ту минуту навязываться ей. Он потом, через некоторое время, возобновит свои ухаживания. И уж будьте уверены…
Он все представлял в мельчайших подробностях. И оттого, что он стал искать все новых и новых таких подробностей, мысли его начали незаметно перескакивать с одного на другое. То он думал о записке («Отдавать или не отдавать?»), которую передал с ним для Маринки капитан-фронтовик, то со смехом вспоминал, как этот белозубый цыган, расчувствовавшись, обнял его на прощание. А то на ум приходила Наталья Ивановна: ее визгливый смех, громоздкие дешевенькие серьги в ушах, мягкая и податливая нога, прижимавшаяся под столиком к его коленке… Наконец, сцена фотографирования. Она доставляла Саркисову особое наслаждение. Так тонко сработать! Или как это любил говорить начальник лагеря полковник Гжугашвили?.. Ага! «Насадить живца».
Воспоминанием о лагере круг мыслей Саркисова как бы замкнулся, и он пошел по этому кругу, все более удаляясь в прошлое.
…1938 год. Эшелон с политзаключенными идет почти без остановок. Не очень большой, но и не очень маленький – десятка два пульманов, перехваченных по дверям ребристыми металлическими засовами. Пульманы подобраны один к одному, как по заказу, ни угольная гарь, ни пыль не могут забить их новенького вида. И странно: даже крашеные решетки в крохотных окошках, ютящиеся почти под самой крышей, тоже подчеркивают новизну вагонов. Вот уже какие сутки идет эшелон, а пройдет обходчик, простукает еще теплые от бега колеса, даст им попить из длинноносой чумазой, как и сам обходчик, масленки, и опять вскидываются руки семафоров: путь свободен!
Из решетчатых окошек смотрят заплывшие мертвой, как зола, тоской людские глаза. И вчерашний выпускник спецшколы, а теперь один из сопровождающих эшелон охранников Станислав Саркисов поначалу не может выдерживать этих взглядов. Они будто скребут по чему-то живому внутри, будто впиваются в душу невидимыми комочками. И не больно вроде, но все же хочется побыстрей отвести взгляд – так лучше.
А когда становится невмоготу, он начинает успокаивать себя: разве можно жалеть этих людей? Это же враги народа, они хотели плохого всем людям.
И на смену жалости приходит озлобленность. С ней легче. Теперь уже в глазах, что смотрят сквозь решетки, не мертвая зола тоски, перемешанная с болезненно мученической отрешенностью, а искусно затаенное (так кажется) выжидание. И теперь уже можно (и нужно) смело, даже вызывающе встречать эти взгляды, отвечая на них твердой и свирепой неприязнью.
Вот что значит убедить себя!
Саркисов легко научился «убеждать себя» и отвечать на взгляды заключенных свирепой неприязнью. И сожалел, что его не видит в такие минуты майор Шворин, преподаватель спецшколы, читавший у них краткий курс права. Он бесспорно похвалил бы его, потому что теперь Саркисов на практике старался применять все, что было почерпнуто из лекций.
Шворин нравился Саркисову больше всех других преподавателей. Он был подчеркнуто эффектен на кафедре, читал свободно и красиво, самые сложные термины и понятия получали у него какую-то эластичную округлость и легкость. Правда, слова его всегда были немного туманны, но это Саркисов объяснял своей «неэрудичностью».
Он многое записывал на лекциях, потом записанное перечитывал и наиболее полюбившееся подчеркивал. Теперь он мог бы не одно из таких мест в своих записях процитировать наизусть. Ну вот хотя бы о так называемой презумпции невиновности[7]7
Презумпция – признание факта юридически достоверным, пока не будет доказано обратное.
[Закрыть]. Шворин очень афористично и убедительно говорил: «Отсутствие доказательств не есть доказательство. У политически чуткого и зрелого следователя превыше всего должна быть не пресловутая презумпция невиновности, а логика вероятности вины. Она тем сильнее, чем упорнее отрицается вина обвиняемым. Особенно, если речь идет о деянии классового характера».
«Вот именно. А они все… Эти, что вечно торчат у окошек, – классовые», – продолжал подогревать себя Саркисов и невольно вспоминал новый шворинский афоризм: «Сострадание – враг чекиста». Саркисов и это принял на вооружение, даже не подозревая, что судьба уже готовила ему проверку как раз на этот счет.
Обходя как-то состав (это было на пятый или шестой день пути), Саркисов с подчеркнуто жестким и чуть брезгливым видом глядел в решетчатые окошки. И вдруг ему почудилось, что за решеткой хвостового пульмана мелькнуло знакомое ему лицо. Он еще не подумал о том, что будет дальше, и поднял взгляд к окошку опять. Клеток, он помнил, в решетке девять. В двух из них, вверху справа, светилось по глазу, принадлежавших одному и тому же человеку. Оба глаза в клетке не вмещались, поэтому человек, прислонясь носом к стержню решетки, смотрел одним глазом из одной клетки, а вторым – из другой. И все-таки Саркисов не мог не узнать этих глаз. Они принадлежали бывшему заводскому парторгу Свириду Яковлевичу Кашеварову. Дяде Свире, как звали его Саркисов и все остальные ребята, пришедшие на завод из школы фабрично-заводского ученичества.
Глаза смотрели на Саркисова, и ему казалось, что они высекают в нем искры, становящиеся внезапно горячими, бесформенными осколками его памяти.
Первая встреча с дядей Свирой… Он неожиданно пришел на заседание цехового комсомольского бюро, когда Саркисов говорил. О чем? Саркисов не помнил, о чем он тогда говорил, но помнил, что парторг, слушая его, кивал и улыбался. Правда, улыбка у него была немного странная, потому что верхнюю губу почти надвое разделял глубокий шрам, но это скрашивалось теплом и лучистой искренностью глаз…
Новая встреча, но уже не в цеху. Саркисов стоял у выключенного станка (кончилась смена), и дядя Свира подошел к нему, подал руку:
– Пошабашили, значит?
Потом как-то незаметно Свирид Яковлевич оказался в центре, а они все, вчерашние «фабзайцы», – гурьбой вокруг него. Так вышли и за проходную…
Третья встреча… Тогда Саркисов сам пришел к парторгу.
– В партию хочу.
– В партию? А чего ж краснеть? – Губа со шрамом опять странно сдвинулась в сторону, испортив улыбку, но взгляд снова пришел ей на помощь. – Такое доброе дело надумал, а краснеешь.
– А вдруг откажут?
– Боишься?
Саркисов пожал плечами.
– Ничего не надо в жизни бояться. Вот разве что… Ну да ладно. Не к месту будет.
– Скажите, дядь Свира.
– Подлости надо бояться. Она злей пули. А все остальное… Словом, ничего не бойся. Пиши заявление. А я, если хочешь, сам дам тебе рекомендацию.
Больше воспоминаний не было. Потому что их мгновенно сдуло страхом. Сильным, порывистым, колким страхом, сыпанувшим свои острые ранящие гвозди, казалось, в самый мозг. Что, если Кашеваров узнал его, Саркисова, и надумает обратиться к нему? Да еще напомнит, что рекомендовал его в партию?
Саркисов знал, что нужно отвести взгляд от лица за решеткой, сделать безразличный вид и пойти дальше, вдоль эшелона, но он все смотрел и смотрел в разделенные железным прутом знакомые глаза. Когда лицо в квадратах решетки шевельнулось, он заметил и улыбку. Да, ту самую улыбку, испорченную изуродованной верхней губой.
Только окрик начальника конвоя вывел Саркисова из оцепенения. Он медленно отвел взгляд, но чувствовал, что глаза Свирида Кашеварова провожают его. Даже в вагоне. Даже после того, как паровоз снова набрал предельную скорость.
И странно: были эти глаза точно такими же, как тогда, на комсомольском бюро, как при встрече в цеху, на партийном собрании, где он, Саркисов, был принят кандидатом в члены ВКП(б), как, наконец, на вокзале, при проводах их, нескольких молодых рабочих завода, на учебу в спецшколу. Саркисов старался и не мог увидеть в этих глазах ни затаенного выжидания, ни хитро спрятанного «классового коварства». Дядя Свира – классовый враг? Политически опасный человек? Шпион? Вредитель?..
Ни одно из предположений не воспринималось как возможное. Но Саркисов не стал размышлять над этим. Его все более и более подавлял страх, и он лихорадочно искал способ защитить себя от столь неожиданной опасности. Тревога его усиливалась еще тем, что по прибытии в лагерь он должен был остаться там в штате охранного персонала. А это означало, что каждый день грозил ему встречей с Кашеваровым. И если дядя Свира признает его да еще на глазах у начальства вздумает, чего доброго, просить о помощи… Мысли мешались и стыли в голове у Саркисова, и он с чувством обреченного отсчитывал часы и дни оставшегося пути.
А эшелон шел и шел. День и ночь бежала по рельсам, то изгибаясь змейкой на поворотах, то вновь отвердевая на прямой, цепочка новеньких пульманов, разделенная надвое зеленым пассажирским вагоном, в котором ехала охрана. Теперь Саркисов уже не подходил к хвостовому вагону и не смотрел в решетчатые окошки.
Прошло еще двое суток, а он так ничего и не придумал. Еще через ночь эшелон прибыл на станцию назначения. Оставалось проплыть по реке, и они будут на месте.
И вот там, на месте, Саркисову повезло. В первый же день его пригласил к себе начальник лагеря. Красивый, гибкий, с лоснящимися усиками, полковник Гжугашвили был любезен, беседовал долго и обстоятельно. Он говорил о себе в третьем лице и произносил при этом свою фамилию с очень искусным приглушением первой буквы, отчего она звучала совсем, как широко известная и знаменитая.
– Вы думаете…жугашвили здесь легко? О!.. – он поднимал палец и обнажал в сухой улыбке белые зубы. – Но…жугашвили умеет поставить дело. И вы, как молодой, запомните, что скажет вам полковник…жугашвили: чтобы в этом море осужденных душ плыть точно по курсу, учитесь насаживать живца.
Саркисов недоуменно поднял брови, но полковник жестом остановил его и продолжал:
– Ищите компрометирующие материалы. Не можете найти – организуйте. Насадите живца. То есть создайте ситуацию, при которой клюет. Понятно? Только таким образом мы сможем выуживать наиболее опасных и избавляться от них с помощью нашего филиала…
«Филиала? Что еще за филиал?»
Но Саркисов не задавал вопросов, он слушал. И уже через минуту знал, что филиалом называют в лагере самый отдаленный участок работ, откуда редко кто возвращается.
«Насадить живца… Филиал…» Слова эти почему-то застряли в нем, он никак не мог от них освободиться. И они его к чему-то толкали, заставляли что-то делать. Перво-наперво они погнали Саркисова в приемник, где, как он предполагал, все еще находились сопроводительные документы на «новеньких». Не ошибся, документы были там. И он сразу же попросил дело Кашеварова. Он еще не полностью сознавал, что двигало им, но последовательно совершал один шаг за другим. Увидел статью, дату судебного разбирательства, наконец, приговор: «За укрывательство связей с антисоветскими элементами…»
«Укрывательство… Скрытность…» Одно слово тянуло за собой второе. Смысл их смешивался, бродил, как брага, видоизменялся. «А был на заводе простеньким, люди липли к нему. Исподволь, значит, работал… Умел…» И уже само напрашивалось, как вывод: «Такие вот особенно опасны…»
Теперь в нем застряли новые слова. «Опасны… особенно опасны… опасен… исподволь…» Он ходил, обремененный этим словесным наваждением и страхом. Ходил день, второй, а на третий в нем выбродило решение: надо предупредить полковника Гжугашвили об опасном заключенном Кашеварове.
Так вот, наверное, гибнет в человеке человек. Упущена, не замечена минута, когда совесть, оступившись, выронила шпагу, и низменное устремилось в незащищенные бреши. Были они природными, эти бреши, или их понаделали другие люди, например, шворины и гжугашвили? Но если это так, то тем, другим, тоже ведь кто-то проделывал бреши? И тем кто-то – тоже. И дальше – от эвена к звену. А где-то лесенка завершалась последней ступенькой…
Саркисов видел группу заключенных, которую отправляли в «филиал». Нет, если бы он знал, что еще раз встретится с глазами Кашеварова, он не пошел бы тогда мимо главного барака. Но он не знал. И поэтому пережил еще одну тревожную минуту. Свирид Яковлевич Кашеваров шел в колонне первым, поэтому сразу же увидел Саркисова. Лицо его резко дернулось, глаза замигали и повлажнели, но в тот же миг он отвел взгляд и устало двинул плечами, поправляя котомку.
Придя в себя, Саркисов оглянулся и успел увидеть только остроскулый, бледный полупрофиль Кашеварова.
6
Саркисова охватывало нетерпение. Ему хотелось скорее увидеть, как в эмалированной овальной ванночке совсем белые прямоугольники фотобумаги вдруг станут местами темнеть, воссоздавая пикантную сцену за вагонным столиком. Но он подавлял в себе это нетерпение. «Нет, прежде всего надо отдать записку».
И он не спрыгнул у развилки, в том месте, где от дороги отходила вправо накатанная ветка в запасной полк. Он доехал на машине до самого колхозного двора. И здесь увидел Марину. Перехваченная белым фартуком, в легкой косынке, раскрасневшаяся, она, оглянувшись на его крик, с минуту в недоумении стояла, потом медленно и неохотно подошла.
– Извини, Марина, но беспокою я тебя не по своей воле. Да что ты так смотришь? Вот послание прими. – Его выпуклые глаза сумели стать грустно-сочувствующими, а голос глуховатым.
Но Марина не видела уже его взгляда, не слышала голоса, она, все больше проясняясь, чуть шевеля губами, читала записку. А Саркисов видел ее загорелый лоб, пышный, пропадающий под косынкой зачес упругих вьющихся прядей, розоватую мочку уха и чувствовал, как заново наполняется пьяным и расслабляющим чувством к ней.
От Марины веяло запахом молока и луговых трав, и он хмелел от этих запахов. Ему хотелось опять, как тогда, у спуска к роднику, где они вечером случайно встретились, обнять ее, притянуть к себе… Но воспоминание об этом сразу обожгло память короткой, звонко отдавшейся в сухом сумеречном воздухе пощечиной. Саркисов почти как наяву снова ощутил упругий и резкий толчок в грудь и увидел взметнувшуюся в замахе маленькую, но сильную руку. Боль острым жаром растеклась по лицу, усиленная откровенно холодным и жестким взглядом.
А теперь вот Маринка жадно приникла к письму. Вон как светятся ее глаза, как улыбчиво шевелятся губы. Она вся там, с ним, с этим белозубым цыганистым капитаном.
А ему, Саркисову, пощечина…
И его с новой силой захватила жажда отплатить за обиду. Отплатить во что бы то ни стало. Как нестерпимо хотелось ему сбить с Марининых шевелящихся губ улыбку, погасить радость прикованного к записке взгляда, бросить на это красивое загорелое лицо боль. И он торопливо, горячечно подыскивал в уме слова.
А Марина дочитала записку и повернула к нему сияющее лицо.
– Спасибо тебе, Слава, за весточку. Большое спасибо. И еще знаешь что: не сердись на меня, давай будем друзьями?
Он сразу ухватился за это слово.
– Я всегда был тебе другом, Марина. Ты знаешь. И эту записку вез… Вот посмотри. Прямо со станции. – Он показал глазами на чемодан, на запыленные сапоги. – Но дружба, по-моему, в первую очередь, откровенность и правдивость. И я не могу не предостеречь тебя.
– От чего? – удивилась Марина.
– От излишней доверчивости.
– К кому? К Емельяну?
– К кому же еще!
– А ты не можешь говорить яснее?
– Да разве и так не ясно? – Он криво усмехнулся, взялся за чемодан. – Ты вот одну записку получила, а я кое-что своими глазами видел. Если захочешь, и тебе покажу. Но ты все-таки поверь просто дружескому слову. Не хочу я мучить тебя лишними доказательствами.
– Нет, Слава, – вдруг спокойно и сухо сказала Марина. – Твоему слову я не поверю. И Емельяна ты лучше не трогай, не порочь. Слышишь?
– Как знаешь, Марина, – Саркисов опять двусмысленно улыбнулся и пожал плечами. – Я тебе зла не желаю. Только, чур, меня потом не вини. Всего хорошего.
– Всего хорошего, Слава…
Она почти пропела эти слова. Ей не терпелось заново прочитать записку, прочитать наедине с собой, без свидетелей. Так, чтобы перед глазами были только эти строчки, а между ними плавали, лучась и будоража, его, Емельяна, глаза. Они у него черные-черные, в них столько живого и ласкового света…
До коровника было не больше полсотни метров, но она сумела идти так медленно, что перечитала записку трижды. И между строк плавали и лучились смеющиеся глаза Емельяна, его широкая белозубая улыбка, все его полное, молодое, густобровое лицо. Она видела его так отчетливо, так легко узнавала каждую черточку, что невольно сама улыбалась и разговаривала с запиской.
«Маринка, родная, здравствуй…» «Здравствуй, Меля, любимый…»
Она незаметно поглядывала по сторонам – никто не смотрит? – и прижимала записку к груди. Потом делала еще шаг и опять читала.
«…Не могу упустить этого счастливого случая и спешу написать хотя бы несколько строчек…»
«Спасибо, любимый, родной мой, спасибо…»
«…До боли жалко, что нет возможности самому заехать в Бруснички. А как хочется увидеть тебя! Пусть на одну минуту. Чтобы сказать всего два слова. Нет, три. Ты их знаешь. Знаешь, да? Помнишь?..»
«Знаю и помню, Меля. Как же я могу забыть эти слова?!»
«…Я послал тебе письмо с Урала, теперь напишу с фронта. И с нетерпением буду ждать ответа. Если бы ты знала, как много значат для меня твои письма! Но – этого не описать. Я расскажу тебе все-все при встрече. Я верю в нее. А ты?..»
«Я тоже верю, милый…»
«…Крепко целую тебя. Твой Емельян».
Прежде чем поцеловать записку, Марина посмотрела по сторонам.
И тут что-то заставило ее обернуться. От неожиданности она даже вскрикнула: почти на том самом месте, где они только что расстались, стоял Саркисов. Он пристально, с ухмылкой смотрел на нее.
Марина в недоумении остановилась, а он, резко повернувшись, торопливо пошел с колхозного двора к сельской околице.
7
Фотографии Саркисов показал Марине дня через два или три. Как-то под вечер постучался к ним, Созиным, в окно и попросил Марину выйти.
Она вышла, остановилась на крыльце. Он поздоровался и торопливо протянул ей несколько снимков:
– Вот посмотри. Чтоб не считала меня лжецом.
Из-под блестящего козырька фуражки, снизу вверх, на нее смотрели два бегающих выпуклых глаза. Саркисов, видно, торопился – все межбровье его было в капельках пота. И верхняя, вытянутая к середине губа, – тоже. Он то и дело покусывал ее.
– Что это? – не глядя на снимки, спросила Марина.
– Любовь, в которую ты веришь. – Он снова закусил губу, а бесцветные полуяблоки под блестящим козырьком метнулись в сторону.
Она взяла фотографии, долго разглядывала их, точно докапываясь до какого-то неясного для нее смысла, потом пальцы ее ослабли, и снимки один за другим полетели на землю. Саркисов бросился собирать их, а когда снова поднял голову, Марины на крыльце уже не было. Он удовлетворенно улыбнулся. Значит, подействовало. А он, чудак, боялся, что Марина догадается, все поймет и…
Он опять вспомнил ее короткую, с острой колющей болью пощечину, гневом налитые глаза и побледневшие, в презрительной улыбке губы.
Но все это не было теперь таким болезненным для него. Он доказал ей, что и ее, Маринку Созину, самую красивую и самую гордую в Брусничках девушку, могут отвергать.
Утром Марина пошла на ферму не напрямик, как ходила всегда (к кринице, там через ручей – вдоль околицы), а мимо дома сельсовета, где у самого входа висел полуоблезлый, с вмятинами и царапинами почтовый ящик.
Она почти подбежала к нему. Крышечка над щелью ящика скрипуче поднялась и, звякнув, опустилась.
Написанное с ожесточением, болью и обидой письмо пошло на фронт.
8
Это было даже не письмо, а маленькая записка. Я хорошо помню ее в руках комбата Звездина – до половины исписанный тетрадный листок в клетку.
Никто из нас тогда не знал, что был он двадцатым или тридцатым по счету из всех листков, которые в ту ночь написала Марина. Мы – Звездин, Шалаев и я – знали только одно: что именно этот листок, эти убийственные, жестокие строки заставили Гурьянина сначала залить горе двумя стаканами спирта, а потом погналп его, потерявшего все реальные ощущения, из землянки под пули. Они же втянули в нежданную беду и Женю Жеймонис. Это она, Женя, встретив по дороге почтальона, взяла у него письмо для Гурьянина. Она опять шла к нам, как ходила каждый день. Но на этот раз в землянки был один Емельян.
– Пляшите, товарищ капитан! – крикнула Женя еще с порога, и он, увидев в поднятой ее руке конверт, не стал упрямиться.
Но Жене показалось мало, что он только «потопал ногами», она заставила его пойти вприсядку, а потом еще «свальсировать» с ней.
Он делал все, что она требовала, пока письмо не оказалось в его руках. Он прочитал его, ошалело тряхнул кудрями, будто они мешали ему понять смысл написанного, потом с минуту смотрел на Женю и опять стал читать.








