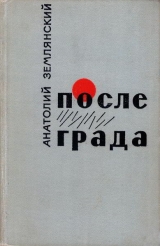
Текст книги "После града"
Автор книги: Анатолий Землянский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
А его, Андрея, тут же, или в крайнем случае завтра, переведут в общий барак. Новым хозяином его станет гестапо.
Но Оннорзейдлих почему-то не приходил. А когда за перегородкой раздался полузахлебнувшийся в ужасе крик «Мы же горим, братцы!», Андрей успел отметить про себя, что в барак давно не заходили и помощники Оннорзейдлиха.
В ту же минуту он увидел за окном мерно колышущиеся, с проблесками, тени и ощутил запах дыма. Вслед за этим все утонуло в воплях и суматохе. Громче всех слышался все тот же голос, что поднял тревогу. Он кому-то приказывал вышибать окна, и ему подчинялись: послышался звон разбитого стекла. Потом голос умоляюще просил: «Братцы, меня не оставьте! Братцы… лежачего-то…» Просьба лежачего раненого терялась в сильных и гулких ударах – кто-то бил тяжелым предметом в перегородку.
Все это доходило до Андрея сквозь вязкую, расслабляющую боль. Когда он поднялся, чтобы дотянуться до окна, она властно вернула его назад. Но палату уже затягивало дымом, и он превозмог себя. Наверное, на какие-то доли минуты он терял сознание, потому что не помнит точно, как сумел выбраться через окно и проползти по двору лагеря почти полпути до барака, в котором, по словам Оннорзейдлиха, находилась Устя.
С ним рядом тоже ползли. И навстречу. И со всех сторон. Бараки горели почти по кругу, поэтому все, кто мог двигаться, стекались к середине двора.
А ему нужно было туда, где находилась Устя, Этот барак стоял на отшибе.
Андрей сделал еще усилие. И еще… На барак, к которому он полз, как огромная черно-красная шапка, надвигались сверху пламя и дым. И это заставило его подняться и пойти. Боль словно сжалилась над ним и позволила сделать эти несколько шагов. Падая, он услышал женский голос, позвавший его по имени. Андрей сразу узнал этот голос. Он был точно таким, как тот, что донесся до него в миг ранения. Ему даже показалось, что между тем и этим мгновениями не было большого разрыва, словно его дважды подряд позвали:
– Андрей!.. Андрей!..
Он пополз на этот голос. И думал, что тоже громко зовет Устю, а на самом деле ему хватало сил лишь на шепот.
Их дыхание уже смешалось, его рука дотронулась до ее плеча – он хотел помочь ей быстрее отползти от огня.
И когда Андрей приподнялся, чтобы удобнее взять под руку Устю, он увидел бежавшего прямо на них Оннорзейдлиха. Заметив Андрея, «герр доктор» остановился, потом подошел почти вплотную. Он будто еще не верил своим глазам, поэтому низко наклонился над Андреем, отвел рукой прядь волос с его лба. И вдруг, выпрямляясь, сказал:
– Вы сумашшэдший. Окно из вашшей палаты выходило наружжу. Понимаете?..
Андрей понял, что этим возгласом Оннорзейдлих все еще пытается спасти свое убеждение. Но он уже не мог и не хотел с ним спорить. Он только сказал:
– А она? – и показал глазами на Устю, которая опять была в беспамятстве.
– О, майи гот, он сумашшэдший, – перемешав немецкие слова с русскими, прошептал Оннорзейдлих. Растерянно перекидывая лихорадочный взгляд с Андрея на Устю, он с минуту над чем-то раздумывал и какое-то решение, кажется, уже принял (Андрей понял это по резкому движению его руки к кобуре), но в эту минуту невдалеке раздались автоматные очереди. Оннорзейдлих испуганно отпрянул в сторону и, перескакивая через раненых, побежал по направлению к воротам.
Барак с треском обрушился, столб искр и гари взметнулся вверх. Андрей заторопился. Он попытался взвалить Устю на себя, но не смог. Тогда он попробовал хотя бы оттащить ее от барака, и опять ему не хватило сил. Оглушенный новым приступом боли, Андрей впал в беспамятство.
Очнулся он на какой-то зеленой лужайке. Открыл глаза, и первое, что увидел, были тополя. Андрей сразу узнал их. Это их верхушки он видел из окна палаты. И он понял, что находится за пределами лагеря.
«А Устя?..»
Андрей повернул голову – Устя лежала рядом. Как они попали сюда? Ах, да, раненых, кажется, выносили со двора бараков какие-то люди. Андрею даже чудилось, – что люди говорили по-русски. С ужасом он подумал, что его и Устю могли положить в разных местах. Но этого, к счастью, не случилось. Они опять вместе. Вот она, Устя, рядом! Андрей приподнялся, чтобы увидеть ее лицо, и едва не отшатнулся: лицо Усти было черным от осевшей на него гари и безжизненно-запавшим от худобы. Если бы там, во дворе лагеря, Андрей не услышал ее голос, то, наверное, не узнал бы совсем… Устя лежала недвижимо, с чуть запрокинутой головой и закрытыми глазами. И мозга Андрея уже коснулось страшное предположение, но вдруг он заметил, что губы Усти шевельнулись. Потом снова и снова. И Андрей понял, что Устя произносит какое-то слово. Он придвинулся к ней ближе и понял, что она просит пить… Губы шевельнулись опять. Шевельнулись едва заметно, можно было подумать, что по ним просто промелькнула какая-то тень. Но Андрей не сомневался: Устя просила пить. И он повернул голову, чтобы позвать кого-либо. Но всюду были только раненые. Одни лежали также безмолвно, как Устя, другие негромко и однотонно стонали.
Андрей посмотрел в другую сторону и сразу же с испугом подумал, что у него начались галлюцинации: от догоравших бараков по огибавшей их тропке прямо на него шел Оннорзейдлих. Андрей без труда узнал оплывшее к подбородку, очкастое чернобровое лицо, серый китель… Только сейчас китель был полурасстегнут сверху и с правого плеча свисал надорванный погон.
С минуту Андрей видел только это: узкогубый, во впадине, рот, очки, китель, погон. А уже потом заметил конвойных. «Герра доктора» вели двое солдат в советской форме.
Тропка подходила вплотную к лужайке, и скоро Андрей смог различить даже зубья рантов на запыленных сапогах Оннорзейдлиха. Но Андрей быстро перевел взгляд вверх, и глаза их встретились. От неожиданности Оннорзейдлих сделал шаг в сторону, но конвойный слегка коснулся его спины дулом автомата, и «герр доктор» вернулся на тропку. Только уже не смотрел на Андрея.
– Товарищ, – тихо позвал Андрей конвойного. – Один глоток воды… Для женщины.
Конвойный остановился, снял с пояса флягу, подал Андрею. И пошел дальше, на ходу крикнув:
– Оставь себе! Пригодится…
6
Очнувшись, Андрей с удивлением почувствовал, что его плавно и ритмично покачивает. Потом он услышал такой же размеренный стук и увидел окно. Оно было намного меньше того, барачного, и за ним не было видно тополей. За этим окном вообще не было ничего видно, все почему-то плыло, кружилось и пропадало.
Прошло какое-то время, прежде чем Андрей понял, что находится в поезде.
И с таким же трудом, чувствуя себя между сном а явью, он воспринимал рассказ пожилой медсестры о том, что «их группа ранетых» была принята в поезд на какой-то маленькой станции как «ослобожденная с плену».
Когда весь смысл услышанного дошел наконец до Андрея, он, внезапно охрипнув, спросил:
– А женщину… Женщина была в этой группе?
– Была и женщина, – ответила сестра и вдруг осеклась, заметив, наверное, как дрожали у него от волнения губы и какой тревогой светились глаза. Она попыталась перевести разговор, но он, уже совсем осипшим голосом, спросил опять:
– Была? Почему – была? – Он снова попытался приподняться, но сестра удержала его. И вдруг решилась:
– Была та девушка тяжело ранета в голову, да кромя того, обгорела. Ну и… Словом, не выжила она. А ты, что… кто ей будешь?
В нем что-то внезапно оборвалось, из груди вырвался больной сдавленный хрип.
Андрею рассказывали потом, что он с нечеловеческой силой выбросился из носилок и в исступлении бился на полу, срывая повязки, кусая руки. И все звал Устю. А через минуту, обессилевший и онемевший, стих.
7
Вчера, закончив свой рассказ, Андрей сразу же спросил у меня:
– Ну, а вы… Куда после Суховатовской подались? Настала моя очередь говорить. Только рассказ мой был совсем коротким.
…Прикрытый Мокрихиным, наш батальон шел балками весь день и всю ночь. А утром мы соединились с полком. Радость встречи была перемешана с горечью: ни один из оставленных для прикрытия не вернулся.
В продолговатой степной лощине стоял строй измученных, почерневших от усталости людей. Взошедшее слева от нас солнце длинно тянуло по земле нашу общую тень. И параллельно ей – еще три: командира полка, нашего комбата Зворыкина и командира разведки лейтенанта Судетного, сообщившего неточные разведданные. Комбат докладывал, командир полка слушал. Потом длилось короткое молчание, после которого рука полковника стремительно метнулась к одному плечу лейтенанта Судетного, затем ко второму – и вернулась в прежнее положение с зажатыми в пальцах петлицами. Судетный вздрогнул, протестующе выпрямился, но тут же обмяк и сник.
– Из-за вашей беспечности бессмысленно погибли люди, – сказал командир полка громко. – Живые люди. Понимаете? И вы должны ответить перед трибуналом.
Он брезгливо швырнул петлицы на землю и, отвернувшись от Судетного, добавил:
– Уведите его.
Судетный, ссутулившийся, с низко опущенной головой, медленно пошел вдоль строя, впереди конвойного. Дойдя до того места, где стояли мы (немногим более пяти десятков человек, все, что осталось от батальона), он поднял голову, и я увидел, как отрешенно безжизненны его глаза. Взгляд Судетного не задержался ни на одном из нас. Мне показалось, что зрачки его, как резиновые, отскакивают от наших изможденных, насупленных лиц.
Дня через три, уже после соединения полка с дивизией, я узнал, что лейтенант Судетный сам попросился в штрафную роту. А еще через день или два он был убит в бою за ту же станицу Суховатовскую…
8
…Море накатывается на гальку и тут же, шипя, пропадает в ней. А потом, точно собравшись с силами, вдруг звонко шлепает о лежащий возле нас камень, и на наши ноги осыпаются мелкие прохладные брызги.
– Искупаемся? – предлагает Андрей.
Мы входим в воду, долго молча плаваем и снова возвращаемся к своему месту на пляже. Первым выходит Андрей, он нетороплив и пластичен в движениях, шагает размеренно и упруго. Он совсем еще по-лейтенантски красив и молодецки строен. Но я-то знаю теперь, что он давно списан «по чистой», и это опять и опять возвращает мои мысли к пережитому им.
Говорил Андрей больше о будущем. Обещал приехать в гости. Но больше звал к себе, под Шенкурск, на какие-то двинские притоки.
– Порыбачим всласть. Все рассветы будут наши. А поселишься у меня. Думаю, не испугаешься холостяцкого быта?..
Глаза у него живые и глубокие. Что-то от них есть и в басовитом, всегда сдержанном хохотке. И в улыбке. И в привычке, разговаривая, дотрагиваться рукой до собеседника.
Назавтра мы расстались. На зорьке вместе поплавали и там же, у моря, расстались. Он остался, а я начал медленно подниматься по тропке.
Поднявшись, я глянул вниз. Андрей стоял и махал мне. Я ответил ему и почему-то вдруг подумал, что он остается один на один с морем. Один на один…
Но это не вызвало во мне тревоги. Море было спокойным, солнечно призывным и полным жизни. И воздух над ним был прозрачен и чист. И горы в отдалении дышали рассветной свежестью.
Бери все это, Андрей. Все. До последнего миллиметра. Только живи. Слышишь?
И помни Устю…
Рана

– Этот бой не был для Оли фронтовым крещением. И раненый, который лежал сейчас возле нее в глубокой, пахнущей пороховой гарью воронке, тоже не был первым из тех, кого она прямо под огнем пеленала в бинты, а потом оттаскивала в медсанроту. Иные умирали у нее на глазах, как тот, например, которого она только что оттащила.
Она до сих пор видела перед собой смертельно бледное лицо худощавого, по-детски узкоплечего, с огненно-рыжим зачесом солдата. Видела, как он, последний раз открыв глаза, как-то неестественно подобрался весь и успокоенно застыл. В отсветах пылавшего города неживым блеском вспыхивали остановившиеся зрачки. Оле показалось, что они время от времени вздрагивают. Ей стало страшно, и она на мгновение зажмурилась. И тут же догадалась, что это не зрачки убитого вздрагивали, а тряслась от взрывов земля.
Вот и сейчас дрожит она, будто ее жестоко лихорадит. То и дело с хрипловатым урчанием проносятся над воронкой осколки, и Оля радуется (оказывается, даже здесь можно чему-то радоваться), что они не могут достать ни ее, ни этого раненого бритоголового полковника с темной меткой усов.
Оля торопится. Она знает, что нужно как можно быстрее остановить кровь: нет сейчас ничего дороже этого для обессилевшего тела.
Повязка легла наискосок через лоб, закрыла утонувший в синем подтеке глаз. Теперь – плечо. С трудом перевернув раненого, Оля надрезала и разорвала гимнастерку. И увидела рану. Слабо пульсируя, из нее вытекала темно-красная струйка.
В проворных Олиных руках быстро уменьшается комочек бинта. Но сквозь повязку все еще пробивается влажное бурое пятно. Оля видит только это пятно. И бинт еще и еще наслаивается на него. Лишь когда появляется такой уже знакомый и так всегда пугающий звук надлетающей мины, Оля, прикрывая собой раненого, совсем по-детски приникает к свежевывороченному грунту, останавливает дыхание. Земля отзывается на взрыв новой дрожью и каким-то глухим жалостным стоном, от которого у Оли щекотно пробегают по спине холодные колючие мурашки.
Оля надорвала бинт, привычно связала концы в узел. И в это время увидела на груди раненого выбившийся наружу туго набитый карман гимнастерки. Документы…
Документы надо взять…
Это делалось всегда механически, без размышлений. Потому что так нужно было делать. Документы не должны пропасть.
Привычным движением Оля надорвала карман, вынула содержимое. Но что-то блестящее и тонкое вдруг скользнуло из уставших пальцев и упало почти на самое дно воронки. «Фотография», – догадалась Оля. Потянулась за ней, достала. Так и есть, завернутая в целлофан фотография. Целлофан был когда-то сильно помят, и на нем осталась густая паутина морщинок. Через них, как через тончайшую сетку, расплывчато и неясно глянули на Олю три лица. Глянули так по-домашнему знакомо, так привычно и в то же время так неожиданно, что Оля невольно вскрикнула. А в следующую минуту ей не хватило воздуха уже ни на крик, ни на вздох – она онемела и задохнулась. Живыми оставались, казалось, только руки, судорожно разрывавшие целлофан. И когда паутина морщинок сползла наконец с изображения, Оля до боли отчетливо увидела себя.
Странно: первой она увидела на фотографии именно себя. А уже потом маму и его. Да, теперь уже для нее сомнений не было: в ее руках была точно такая же фотография, какая лежала сейчас и в ее, Олином, кармане. Только у нее она была завернута не в целлофан, а в плотную, воскового цвета кальку. Свою она, уходя на фронт, вынула из старенького, обтянутого желтым плюшем маминого альбома. А эту… Оля вспомнила: эту мама послала ему. Всего через несколько дней после начала войны неожиданно пришло письмо. Короткое, написанное спешно и как-то жалостливо. Он просил прислать этот снимок.
Мама послала. А сама ходила заплаканная, была задумчивой и рассеянной…
Оля потрясенно перевела широко раскрытые глаза с фотографии на раненого.
– Отец?..
С не осознанной еще болью, гулко и часто стучит Олино сердце. И ей чудится теперь, что это не от снарядных взрывов, а от этих вот исходящих из ее груди ударов дрожит земля.
Еще один снаряд разорвался близко. Так близко, что Оля увидела вздыбленный взрывом черный фонтан, заслонивший на минуту порозовевшее небо, а потом услышала гулкий шелест опадавшей земли. Один из осколков, растратив в полете силу, лягушкой выпрыгнул на самый край воронки и, словно удивившись встрече с людьми, умиротворенно замер. Лишь рваный в блестках бок его хранил, казалось, былую свою смертельную холодность. И наверно, не сам упавший осколок, а зловещий блеск его угластой боковины вывел Олю из оцепенения.
Сунув документы раненого вместе с фотографией в сумку, она порывисто наклонилась над ним, тревожно вглядываясь в почерневшее, осунувшееся лицо. Рука ее машинально искала чего-то на боку, затем нащупала, подвинула на ремне и вытащила флягу.
Несколько глотков воды привели раненого в сознание. Глаз его под черной как смоль бровью вяло приоткрылся, беззвучно шевельнулись пересохшие губы. Темный зрачок невидяще смотрел прямо на нее, и Оле показалось, что у нее остановилось сердце: вдруг узнает. Как ей тогда быть? Как держаться? А он может узнать. Все говорили когда-то, что она – «вылитый отец». Те же брови, только, говорили, нежней и разлетистее. И под тот же цвет зрелой вишни оттушеваны глаза… Сколько раз останавливалась она украдкой перед зеркалом, искала эти приметы сходства, будила и всей силой вызывала в памяти едва живые, оставшиеся от детства представления об отце…
Силы раненого (их хватило, видимо, только на этот полуживой взгляд) иссякли, и глаз полковника медленно закрылся. А губы продолжали шевелиться. Оле показалось, что раненый произносит одно и то же слово, только она никак не может разобрать его.
Расстелив плащ-палатку, Оля втащила на нее полковника, закрепила края, прислушалась. По-прежнему противно чваркали мины, стучали, споря друг с другом, пулеметы, вздрагивала земля. И по-прежнему смотрел с края воронки матово-ледяной бок осколка.
Мимо с тяжелым гортанным дыханием пробежали один за другим несколько бойцов. Последний пожилой, с густо заросшим лицом солдат заметил ее и, не останавливаясь, крикнул:
– Не мешкай, сестричка, отходим.
И тут только дошло до Оли, что солдаты бежали не в ту сторону. Она привстала, глянула вокруг и похолодела: вдоль речки, сколько видел глаз, мелькали в коротких перебежках отходившие бойцы.
Нащупав в траве ямку и упершись в нее ногами, Оля напряглась всем телом. И плащ-палатка медленно двинулась Вот уже показалась голова, а потом и все грузное тело раненого выползло из воронки. Под палаткой захрустела, попискивая, влажная трава. Писк возобновляется и затихает. Это, значит, сделан еще один рывок. Торопясь, царапая в кровь руки, Оля ползет напрямик к реке. Каждый метр внезапно стал во сто крат длиннее. И кажется, больше мешает сумка, настырнее лезут в глаза выбившиеся из-под пилотки волосы, липнут в поту – некогда поправить когда-то любимую, а теперь ненавистную прядку… И еще так неестественно, с гулкой, утомляющей болью стучит сердце. Каждый удар его будто выговаривает это нежданно воскресшее для нее пугающе-непривычное слово: о-тец… о-тец… о-тец…
Оля верит и не верит в случившееся. И не верит больше потому, что не раз рисовала воображением картину встречи с отцом. То ей чудился длинный штабной коридор. Она идет по нему, а он вдруг выходит из двери. Они почти сталкиваются, он узнает ее… Потом представлялась встреча на дороге. На обычной полевой дороге: ее нагоняет машина, останавливается, в машине – он… А чаще всего Оле чудилось, что они встретятся на вокзале или в поезде… Но чтобы так вот под огнем – такой встречи Оля не представляла…
– К переправе, дочка, к переправе держи!..
Оля вздрагивает, останавливается, испуганно смотрит в лицо раненого – неужели это он крикнул? И назвал дочкой? Но голос снова раздается. Оля поворачивает голову и видит лежащего в наспех отрытом окопчике того самого заросшего солдата, который минуту назад поторапливал ее.
– В ложбину вон ту норови, дура! – хрипло и грубо кричит солдат.
Оля машинально повинуется, круто развертывает вправо. Ей кажется, что солдат знает, кого она тянет за собой на плащ-палатке, и поэтому спешит помочь ей.
Спускаясь в лощинку, она посмотрела туда, где оставался боец, и увидела его бегло стреляющим по невидимым теперь для нее целям.
Чтобы попасть к переправе, Оле предстояло подняться из затененной лощины, выползти на солнце – и, значит, опять под огонь.
Оля передохнула, лучше закрепила сумку, убрала со лба под пилотку волосы и хотела двинуться дальше, но раненый вдруг не то застонал, не то хрипло и бессвязно что-то проговорил. Она наклонилась над ним и увидела совсем осмысленный темный зрачок, раскрытые, в крови и грязи губы, прерывисто звавшие ее.
– Сестра… дочка…
Он по одному выдавливал из себя слова, будто экономя на длинных паузах силы. Слова смешивались со слабым гортанным хрипом, терялись в нем. И все же Оля разбирала их.
– Оставь меня… дочка… сестрица… только… партбилет… Попроси написать… – слабо шептали губы. Они остановились и тут же снова шевельнулись, но слово, которое они произнесли, Оля не расслышала. Ей показалось только, что это было чье-то имя. Чье же? Наверное, той, второй жены, которая оказалась для него лучше ее матери.
«Бросил, живет с другой», – нежданно всплыло в памяти слышанное в детстве. Горячим комком подступила к Олиному горлу обида, на глаза наполз влажный туман. И сквозь него Оля увидела вдруг заплаканное мамино лицо, ее глаза, испуганно и безмолвно поднятые вверх, к ней, Оле, стоящей вместе с другими девчонками в раскрытой двери пульмана… Эшелон тронулся, пульман, разрывая десятки сцепленных рук, поплыл вдоль перрона. Сильней послышались всхлипывания и крики, а мама, словно окаменев, стояла на том же месте и неотрывно смотрела на нее – высокая, осунувшаяся и бледная.
Раненый опять впал в беспамятство и бредил, отдавая кому-то односложные распоряжения, выкрикивая незнакомые Оле фамилии. И так он был в эту минуту беспомощен, такое страдание отразилось на почерневшем от боли и пыли лице, что Оля, забыв обо всем, ухватилась за связанные края палатки и стала торопливо выбираться из низины.
Гулкие удары сердца и их болезненные отзвуки в висках помешали Оле услышать раздавшийся где-то рядом предостерегающий окрик. А когда он повторился, то, не достигнув ее, бессильно растаял в гулком взрыве. Взметнувшаяся вверх земля на лету поймала его и, опадая, подмяла под себя, похоронив навечно. Но, словно боясь, что голос все-таки оживет, в воздухе тотчас родился новый пронзительно нараставший звук. Услышав его, Оля растерянно оглянулась: поблизости не было ни воронки, ни хотя бы захудалого окопчика. Тогда она бессознательно метнулась к раненому и, закрыв его собой, трепетно и самоотреченно прижалась щекой к забинтованному полковничьему плечу.
Розовые языки лижут небо и землю. Как трава на ветру, вяло колышутся и все лижут, лижут… Между ними мечутся мириады серебряных бабочек. Блеск их ослепляет. От них больно глазам, веки не поднимаются, точно кто-то давит на них, прокалывает чем-то острым. И от этого еще ярче и длиннее розовые языки. Оле кажется, что они уже достигают ее. И вместе с ними надвигается на нее дикая, вызывающая тошноту, беспорядочная, утомительная пляска серебряных бабочек. А там, за ними, в полумраке появляется и пропадает чье-то знакомое лицо. Нет, пол-лица: один полуоткрытый глаз, крупный, с горбинкой нос, метка усов. Оля узнает лицо: это же отец. Только почему он прячется? Она не хочет, чтобы он прятался от нее. Пусть идет к ней. Собрав силы, она громко зовет его… Просторная с голубоватыми сводами палатка медсанбата оглашается пугливо-горячечным криком:
– Отец!..
И снова, и в третий раз.
Оля порывается подняться, но чьи-то сильные и мягкие руки властно останавливают ее, бережно прижимают к носилкам. Ей делают укол, и она стихает.
А розовые языки не исчезают. Или нет, это не языки, это огненные, вышитые мамой тюльпаны над ее кроватью дома. Они давно, давно полыхают в этой старенькой рамке со следами позолоты…
Мало, очень мало осталось в Олиных жилах крови, – наверное, половина ее ушла в траву и песок. И видно, поэтому все так быстро меняется сейчас перед ее глазами и все как бы окутано бурым туманом. Выплывет из него одна картина, а потом вдруг возникает совсем другое. Вот комната в деревне Весняки, где мама начинала учительствовать. Отсюда они ездили в город фотографироваться.
Нарядная, с пышным бантом в волосах она идет людной улицей. Папа и мама держат ее за руки. Вокруг море яркого, ослепляющего света. Море красок. Море голосов.
Снова Весняки. Снова приехал папа. Рядом с ее кроваткой лежат подарки. А там, за перегородкой, голоса.
– Чужим ты каким-то приехал, Саша, – грустно, вполголоса говорит мама.
«Почему чужим, если он – папа», – никак не может она понять. И вздрагивает от резкого раздраженного голоса:
– Ах, оставь, пожалуйста! Чужим, чужим… Мы ведь с тобой и не расписывались…
Это и вовсе было ей непонятно.
Утром она выбежала в одной рубашонке из-за перегородки и в недоумении остановилась: мама, одетая, лежала на кровати и плакала.
В тот же день какая-то из подружек спросила ее:
– Это правда, что вас папа бросил?
Бросил?.. Нет, нет. Вот же он… Вот. Весь в ремнях и сияющих пуговицах. Лейтенант. Вот он идет к ней, вот кладет рядом с кроваткой подарки…
Все колеблется, колышется, плавает в густеющем буром тумане. Туман плотнеет. В нем все тонет и растворяется. Оля уже ничего не видит, как не чувствует и чьего-то пальца на своем замирающем пульсе, как не слышит до хрипоты тревожного вопроса:
– Значит, только двести кубиков? Ответ был глухим и подавленным:
– Да, это все, что осталось.
Тот, кто держал Олину руку, посмотрел мятущимися, растерянными глазами на посеревшее лицо Оли, на стол, где лежал подготовленный к операции раненый полковник, на виновато потупившуюся сестру и упавшим, но твердым голосом сказал:
– Обоих такой дозой не спасти. А для женского организма она и вовсе мала. Будем вливать полковнику.
И бережно, не глядя ни на кого, опустил руку Оли на край носилок.
Окно маленького кабинета замполита госпиталя Сизова выходит как раз на аллею садика. Отсюда, с третьего этажа главного корпуса, она вся – как на ладони. И Сизов всегда видит, как по утрам аллея заполняется выздоравливающими, а к вечеру пустеет, медленно погружаясь в сумерки. Последние три дня, правда, над всем, что видно глазу, висят набрякшие дождем тучи, временами роняя на землю холодную изморось. Отяжелевшие, падают с деревьев последние листья, потемнели песчаные дорожки. Осень, вторая военная, пришла и сюда, в этот маленький волжский городок. И все эти дни уже совсем по-другому выглядит аллея госпитального садика. С утра до вечера она безмолвна и пуста. Сегодня тоже. Только один-единственный человек вот уже третий час сидит на самой дальней от корпуса скамейке. В который раз Сизов подходит к окну и видит все ту же горестно-задумчивую позу. Наверное, поэтому он никак не может взять себя в руки и сосредоточиться. Чужая боль сейчас, кажется, передалась и ему.
Два с половиной месяца в его сейфе лежали документы раненого полковника Торопова. Потертое, с рыжеватыми затеками по краям удостоверение личности, партийный билет и в целлофане две фотографии с запиской.
Сизов знал наизусть эти несколько строк, в спешке написанные, видимо, в очень нелегкую минуту.
«Товарищ полковник,
когда выздоровеете, вы найдете в своих документах две одинаковые фотографии. Одна из них принадлежала санитарке Ольге Тороповой. Вынося вас с поля боя, она была смертельно ранена. Мужайтесь, товарищ полковник. Мы не смогли спасти вашу дочь – не хватило цитрата (консервированной крови).
Врач медсанбата…» (подпись неразборчива).
Врачи не разрешали показывать записку адресату до его выздоровления. Но сегодня полковник выписывался…
Сизов видел, как, дрогнув, побледнело его лицо, как в оцепенении застыли где-то на одной точке глаза. Руки машинально складывали записку, а зрачки не двигались и никого не видели. Потом, как бы встрепенувшись, полковник, не попрощавшись, вышел из кабинета.
И вот уже третий час сидит в расстегнутой шинели – один среди пустого и зябкого садика…








