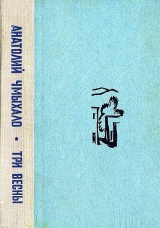
Текст книги "Три весны"
Автор книги: Анатолий Чмыхало
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
А как только наши ребята открывали по длинноносому фрицу стрельбу, из-за реки несся бешеный шквал пулеметного и минометного огня, и среди бойцов роты уже были жертвы.
Наиболее башковитые, в том числе и Костя, пытались найти хоть какую-то систему в забавах весельчака-фрица. Ну, например, как часто он прыгает, где и когда показывается. Делались расчеты.
Но ничего путного пока что никто не придумал. Били по одному месту, а фриц выскакивал в другом, метрах в тридцати-сорока в стороне. Потом ведь черт его знает, куда он подастся после очередного прыжка: вправо или влево.
Фриц понимал, что за ним охотятся, и это его еще больше веселило.
– Дурак ведь, много не напрыгает, – говорил Костя. – Честное слово, ухлопаю!
Вот и сейчас Костя, выглядывая из траншеи, прикидывал, куда побежит длинноносый. Шутник, а терял самообладание, когда били по нему сразу из нескольких мест.
– Костя, а ведь он тоже человек, – сказал Сема.
– Гад он вместе со своим Гитлером! Если он человек, то зачем пришел сюда, так ведь?
С того берега залпом ударили автоматы. Закрякали мины. Правда, это чуть правее, на фланге батальона.
– Костя, а ведь привык я к вам. Как буду жить без вас после войны?..
Но Костя не слушал Сему. Костя все наблюдал за вра жеской траншеей, из которой нет-нет да и показывался знакомый фриц.
– Дай-ка свежий диск, – решительно сказал он. – Я его сейчас срежу!
Вражеские минометчики словно услышали Костю. Они перенесли огонь своих минометов прямо на вторую роту. Мины стали рваться совсем рядом, и завыли над головами осколки, и пополз по окопам сладковатый дым.
– Повезло фрицу, – с сожалением сказал Костя.
– В сорочке родился, – крикнул Сема, и его голос потерялся в грохоте разрыва. Мина шлепнулась в полуметре от траншеи, комья земли посыпались вниз.
– Работенка у нас ничего, только пыльная, – снова заговорил Сема.
– Это – вещь, – оценил Костя.
Из хода сообщения выскользнул Петер. Пилотка – поперек головы, от уха к уху. Утер рукавом гимнастерки раскрасневшееся мокрое лицо и сказал, с трудом переводя дыхание:
– А кого я сейчас видел! Ни за что не отгадаете.
Ребята пожали плечами. Костя спохватился:
– Алешу Колобова? Тоню?.. Стой-ка! Илью Туманова?
– Нет, – закачал головой Петер. – Я ходил в штаб дивизии. А там пополнение прибыло. И ко мне подскочил…
Снова рванула мина по соседству. Петер упал было на колени, но тут же сердито махнул рукой в сторону разрыва: шумят, мол, слова выговорить не дают.
– Ваську Панкова видел! – крикнул он. – Вот кого!
– Да ну!
– Вот вам и ну! Ему за попытку перейти границу червонец дали. Десять лет. Да заменили штрафной ротой. Он уже был ранен, искупил вину кровью, а теперь его в нашу дивизию.
– Надо же так! – удивился Костя.
– Я ему рассказал, где мы. Обещал прийти. И еще я ему сказал, чтобы он просился в нашу роту.
– Думаешь, пошлют? – спросил Сема.
– А чего не послать? Пошлют.
Костя встрепенулся:
– Эврика! Послушайте-ка, ребята:
Может, пока караулю
В сердце желание жить,
В Руре успели пулю
И для меня отлить.
Помолчали. Петер присел, заерзал и, устраиваясь поудобнее, мягко сказал:
– Грустный стих.
– Веселого в нем, конечно, мало, – согласился Костя. – Но ведь на войне иногда и убивают. Тоже надо учитывать.
– Убивают.
– И ранить запросто могут.
– Могут, – подтвердил Петер, – Но не это главное, Костя.
– А что же, по-твоему?
– Главное – не ныть.
– Ты прав, пожалуй, – сказал Костя и, немного помедлив, раздумчиво заключил: «Кричат в полночь телеги, словно распущены лебеди».
Обстрел продолжался.
4
В Красноярск Алеша попал летом сорок второго года. До этого он вместе с Ваньком служил в запасном полку под Новосибирском. Перед самой отправкой полка на фронт начальство отобрало бойцов, имеющих десятилетку, и послало в артучилище. Было обидно, что их увозят еще дальше в тыл. Алеша подавал командиру полка рапорт, чтобы разрешили ехать на передовую, но рапорт в штабе оставили без последствий. И вот – Красноярск.
– Начальству виднее, кому куда ехать. На то оно и начальство, – рассудил Ванек, которому было, пожалуй, все равно, где служить.
Поезд прибыл в Красноярск днем. Стояла жара, тяжелая, изнурительная.
Ребятам хотелось к реке, хоть разок нырнуть, а уж потом идти. Но встречавший команду щеголеватый капитан лениво процедил сквозь зубы:
– Отставить!
Отставили. Не допризывники – знали уже, что в армии не поспоришь. Оно ведь и правильно: дисциплина должна быть настоящей. Капитан повернулся на каблуках, звякнул шпорами, оглядывая пополнение.
– Разобраться по-трое. Подтянись!
– Это почему же по-трое? – раздался чей-то недоуменный голос.
– Вы в кавалерии.
– Как так, товарищ капитан? А нам говорили, что артучилище, – с простодушной улыбочкой проговорил Ванек.
– Вы будете во втором дивизионе. А второй дивизион готовит артиллеристов для кавалерии. Нужно выучиться ездить верхом, владеть клинком и так далее, – пояснял капитан, выравнивая строй.
Он хватал ребят за руку, за плечо, ставил на место. Быстро навел порядок, и колонна зашагала по прокаленным солнцем улицам.
Прибывших не держали в карантине ни одного часа. Их с ходу завернули в небольшую баньку, вымыли, прожарили одежду. И в тот же день поместили в казарму, распределив по взводам, которые уже занимались. Ванек и Алеша попали в шестьдесят второй взвод.
Командир взвода Лагущенко, невысокий, с девичьим румяным лицом шатен, строго сказал новичкам:
– Это вам не пехота. Значить, артиллерист должен быть подтянутым, разворотливым, исполнительным. Или он не артиллерист, а баба. Понятно?
– Так точно, товарищ лейтенант, – выпятив грудь, весело ответил Ванек.
– А почему несвежие подворотнички?
– Мы только с дороги, товарищ лейтенант, – сказал Алеша.
– Это – последнее вам замечание. Вы не из гражданки пришли, а из армии. Понятно?
– Понятно, товарищ лейтенант.
– Скажу помкомвзвода, чтоб закрепил за вами карабины. Значить, пока что устраивайтесь.
Алеша и Ванек получили в каптерке пахнущие прожаркой одеяла и простыни. Потом вместе с ватагой курсантов сходили на конюшню и там набили наволочки мягкой и упругой соломой. А когда вернулись в казарму, между ровными рядами двухъярусных коек их встретил сердитый помкомвзвода. Алеша так и застыл от удивления и забыл поприветствовать его.
– Вот здорово! – сказал, наконец, Алеша. – Я вас знаю! Вы – сержант Шашкин. Мы встречались в Ташкенте. Еще до войны.
Как же это давно было! А ведь войны прошло чуть больше года.
– Может быть, – произнес Шашкин, строго глядя на Алешу. – Но подойдите ко мне снова и доложите по форме.
Вот оно как. А ведь Алеша чуть было не бросился обнимать его.
– Товарищ сержант, рядовой Колобов прибыл в артучилище для дальнейшего прохождения службы.
– Отставить!
– Товарищ сержант…
Шашкин побагровел:
– Два наряда вне очереди! Повторите.
– Есть два наряда вне очереди.
– Ступайте.
И вдруг Алеше стало обидно-обидно, и его взорвало:
– За что наряды? Вы хоть объясните, товарищ сержант! Должен же я знать…
Объяснили курсанты.
– Ты это вправду?
– Что? – не понял Алеша.
– Да ты же сержантом Шашкина кроешь, а он старший сержант. У него же три угольничка!
Алеша досадовал на себя. И надо ж было так оскандалиться! Ни за понюшку табаку схватил наряды, из-за такой мелочи: не обратил внимания на петлицы.
Он все-таки надеялся, что Шашкин смягчится и отменит наказание. Есть же у него сердце. Но через несколько дней Алешу послали на ночное дежурство в конюшню. Жалеючи его, курсанты со стажем из других батарей училища предупредили:
– Ты – новичок и кое-чего знать не можешь. У нас так положено: совсем не умывайся и не чешись от бани до бани. А кони должны быть всегда в аккурате. Не дай бог, ночью будет генеральная проверка и какой конь окажется в навозе!..
– Да к Образцовой не подходи сразу. Она, хоть и дохлая с виду, – бьет, стерва.
– Не давай Негусу грызть кормушку…
Нельзя сказать, что Алеша остался недоволен своим первым нарядом. Отдежурил он как положено. Не присел ни на минуту, пока утром не пришли курсанты чистить коней. Устал дьявольски, но острые запахи конского пота и навоза пробудили в Алеше воспоминания о детстве, о родном селе, о колхозе, в котором работала дояркой Алешина мать. Алеша любил коней и так же, как Федя, очень жалел их. Кстати, где он теперь, Федор Ипатьевич? Где Костя Воробьев? Наверное, они уже давно на фронте… А может, кое-кто и отвоевался…
5
На первых порах Ванек держался возле Алеши. У Ванька здесь не было других хороших знакомых, хотя сходился он с людьми удивительно скоро. Алеше он верил, считал, что тот его не даст в обиду. Правда, Ваньку не нравился Алешин характер. Одно дело, что горяч. Да и вечно на рожон лезет, спорит с кем придется, непременно хочет кому-то что-то доказать.
– Обижайся или нет, но ты философ, Алеша, – осуждающе сказал Ванек после случая с Шашкиным.
– Это на что ж я должен обижаться?
– Ты принципиальничаешь, – пояснил свою мысль Ванек. – Показываешь, что умнее всех. Вот тебе и влетает. За каждый угольничек получил по наряду? Получил. Люди в казарме спали, а ты по конюшне с горячими шариками на лопате бегал.
– Пусть я философ, пусть, по-твоему, это плохо. Но ты лопух, Ванек. Лопух и недоносок, – рассердился Алеша.
– Я учту твое замечание, – несколько спокойнее сказал Ванек.
В училище к зиме с продуктами стало плохо. Курсантов перевели на последнюю тыловую норму. Если учесть, что ребятам приходилось сутками работать с полной нагрузкой, иногда в легких шинельках на лютом морозе, то этой самой тыловой нормы порой недоставало для того, чтобы «заморить червячка».
Особенно страдали деревенские ребята, которые привыкли дома есть основательно, вдоволь сало да картошку, вареники да пироги. Здесь у них быстро подтянуло животы. Они ели овес и попадали в санчасть с коликами в желудке.
Во всех двенадцати батареях шла разъяснительная работа. Деревенских парней стыдили.
Кое-кому из ребят приходили посылки. Ванек чаще других получал на почте ящички, обшитые мешковиной. Тогда он стремился незаметно проскользнуть в казарму. Запирал посылку в тумбочке, и лишь по ночам доставал из нее сухари, и долго противно хрустел ими.
Какие-то крохи перепадали и Алеше, но это бывало лишь в день получения посылки, когда Ванек чувствовал себя богатым. Уже назавтра он забывал сунуть сухарь под Алешино одеяло. Покуривая в рукав после второго ужина (чтоб не увидел дневальный), Ванек сытно рыгал и говорил:
– Твои-то вот ничего не шлют.
Алеша молчал. Он получил нерадостное письмо из дому. Тамара писала, что им очень трудно. Отец страдал язвой желудка и слег в больницу. Бабка стала плохая, еле ноги носит. Жалея Тамару, бабка отдает ей свой хлеб. Тамара не может брать, но бабка заставляет. Совсем постарела она, бабка Ксения, долго не протянет.
Чем Алеша мог им помочь? Чем утешить? Если умрет отец, то пропадать Тамаре и бабушке. И мозг сверлила мысль: «Была бы Тамара постарше, пошла бы на работу. А то ведь не примут никуда».
Сказавшись больным, Алеша с урока конного дела ушел в самоволку. Он вылез через дырку в заборе и направился к Енисею. Шел, не замечая дороги, по сугробам, по обструганному ветром снегу. Миновав рыбачью избушку, возле которой лежали похожие на больших рыб долбленые лодки, Алеша спустился к закованной в ледяную броню реке. Как-то он видел здесь людей с удочками и сетями. Кажется, это было, когда Енисей только что встал. А теперь никого вокруг: ни рыбаков, ни пешеходов – в этом месте начиналась дорога через реку на небольшую пригородную станцию Злобино.
Алеше и не нужно было никого. Алеша хотел остаться один со своими думами. Что мог он? Послать домой денег? Но у Алеши всего пятерка в кармане, а за эту пятерку можно купить лишь иголку или полпачки махры.
Сестренка Тамара и бабушка Ксения, простите вы Алешу, но он ничем не может помочь вам. Нет, он напишет письмо, и в этом письме будет надежда на скорый конец войны. А придет победа – наедятся люди досыта. Конечно, те, кто выживет.
Алеше на какое-то время показалось, что дело в нем самом. Ведь он же не на фронте, да и не только он. Всем нужно туда, всем, всем! И взять с бою, вырвать из рук врага всякую инициативу и лупить его, не давая передышки, как лупили под Сталинградом.
«Я должен подать рапорт, – говорил он самому себе. – Должен, потому что до выпуска еще не меньше двух месяцев. Война идет уже два года, и меня никак не могут выучить воевать. Смешно! Сегодня же подам рапорт. Иначе мне нельзя. Поеду на фронт рядовым».
Вдоль Енисея тянул ледяной ветер – хиус, пробиравший до костей. Алеша зябко поежился и, чтобы согреться, пустился бежать в гору. Подъем был крутой, и Алеша запыхался.
«Рапорт! Рапорт», – вертелось в голове у него.
Тропка вывела на торную дорогу, и он вскоре оказался у забора. Но у того места, где поднимается доска, вовремя заметил часового. Значит, караулят тех, кто в самоволке. Что же делать теперь?
Свернул в улицу и направился в обход обнесенного колючей проволокой и всегда охраняемого артиллерийского парка. За парком горбились инженерные землянки, а дальше начинались конюшни. Возле конюшен и можно было незамеченным перелезть через колючую проволоку. Там обычно не ставился пост.
Дорога ушла вправо, а перед Алешей раскинулась синяя снежная целина. Шагать по ней было трудно, ноги по колено вязли в сугробах. В валенки сыпался снег. По-доброму так переобуться бы, но Алеше нужно спешить, его могут хватиться в любую минуту. Он ведь не рассчитывал на этот круг длиною около двух километров!
А вот и землянки. Алеша приблизился к ним и вдруг увидел по ту сторону проволоки преподавателя инженерного дела. Тот поманил Алешу кривым, как коготь, пальцем. И когда Алеша вплотную подошел к заграждению, подполковник заворчал:
– В самоволке? Не сносить тебе головы, Колобов! Под трибунал угодишь! Развинтился ты окончательно! И нет у тебя ни стыда, ни совести.
– Так точно, товарищ подполковник, – сознавая свою вину, тяжело вздохнул Алеша.
– Какой из тебя выйдет офицер! Чему ты научишь красноармейцев! Говори, где был…
– На Енисее. Разрешите идти? – Алеша стрелял глазами по сторонам. Не увидел бы его еще кто-нибудь!
– Один был?
– Один.
– Разумеется, сейчас не лето. А ты молод, Колобов. Очень молод, – сказал, словно уличая в чем-то нехорошем, подполковник. – Но ты больше не будешь ходить в самоволку?
– Конечно, нет. Это – последний раз! Самый последний!..
– Тогда подожди, я подам тебе стремянку. Но ты не подведешь меня, Колобов? Смотри у меня!.. А то не сносить тебе головы, Колобов!
На пути от землянки до казармы Алеша никого не встретил. А здесь уже бояться было нечего. Правда, Шашкин подозрительно оглядел его с ног до головы:
– В санчасть ходил?
– Да.
– Ну и что?
– Говорят, что это простудного характера.
– Тогда пройдет. Закаляться надо, а не сачковать, и никакая холера не пристанет, – рассудил Шашкин и углубился в учебник артиллерии.
Курсанты готовились к очередным занятиям. Кто читал, кто писал, кто разбирал учебные взрыватели и унитарные патроны. А Ванек надраивал проволокой шпоры, купленные у кого-то из курсантов. Он потихоньку сообщил Алеше радостную для себя новость:
– Вечером едем в город вдвоем с комбатом.
– Что ж, счастливого пути, – равнодушно сказал Алеша.
– Ты завидуешь мне.
Алеша криво усмехнулся. Было бы чему завидовать: комбат – тот самый капитан, что встречал ребят на вокзале, – поедет к кому-то из своих знакомых, а Ванек будет караулить коней. Завидная перспектива!
Ванек был очень доволен, что именно его вот уже в который раз берет капитан в город. Значит, Ванек ему по душе, а это кой-чего стоит.
– Никому я не завидую, Ванек. И себе тоже, – грустно сказал Алеша.
Устроившись в стороне от всех, на подоконнике, он написал рапорт на имя начальника училища. Писал, что готов умереть за Родину.
Он отнес рапорт в штаб училища и незаметно подсунул дежурному офицеру. И с этого дня стал с нетерпением ждать ответа. Но начальник училища медлил. Или он почему-то не получил рапорта или не хотел отпускать Алешу на фронт.
Вместо начальника училища с Алешей говорил командир взвода Лагущенко. Он размахивал перед Алешиным носом рапортом, и его красивое, девичье лицо свирепело.
– Не соблюдаешь субординации? Ишь, какой умный! А я кто тебе? Пушкин, что ли? А комбат, а командир дивизиона?.. Значить, на фронт пожелал? А на губу не хочешь? Тебя учат, деньги на тебя тратят, кормят тебя… Смирно! Тоже писатель нашелся, рапорты пишет! Кру-гом!
И на этот раз уехать на фронт не удалось. Приходилось ждать выпуска.
6
Целый день над окопами безнаказанно висела «рама». Уйдет на северо-запад, за Саур-могилу, вернется и снова уйдет. Иногда она пропадала на какой-нибудь час: очевидно, летала на заправку. По «раме» били из пулеметов и автоматов, из противотанковых ружей и винтовок, но она ходила высоко, к тому же у нее бронированное брюхо – попробуй сбей! Впрочем, говорили, что где-то сбивали.
Знакомство с «рамой» не сулило ничего хорошего. Эта двухфюзеляжная уродина сама по себе не была опасной. Она не бросала бомб. Вооруженная до зубов, она не стреляла по наземным целям.
Но красноармейцы люто ненавидели «раму». Даже «юнкерсы» и «хейнкели» не шли с ней в сравнение – вот как она насолила пехоте. Да и артиллерии от нее доставалось. Бомбардировщики сбросят бомбовый груз и улетят. Если уж попала бомба в цель – каюк, а пролетела мимо – живи, ребята, не тужи.
А «рама» в таком случае не даст бойцу покоя. Она вызывает и корректирует огонь тяжелой артиллерии. Если батарейцы промазали, она постарается поправить дело. Ей сверху все видно. А прогнать ее некому. Что-то нет поблизости зенитчиков. И истребителей наших не видно. Одни «мессеры» патрулируют в небе. Они забрались высоко-высоко, вдвое выше «рамы».
Весь день пехота ждала удара вражеской артиллерии. Но его не было. На широком фронте разорвался лишь один тяжелый снаряд, прилетевший откуда-то издалека, так как никто не слышал выстрела. Разрыв этого снаряда поняли в наших окопах, как начало артналета. Сейчас, мол, «рама» скорректирует стрельбу и пойдет свистопляска. Однако тревожились понапрасну.
Вечером «юнкерсы» молотили наши боевые порядки у Саур-могилы. Ветер принес оттуда бурую тучу пыли. В траншеях на какое-то время стало темно, как в погребе, лишь едва приметные краснели огоньки самокруток.
А ночью на правом берегу Миуса ревели моторы и скрежетали гусеницы танков. Похоже было, что фрицы сосредоточивали силы для наступления. Не собирался мириться Гитлер с потерей сталинградских и донских степей, хотелось ему Ворошиловский проспект в Ростове опять называть своим именем.
Не спалось этой ночью красноармейцам. Ожидание боя до предела напрягло нервы. Люди много курили, тревожно поглядывая в сторону вражеских окопов. Настораживало и то, что фрицы не подвешивали «люстр» и не обстреливали окопавшихся у самой воды наших дозоров.
Воздух в степи был свежий, пахучий – не надышишься. Ноздри ловили дурманящий запах чебреца и мелкой полыни. И Косте вспоминались бахчи за Шанхаем и крупные капли росы на пудовых арбузах. Ползешь, не поднимая головы, и катишь впереди себя зеленого великана. Вот это была работа! Когда падал вместе с арбузом в канаву, на рубашке не было сухого места. А как драпали от сторожа! А как палил он им вдогонку из дробовика, который однажды все-таки разорвало!..
На правобережье Миуса все еще рокотали моторы. И Петер, который лежал рядом с Костей на бруствере траншеи, сказал;
– Если будет атака, ее нужно ждать в том месте, где бомбили «юнкерсы».
– Ерунда, – возразил Костя. – Бомбили они для отвода глаз. А утром будут гвоздить по всему участку. Снаряд-то выпустили недаром. Это им надо было для пристрелки.
– А ты откуда знаешь?
– Предполагаю. Не такие уж они дураки, чтобы вечером бомбить, а утром наступать. Это все для отвода глаз.
– Что же, посмотрим, – сказал Петер.
– А я бы прежде хотел посмотреть сон. На свежую голову веселее воюется.
– Спи.
– Что-то не спится. – И после некоторой паузы: – Петер, ты когда-нибудь любил?
– Нет, не довелось.
– Гиблое это дело – любить, – тоном бывалого, все познавшего человека проговорил Костя.
– Догадываюсь. Но, к сожалению, личного опыта пока не имею. Истину приходится принимать на веру.
– А у тебя были чирьи, Петер? На мягком месте.
Петер промычал что-то.
– Это тоже плохо. Мучают, а не выдавишь, пока не созреют.
– Брось хандрить. Влада тебя любит, – сказал Петер, подтолкнув Костю локтем в бок.
– Если бы ты любил стихи, я прочитал бы тебе сейчас «Соловьиный сад» или что-нибудь еще. Но ты чудной человек, Петер!..
– Я люблю музыку, а она тоньше по чувству, чем поэзия, – возразил Петер.
– Не помню, что пророчил тебе Алеша Колобов на выпускном вечере…
– Начальника какого-то крупнейшего комбината.
– И ты им будешь.
– Так уж и начальником! – усмехнулся Петер. – Но инженером постараюсь быть на том самом комбинате. Уж это точно! Или ты мне не веришь?
– Почему же? Верю.
– Конечно, если ничего не случится… Главное, чтобы война не затянулась. Второго-то фронта все нет и нет. Этак можем и постареть для студенчества. А что? Время-то понемногу уходит…
– Так уж и постареем!
– А в институты сразу кинется уйма народу! Но я буду готовиться, чтобы поступить. Ведь мы уже столько перезабыли!..
Со стороны Миуса подошел снайпер Егорушка. Пригнулся, чиркнул зажигалкой.
– Ну как? – спросил его Костя.
– Вчера еще одного записал в поминание.
– Не мой ли попрыгунчик?
– Твоего не трогаю, как и договаривались, – сказал Егорушка, подсаживаясь к ребятам. – А чего-то фрицы все-таки затевают. Это вот похоже, как под Калачом было. «Рама» летала, а утром другого дня нам и всыпали… Покурю да, однако, пойду спать.
От блиндажей роты донесся хриплый голос телефониста: «Волга»… «Волга»… «Я – Иртыш»… «Я – Иртыш»… «Волга»…
Неподалеку кто-то рассказывал, как опаливают убитую свинью:
– Перво-наперво готовь солому. Кабана – в копешку, и разводи огонь. Аж зашкварчит! Но надо, чтобы жару было в самый раз. Мало – не изведешь щетину, много – затвердеет кожа. А паяльной лампой никогда так не обделаешь.
– У нас кипятком свинью обдают и потом дергают щетину, – раздался чей-то робкий голос.
– А у меня в Сибири зазноба объявилась, – сказал ребятам Егорушка. – Прислала письмо заочница, Аграфена Фокина. Выходит, Груня. Мол, желаю переписываться с отважным бойцом и после войны приглашает в гости. Мне это письмо старшина вручил. А я ответик состряпал самый теплый. Выходит, душевный. Груня, пишу, меня ваше письмо очень взволновало, и сам я – холостой. И это даже завлекательно для меня приехать в вашу Ивановку, когда война кончится. А она мне другое письмо пишет. Дескать, дорогой Егорушка, и так далее. Про специальность меня спрашивает. Ежели мне там понравится, то, мол, и работенка будет, в колхозе. А жить к себе приглашала… Ну чего еще солдату надо! Дело теперь за фотокарточкой. Пишу ей, мол, надо поближе узнать друг друга и прошу прислать карточку. А она не шлет. А я снова прошу. И завелась у нас переписка аж с прошлой весны. И так я ничего не получил от нее – в смысле изображения. Да и письма вдруг перестала присылать. Я тогда, долго не думая, написал председателю Ивановского сельсовета.
– Ишь ты! Сообразил, – покачал головой Костя.
– А чего! Раз село, то должен быть сельсовет, а сельсовета не бывает без председателя. Написал подробно. Мол, сообщите мне о судьбе Груни Фокиной. Очень желаю знать. И сегодня ответ пришел от председателя… – споткнулся на слове Егорушка.
– Заболела или что?
– Да нет, здорова. Не очень, но ничего!
– Изменила?
– Да что вы, ребята! По гроб моя!
– Так чего же голову морочишь? – спросил Костя.
Егорушка шумно вздохнул и, немного помедлив, продолжил:
– А то, что Груне моей шестьдесят седьмой годок пошел. И она не писала мне правды, чтобы не разочаровывать меня, когда я послал ей ответ душевный. А письма она сочиняла вместе с учительницей, которую перевели в другое село. Вот так и прекратились письма на фронт. Вот что, ребята, со мною приключилось. Сколько я мечтал об этой самой Груне, если б она знала! Я ее молоденькой, с черными бровями и длинной косой себе представлял. И почему-то в бордовой кофточке из фланельки. На спинке вытачки, короткий рукав, открытый ворот…
– Смотри-ка, он понимает!.. – засмеялся Костя.
– Я ведь учеником был в портновской. На дамском раскрое. Да и в журналах интересовался. Выходит, кое-что и понял. Ох, и обидно, ребята!
Вскоре он ушел. Костя и Петер еще поговорили и понемногу задремали. И показалось им, что их тотчас кто-то разбудил.
– Давайте в траншею. Светает, – сказал, тормоша Костю, рослый боец с противотанковым ружьем.
Костя смотрел на него спросонья непонимающим взглядом.
– Вставать надо, – добавил боец.
В степи было спокойно. Не слышно ни одного выстрела, не всплеснет внизу быстрый Миус. Притихли на той стороне танки. Лишь в утренней тишине еле слышная наплывала откуда-то песня жаворонка. Распелся, дурной. Что ж, если ему нравится, пусть поет.
Солнце поднималось все выше, а фрицы не стреляли и не шли в атаку. А что если все-таки начнут артподготовку?
– Кишка у них тонка форсировать Миус. Это им не сорок первый, – сказал появившийся в траншее Федор Ипатьевич. – Всю музыку они затеяли с перепугу, не иначе. Должно быть, показалось им, друзья мои, что мы вытряхнуть собираемся их из окопов. Вот и создали видимость, что технику концентрируют в балках да к траншеям пристреливаются.
– Неужели, Федор Ипатьевич? – Костя круто повернулся к Гладышеву.
– Точно. Разведка наша на ту сторону ходила. Зарывают в землю танки. Оборону укрепляют. Фрицу сейчас не до жиру.
– Вот гады! А мы не выспались из-за них, – простодушно сказал Костя. – Так ведь?
– Досыпайте.
– Придется, – согласился Петер и побрел к блиндажу.
Костя взвел затвор винтовки и стал ждать, когда над вражеской траншеей покажется черная голова весельчака. Ждать пришлось долго. То ли у фрица не было с утра игривого настроения, то ли он куда уходил. И лишь часов около десяти, когда солнце стало порядком пригревать, длинноносый фриц показал Косте язык. Впрочем, может быть, и не Косте, но тот принял это на свой счет и выстрелил.
Фриц забавлялся около часа. И Костя один раз едва не ухлопал его. Длинноносый прыгнул чуть в стороне от места, куда стрелял Костя, всего в каких-то пяти метрах.
И как всегда в таких случаях, на нашу траншею обрушился пулеметный и минометный огонь. Немцы не жалели боеприпасов. Методически били и били по левому берегу.
– Раззадорил ты их, – сказал Сема.
Но ударила наша артиллерия, и мины перестали падать на участке второй роты. Видно, залп накрыл минометчиков. И пулеметы оробели: стали стихать один за другим.
7
Наконец-то Васька Панков пришел на позиции второй роты. Пришел не в гости, а на службу, неся в одной руке автомат, а в другой – румынский ранец из конской кожи. Этот ранец он прихватил в окопах противника вместе с румыном, когда в начале зимы воевал в штрафной роте. Еще была у Васьки, как память о том времени, румынская бронзовая медаль, которую в шутку преподнес ему под Батайском знакомый штрафник.
После встречи с Петером Васька попросился у начальства, чтоб послали его к своим ребятам. Но майор из штаба дивизии недовольно отмахнулся от Васькиной просьбы:
– Это в тылу только – наши и ваши. Здесь все свои. Сегодня чужие, а завтра свои.
Он послал Ваську в комендантский взвод. И служить бы Ваське там, как солдатскому котелку – век без износа, если бы не Федя. Спасибо ему, дотолковался с кем-то в штабе, и вот Васька, живой и здоровый, стоял перед ребятами. И поблескивали от радости влажные Васькины глаза.
– Явление Христа народу, – сказал он и бросил рюкзак, и обнял свободной рукой сначала Костю, а потом Сему. – Ведь надо же так, огольцы! Никогда не думал, что придется воевать с кем-нибудь из наших! А тут смотрю – идет Петер. Самому себе не поверил. А потом фараона увидел, того, кто меня попутал, Гущина. Ты-то с ним дружбу завел, Петер?
– Я? Да ты что? – оправдывался Петер.
– Ну, а зачем ты к нему ходил?
– Я ходил? Я был в штабе дивизии. Ну он меня и встретил. В дружки набивается.
– Ладно, чего уж там.
Костя разглядывал Ваську. За время, что они не виделись, Васька похудел и почернел лицом. А в глазах его была усталость, большая усталость от пережитого.
Васька продолжал:
– У вас тут затишье. Заскучать можно. В штрафной роте я уж привык к шуму. По тебе и танки лупят и минометы, и авиация тебя молотит. А у вас что?
Конечно, он немножко рисовался. Он был прирожденным артистом, этот Васька Панков. Хотя в штрафной роте он всего перевидал. Как-никак был ранен и снова в строю. Может, другому его переживаний на всю жизнь хватит.
Костя все еще глядел на Ваську долгим испытующим взглядом. В уголках рта у Васьки было что-то горькое.
Костя чувствовал себя виноватым в том, что случилось с Васькой. Ведь если бы учком охватил Ваську какой-то работой… Ох и мальчишка же сам Костя! Идеалист, как его иногда называл Алеша. Костя определенно переоценивал возможности учкома. Но ведь все знали, что Васька водится с ворами и хулиганами, и никто не попытался оторвать его от шайки.
Однако не слишком ли поздно печалиться об этом сейчас, когда и лагерь, и штрафная рота у Васьки позади, и он такой же обстрелянный солдат, как и все здесь, на переднем крае. Но это хорошо, что обошлось счастливо. Из штрафников выживают немногие – на то они и штрафники.
– У вас затишье, – повторил Васька, шаря у себя по карманам. Очевидно, он искал табак и не мог найти. И словно извиняясь, что так произошло, широко развел руками.
За рекой грохнуло, и на этот залп отозвались разрывы на левом берегу, неподалеку от места, где стояли ребята. Как челноки, засновали люди в траншее. Солнце тускло поблескивало на касках. Костя и Петер тоже надели каски, а у Семы и Васьки их не было. Сема утопил свою каску в колодце, когда черпал ею воду на одном из безлюдных степных хуторов. Сейчас Сема лишь втянул голову в плечи и невесело усмехнулся:
– Дает. Не война, а сплошное убийство.
Один из снарядов угодил в траншею. Санинструктор Маша, молоденькая, красивая девушка, и усатый боец, годный ей не то в отцы, не то в деды, пробежали к тому колену траншеи, над которым еще стояло бурое облако разрыва. Маша, еле успевавшая за усачом, покрикивали на него:
– Скорее! Скорее!
Вскоре на плащ-палатке пронесли парня с землистым и как будто удивленным лицом. У него были перебиты ноги. Парня несли к землянке, где была перевязочная.
Затем на плащ-палатках протащили еще двух. Эти уже не нуждались в помощи. Ночью их закопают друзья где-нибудь поблизости.
Костя угрюмым взглядом проводил погибших, и в его мозгу снова мелькнуло:
В Руре успели пулю
И для меня отлить.
После войны тут можно будет добывать свинец и железо. Залежи по всей линии фронта.






