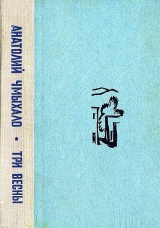
Текст книги "Три весны"
Автор книги: Анатолий Чмыхало
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
– Странно, но и здесь убивают людей, – скорее печально, чем в шутку проговорил Васька и снова зашарил в карманах.
Костя дал ему закурить и закурил сам. Снаряды стали ложиться ближе. После каждого взрыва в траншею залетали комья спекшейся земли и осколки.
– Черт возьми, до чего скучно вот так сидеть, – сказал Сема.
– Тоже мне пошел жаловаться! Разве ж такая скука? – возразил Васька. – Вот там скука, где я побывал, так это без трепа.
– Ты хоть бы рассказал, как все получилось, Мы ведь ничего не знаем. Верно, ребята? – подвинулся Сема к Ваське.
– Что скажешь? – дернул плечом тот. – Глупо вышло со мной. И вспоминать не хочется.
– А все-таки, – не обращая внимания на ухавшие разрывы, попросил Петер.
– Скажи. За что-то ведь припаяли тебе десятку, – рассудил Сема.
– По совокупности совершенных преступлений. – Васька сплюнул и замолчал.
К вечеру погода испортилась. Подул ветер, взвихрил над окопами пыль и согнал к Миусу тучи, грозные, темно-синие. И вскоре проплясала по земле и по каскам первая дождевая очередь. И улыбнулись ребята наступающему ненастью. Значит, сегодня, а может, и завтра не будет бомбежек. А еще можно помыться под дождем. Нужно лишь раздеться догола и немножко поплясать в траншее.
Перестрелка стихла по всему фронту. Фрицы для чего-то пустили в набрякшее водой небо подряд несколько ракет и успокоились.
– В такую погоду хорошо сидеть дома и что-нибудь мастерить. Дождик стучится в окна, а тебе сухо и тепло, – вслух размечтался Васька. – Но сидеть дома не обязательно. Можно оторваться из дома. Засучить штаны и бегать по лужам.
– Можно, – согласился Сема, и вдруг ни с того ни с сего: – Я, ребята, у Смыслова партию выиграл. Он давал сеанс на двадцати досках. В Доме офицеров.
– Смухлевал? – спросил Костя.
– Вместо положенного одного хода, два делал. Думал, что заметит. Аж сердце ёкнуло, когда он подошел. А он посмотрел на доску и очень удивился, и потом посмотрел на меня. Имей я совесть, покраснел бы и погиб сразу. Но у меня ее в тот раз при себе не оказалось. И смотрю я на него чистыми, ангельскими глазами. И он поверил. Взял своего короля за голову и опрокинул.
– Ты гад, Сема, – сказал Костя.
– Не знаю. Может, и так. Только я о себе лучше думаю, – важно ответил тот. – И вышло, что один я у Смыслова выиграл и пять ничьих. Остальные четырнадцать – его. Меня сфотографировали тогда.
– Значит, не заметил?
– Если бы так, – вздохнул Сема. – Он все заметил, да не стал поднимать шума. Только шепнул мне на ухо одну новость. Вроде той, Что Костя сейчас сказал.
С наступлением темноты Костя надел шинель, взял винтовку и ушел в дозор. Парень, которого он сменил, потер замерзшие руки, молча кивнул на ту сторону и направился в тыл быстрыми, размашистыми шагами.
Сначала Костя не понял дозорного. Он напрягал глаза, всматривался в еле различимый за сеткой дождя правый берег, и ничего подозрительного не замечал:
«Спит, наверно, длинноносый», – подумал Костя, кутая лицо в поднятый воротник шинели.
Но вот из-за Миуса донеслись негромкие звуки баяна. Играли медленно, по нескольку раз повторяя одни и те же ноты. Кто-то разучивал «Катюшу». Видно, на это обращал дозорный Костино внимание.
«Веселятся фрицы. Затишью радуются», – решил Костя.
А сам снова увидел в мыслях гордую, умную Владу. Почему Влада так сдержанна в чувствах к нему? Неужели нашла другого, из тех, кто носятся по магазинам и ресторанам? Нет, она никогда не предаст их дружбу. Если же кто ей понравится, Влада напишет об этом открыто. Уж такая она есть, что бы ни говорил о ней Алеша, что бы ни говорили другие ребята. Костя лучше их знает Владу и готов поклясться, что она не солжет, никогда не покривит душой.
Может, просто у Влады было дурное настроение, когда она писала Косте. Трудно живут люди в тылу, а ей вдвойне труднее – без матери. Надо ей черкнуть что-то теплое, ободряющее.
Теперь уже немного осталось ждать до победы. И тогда они встретятся и, если сохранят в сердцах любовь, свяжут свои судьбы. Об этом давно втайне мечтает Костя. Он не представляет себе будущего без Влады.
За рекой снова заиграл баян, все так же медленно, но решительнее. Фриц определенно делал успехи в учебе, хотя и фальшивил кое-где. Сидят, сволочи, на нашей земле да еще и наши песни играют!
– Рус! Рус! – неожиданно раздалось на том берегу. – Иди к нам! Петь будем, шнапс пить будем!
Голос был слышен хорошо. Но никто из наших фрицу не ответил.
– Рус – трус! Иван отчень трус! – дразнился фриц, вызывая на разговор.
– А ты дерьмо свинячье! – не выдержали у нас.
В словесной перепалке произошла заминка. За Миусом, очевидно, решали, что сказать. И, наконец, оттуда донеслось:
– Рус! А что есть дер-мо?
– Сдавайся в плен! Учить будем!
– А что есть дер-мо? – повторили вопрос. – Вас ист дас?
– Подожди, со временем все узнаешь!..
Дождь не переставал. Он проводил Костю до землянки и еще долго дробно рассыпался у порога. Ребята не спали, когда промокший Костя по чьим-то ногам прополз на свое место. Ребята слушали неторопливый рассказ Васьки Панкова:
– …Нас было четверо. И я шагал рядом с дяханом, который привел меня к аксакалу Касыму. И нес я кожаную суму со жратвой и еще баночку с дунганским перцем. Аксакал Касым и его помощник Самед через каждую сотню шагов брали у меня перец и посыпали тропинку. Это чтобы собаки след не почуяли. Вот так мы и топали. Но нас ждали там. Была засада. От самой Алма-Аты за нами следили… Ну потом и начался сабантуй. Целый взвод против нас!
– Ты что-то, брат, заливаешь! – сказал Егорушка.
– Вот и ты не веришь.
– Рад бы, да это ведь сказки одни.
Васька закурил из чьего-то кисета и вдруг нащупал рукой Костю, и дал ему затянуться. Костя с наслаждением пыхнул дымом, устраиваясь спать.
– Ну как там? Поливает? – спросил Васька.
– Есть немного. Фрицы звали к себе. Петь «Катюшу».
– Да ну!
Костя рассказал о состоявшихся переговорах. Васька внимательно выслушал его и протянул:
– Вот так исто-рия! Сходить бы туда!
– Убьют. А если и вернешься живым, трибунал к стенке поставит, – сказал Сема.
– Что верно, то верно, – после непродолжительного раздумья заметил Васька.
– Спать, хлопцы! – прикрикнул самый старый во взводе – сорокалетний пулеметчик Михеич.
8
Едва занялась заря, один из наших блиндажей хлестко обстрелял танк. Стрелял он из сада, одетого кипенью цветения. А когда наша артиллерия буквально раздела деревья, оказалось, что сад пуст, что наших перехитрили. Сразу же после выстрела под частую дробь пулеметов фрицы отвели танк на запасную позицию.
Наши артиллеристы, сообразив, что их провели, открыли такой огонь по траншеям, что сидевшим там фрицам пришлось туго. Но это была пехота, а танк все-таки ушел.
Единственный выстрел немецкого «Т-4», хотя и развалил угол блиндажа, беды не наделал. В этот утрений час люди завтракали в балке, у походной кухни, и блиндаж был пуст. Повезло солдатам второй роты. Случись такое полчаса спустя, наверняка были бы жертвы.
Темнолицый и такой же кругленький, каким он был в гражданке, капитан Гладышев заглядывал в ходы сообщения и блиндажи. И покрикивал через плечо командиру роты и старшине, которые неотступно ходили за ним:
– Где маскировка? Я не вижу маскировки!.. Укрывайтесь плащ-палатками и всеми подручными средствами. Ройте ложные траншеи.
– Значит, засели мы здесь капитально, – слушая Федю, сказал Костя.
– Не все же время наступать. Надо подтягивать тылы, накапливать силы, – рассудил Петер.
– Ты что-то смыслишь в этом деле, – Васька уважительно посмотрел на Петера и принялся сбивать прикладом автомата глину, пристывшую к подошвам сапог.
– Ты не шути! – предупредил Костя, намереваясь отобрать у Васьки автомат.
Но тот решительно отвел Костину руку:
– Ну чего?
– Убить можешь. Были случаи, когда вот так – удар автомата о землю – и очередь. Сам стреляет.
– Ладно уж, – согласился Васька и повесил автомат себе на шею.
Он стал много сговорчивее. Повзрослел, да и в тюрьме чему-то научился, и в штрафной роте. Не выносил лишь одного: сочувствия к себе. Оно Ваське, что нож по сердцу.
Федя на ходу протянул руку Косте, поздоровался таким же образом с Васькой и Петером. И уже зашагал дальше, но, что-то вспомнив, вернулся к ребятам. Коротко кивнул в сторону Миуса, проговорил:
– На хитрости пускаются фрицы, на обман.
– Да, – сказал Костя. – Танк-то улизнул.
– Улизнул, – подтвердил Федя, задумчиво глядя мимо ребят, и вдруг словно очнулся от сна, живо пробежал глазами по их лицам. – Кто из вас дежурил сегодня ночью?
– Я дежурил, – ответил Костя.
– «Катюшу» слушал?
– Слушал.
– Эх, Воробьев, Воробьев! Простаки мы с тобой. Учить нас с тобой надо! Понял, мой юный друг?
– Ничего не понял, Федор Ипатьевич. То есть – товарищ капитан.
– Дорого обошлась нам эта самая музыка. Под «Катюшу» они петеэровца у нас украли вместе с противотанковым ружьем. И сунул же черт оставить петеэровца в окопе на ночь. Это все ваш ротный! Вот он, полюбуйтесь на него, – беззлобно сказал Федя. – Все ждет танков после той беспокойной ночи.
– Неужели украли? – удивился Васька. – Это же надо переплавить через речку. Лодку спускали на воду, не иначе.
– Гадай теперь, как было дело, а петеэровца утащили. И парень-то был хороший, герой, комсомолец. А ведь взяли его, сволочи, без звука, пока «Катюшу» пели. Так вот, Воробьев, как развешивать уши! На воду надо было смотреть, на воду!
Смятый сознанием собственной вины, Костя стоял перед Федей опустя голову. Упреки были справедливы, хотя ведь петеэровец – не ребенок. Как он мог дать схватить себя и перетащить на тот берег? Или спал или добровольно ушел с фрицами. То есть не совсем добровольно, а скис, когда на него наставили оружие. Боясь за свою жизнь, не поднял тревоги. Но, может, было и не так, а как-то по-иному. Все равно Костина вина есть, раз украли петеэровца на участке их роты.
– Делай выводы, Воробьев, – сказал на прощание Федя.
Старшина принес и раздал бойцам погоны. В армии вводились новые знаки различия, и пусть все знали об этом уже давно, погоны стали бы в этот день предметом оживленного разговора, не будь злополучного петеэровца. Теперь вторая рота только и говорила, что о ночном происшествии.
– Может, его не украли вовсе, – сказал Васька, – Может, заболел человек и лежит где-нибудь под берегом. Надо бы посмотреть.
– Да уж смотрели, кому это положено, – возражали Ваське. – Был уже тут один из Особого отдела.
– Гущин был. Я думал: чего он ходит? – догадался Костя. – Ребята, как же так получается? А если всех нас поодиночке перетаскают таким манером?
– Всех вряд ли, – заключил Васька. – А тебя уволокут. Да что говорить! Сегодня чуть не украли. Уши развесил.
– Чуть – не считается, – сказал Сема.
Следующей ночью у самой воды саперы ставили рогатки и минные поля. На той стороне снова играл баян, и фриц напевал «Катюшу». Но на этот раз дозорные уже не переговаривались с ним, а зорко вглядывались в противоположный берег.
И кто-то из дозорных заметил выросшую над вражеской траншеей фигуру, и в ту же секунду ударил по ней автомат. Но фигура как стояла, так и осталась стоять. А в ответ на новую автоматную очередь из-за реки опять донеслось:
– Рус! Что есть дер-мо? Вас ист дас?
Когда же рассвело, бойцы увидели на берегу воткнутое стволом в землю противотанковое ружье, а на нем темно-зеленую каску петеэровца. И после этого ни у кого уже не осталось сомнений в судьбе пропавшего красноармейца. Значит, все-таки выкрали!
И, конечно, было обидно нашим ребятам. Мало того, что уволокли человека, да еще и издеваются. Но обида – обидой, а что сделаешь, чем насолишь фрицам? Из окопов они не вылазят, разве что попрыгунчик, и тот что-то перестал резвиться. А в окопах их не сразу достанешь и снарядами и минами. Да и наша артиллерия не всегда ввязывается в перестрелку. Наверное, тоже накапливают силы.
Один из бойцов попытался было стрелять по каске, чтобы сшибить ее, но его остановили. Первое дело – все равно не сшибешь, другое – каска-то хоть на той стороне, а наша она, советская.
Гущин снова пришел во вторую роту. Долго смотрел в бинокль на вражеский берег. И спросил:
– Глубок ли Миус? Есть ли брод?
Этого никто в роте не знал. Но высказывали предположение, что сейчас, при подъеме воды, Миуса не перейти. А Васька Панков заметил:
– Не собираетесь ли сходить к фрицам?
– Собираюсь.
– А если я схожу?
Гущин насмешливо посмотрел на Ваську:
– Струсишь.
– Ни к чему мне, а то бы смотался.
Проходили дни и ночи, а ружье с каской все стояло на том берегу Миуса. Артиллеристы уже считали его за ориентир.
– Позор наш стоит, – отворачивался от него капитан Гладышев.
Костя снова находился в дозоре. И ночь, как на зло, была опять темная, и порывистый ветер туго бил в лицо. А фрицы пускали ракеты, и после каждой из них на какое-то время глаза совершенно слепли. С тем большим напряжением вглядывался Костя в правый берег. И вот из мрака снова выступила островерхая Саур-могила, помнящая Игоря и храп половецких коней на Диком поле. А может, не было у Кости ни детства, ни школы, и Костя воюет еще с далеких Игоревых времен?
Но если есть память у кургана, то какою же она должна быть у человека! И Костя помнит до мелочи все, что случилось с ним. Прошлое постоянно живет в нем.
– Везет же мне, – вслух подумал Костя. – Опять темень кромешная.
Тревожно было Косте. Поэтому он очень обрадовался, когда вскоре к нему пришел Васька. Сел рядом и молча, неподвижно, как идол, наблюдал за правым берегом. Противник ничем не выдавал своего присутствия. Было так тихо, что Костя и Васька слышали, как на том берегу плескалась вода о корягу.
– Спит, наверно, солист. И видит во сне свою паршивую Германию. Ему бы в окоп сейчас гранату! А? Не успел бы очухаться, как явился к господу богу.
– Тише.
– Не украдут – не бойся. Кого нужно было, того уже увели… Незавидую я тому петеэровцу. Сидит теперь где-нибудь в фашистском лагере на баланде. Если, конечно, не расстреляли. А кругом колючая проволока, пулеметы да овчарки. Не убежишь!.. Хотя в любом положении можно что-то придумать…
– Бегут ведь. И линию фронта переходят.
– Берег-то наш минирован? – спросил Васька.
– Не знаю. Лазили тут саперы. А чего тебе?
– Да так. Может, я хочу смотаться к фрицам.
– Не дури, Васька. Убьют. Ты с ума сошел!.. Иди-ка лучше спать, – посоветовал Костя.
– А ежели мне тут нравится, – медленно проговорил Васька.
– Слушай, я подниму тревогу. Я на посту и не имею права!.. Ну тебя же свои подстрелят!..
– Не подстрелят. Я поплыву тихо-тихо. А будет шибко невпроворот, прикрывай огнем.
– Не надо, Вася. Я даю выстрел, – с холодной решимостью сказал Костя. – Нам обоим отвечать придется. Перед трибуналом.
– Ладно. Я отвечаю сам за себя. Заткнись!
– Стой!
Васька скользнул вниз, к реке. А Костя догнал его, схватил сзади за ворот гимнастерки:
– Тут мины!..
Васька осел. Он долго молчал, тяжело дыша, а потом сказал с болью:
– Думаешь, я…
– А я ничего не думаю! – сурово проговорил Костя.
Васька скрипнул зубами, нехорошо рассмеялся. И сразу посерьезнев, сказал:
– Фашиста я вот этими руками… А как ходит к ним в окопы разведка?
– Разведка не самовольно идет. Ее посылают. К тому же она не одни сутки готовит поиск.
– Ладно, уговорил. Тогда я попробую храпануть, – Васька нырнул в ход сообщения и пропал во тьме.
Напрасно Костя вслушивался в чуткую, загадочную тишину: он ничего больше не услышал. А время шло медленно. Косте казалось, что его уже давно должен был сменить Петер.
Васька ушел. Может быть, спит уже. И надо только додуматься, в одиночку плыть к врагу. Да это же верная гибель! А что, если Васька хотел бежать к немцам? Ваську обидели, он сидел в тюрьме, был штрафником… Но тут же Костя отогнал от себя эту мысль. Нет, Васька не такой. Он и нахулиганит, и ругаться может, как извозчик. Но изменить Родине? Нет! И если уж на кого обижаться Ваське, так только на себя, что, как мышь в мышеловку, попался в засаду вместе с контрабандистами.
Сзади послышались тяжелые шаги Петера. Он подошел, продирая заспанные глаза:
– Ну что тут?
– Все нормально.
– Васька-то был с тобой? – спросил Петер.
– А ты где его видел?
– Да он только что мне попался.
– Мы с ним покурили, и он ушел, – подавляя тревогу, ответил Костя.
– А вроде он мокрый…
Устраиваясь в землянке спать, Костя почувствовал под рукой что-то гладкое и холодное. Поднес громоздкий предмет к самому носу, стараясь разглядеть. Да это же аккордеон! Откуда он взялся? Может, кто принес из ребят? Но во взводе не было музыкантов, да и кто доверит кому такое богатство?
– Окопчик у самого берега и – никого, – все еще дрожа от холода и возбуждения, рядом зашептал Васька. – А музыка лежит, прикрытая каким-то тряпьем. Вот и взял, а плыть с нею – одно горе… Тихо у фрицев. А ружье еле выдернул. Потопил, и каску тоже. Там… – и он кивнул в сторону реки.
– Давай спать, – Костя боялся, что их разговор могут услышать.
На переднем крае по-прежнему было тихо, словно все онемело и вымерло.
9
Невероятные превращения бывают с людьми. Годами привыкаешь видеть человека одним и вот открываешь в нем что-то другое, неожиданное. Злой оказывается добрым, трусливый – смелым, или наоборот. И тогда ты ломаешь голову: что же произошло? И твой хороший знакомый на поверку оказывается не столь уж тебе знакомым.
Старший сержант Шашкин с наступлением весны стал неузнаваемым. Чем ближе был день выпуска, тем душевнее относился Шашкин к Алеше, да и к другим курсантам. Теперь он даже посмеивался над усердными служаками из новичков. И не любил вспоминать о нарядах вне очереди, которыми он еще недавно так щедро награждал курсантов.
На глазах переменился старший сержант. Но перемены были чисто внешними. Алеша догадывался, что творилось в душе у Шашкина. Шашкин боялся, что ему отомстят, когда все станут равными по званию. И еще вопрос, будет ли он лейтенантом. Особых склонностей к наукам Шашкин не имел. Привилегий для себя ему приходилось добиваться лишь безупречной службой.
Теперь Шашкин хорошо относился к Алеше. По воскресеньям он добивался у комбата увольнительных в город для себя и Алеши. Тогда они целыми днями бродили по улицам Красноярска. А было когда уж очень холодно, шли на дневной сеанс в «Совкино».
– Алеха, а я ведь не знал, что ты такой компанейский да балагуристый, – говорил Шашкин, заглядывая в Алешино лицо.
– А если бы знал?
– Давно подружился бы. Я ведь тоже компанейский.
– Ты ребятам это скажи, а то не поймут еще да отлупят, – советовал Алеша.
– А что я? Служба есть служба. Может, и обидел кого, так не нарочно же. Каждый бы так действовал.
Переменился и Ванек. Последнее время он старался избегать встреч с Алешей один на один. Видно, чувствовал себя виноватым, что променял друга на щеголеватого комбата.
А дела в училище шли своим чередом. Алеша почти ни о чем не думал, кроме уроков. У него для этого просто не хватало времени. Лишь урывками, в какие-то минуты перед сном, мыслью переносился домой. И тогда вставала в его памяти смуглолицая, черноглазая Мара. Празднично светились театральные люстры и прожекторы. Она шла в своей голубой блузке бок о бок с Алешей и что-то горячо шептала ему.
Случилось, что Алеша писал ей письмо, но тоже в мыслях. Написать он мог, конечно, и в самом деле, но адреса Мары Алеша не знал. Она кричала ему свой адрес, когда поезд уже тронулся, и Алеша хорошо понял ее. Но не успел отойти от окна, как все позабыл. Тогда казалось ему, что Марин адрес не имеет столь уже большого значения, что Алеша найдет ее, хоть под землей. Напишет ей на работу.
И спохватился, что Мара уже не работает на кондитерской фабрике. Она говорила, что устроилась на какой-то военный завод.
Можно было написать в паспортный стол, там нашли бы ее и ответили. Но Алеша не знал фамилии Мары. Странно, но не знал. Просто никогда не заходил разговор об этом. Мара и Мара.
А Мара? Помнит ли она Алешу?
Вот кончится война, и Алеша поступит в театральный институт. Будет играть нисколько не хуже Вершинского.
И потом, как Кручинина из «Без вины виноватых», приедет в свой город. И встретит его красавица Мара, и станет она гордиться им.
«Что бы написать Маре?» – думал он и начинал искать подходящие слова. Ну, конечно же, соскучился о ней. Но приехать сейчас домой не может. Идет война, и он должен быть на фронте.
Нет, все это и то и совсем не то. Нужно писать так, как ты чувствуешь. При одной мысли о Маре, он готов был улететь к ней. Если б только она навсегда позабыла и Гущина, и Вершинского ради Алеши! Если б только ждала его до победы над Гитлером.
«Милая моя Мара»… Нет, лучше – единственная. И над «единственной» будет смеяться. Мол, я и так знаю, что одна у тебя, и объяснять этого не надо. А если – просто Мара? Что ж, пожалуй.
«Мара, у вас уже тепло и ты выходишь на улицу в своей голубой блузке, а в Сибири еще не совсем стаял снег. Енисей лежит подо льдом, как русский богатырь, закованный в латы».
Письмо обычно скоро кончалось: Алеша засыпал. А снов у Алеши в армии не бывало. Он очень уставал.
Наконец, кончилась учеба. Ждали из Москвы приказа о присвоении званий.
Во второй половине дня, когда шестьдесят второй взвод отдыхал после обеда, в казарму, как угорелый, влетел Ванек:
– Есть! Есть! Приказ пришел!
Ваньку поверили. Все знали о его дружбе с комбатом, если так можно назвать отношения между ними. Скорее комбат покровительствовал Ваньку, но считал его ниже себя не только по званию.
Казарма заволновалась. У других взводов батареи были сорваны уроки, которые проходили тут же. Сержант Шашкин плясал, позвякивая шпорами. Высоко под потолок летели шапки, подушки, одеяла.
Немного погодя выпускники были выстроены на плацу. Играл духовой оркестр.
Зачитан приказ. Среди окончивших училище лейтенантами Алеша услышал свою фамилию. Лейтенантов присвоили немногим: кто учился отлично. Остальные шли младшими лейтенантами. В этой компании были Ванек и Шашкин. Оба не успевали в военных науках, сами понимали это и особенно не обижались за младших лейтенантов. Как-никак – офицеры.
И тут же были оглашены назначения. Алеша посылался в распоряжение командующего кавалерией Южного фронта в Новочеркасск. Алеша знал, что это где-то недалеко от Черного моря. А в газетах писалось, что зимой шли там жестокие бои.
Из ста с лишним человек в Новочеркасск ехали пятеро, кроме Алеши. И он никого из них не знал, потому что служили они в других батареях и жили в других казармах.
Шашкин ехал на Юго-Западный фронт. Рядом, а все же не вместе. Об этом Шашкин очень сожалел и просил ребят поменяться с ним назначениями. Но сделать это было не так просто. Пришлось бы переписывать какие-то штабные документы. А кто пойдет на такое! Это же армия.
– Мне бы Южный, Южный, – с непостижимым упрямством говорил он.
И уж Ваньку сочувствовали они оба. Ванек оставался в Красноярске. Его ставили на продовольственно-фуражное снабжение, сокращенно ПФС. На этой работе обычно держали старичков, и Ванькова предшественника уволили по старости. Но комбат, тот самый щеголеватый капитан, нашел, что Ванек будет незаменимым работником ПФС. И Ванек должен был стать интендантом.
Ванек перебрался в офицерское общежитие. Он даже не стал получать вместе со всеми новенькую хлопчатобумажную форму и погоны. Он получит все это потом.
Ванек рылся в тумбочке, перекладывая с места на место мыло, книжки, осьмушки купленной ребятами в дорогу махорки. Он что-то искал. Наверное, свой целлулоидный подворотничок. Он чаще всего именно его и искал.
Алеша издали наблюдал за быстрыми движениями Ваньковых рук. Ванек торопился и в то же время не мог уйти, не найдя того, что ему было нужно. По его потному лицу метались тени, а на вздернутом носу серебрились крохотные капельки пота.
– Ванек, – позвал Алеша, подойдя к нему и остановившись у него за спиной.
– Что? – Ванек не повернулся.
– Говорят, завтра уезжаем. Поговорить бы надо на прощание.
– Можно и поговорить.
– Когда?
– Да хоть сейчас, – Ванек выпрямился и, с силой захлопнув дверцу тумбочки, сел на койку. – Жалко, что ты уезжаешь. А я что? Где приказали служить, там и буду.
Алеша рванулся к нему, заговорил взволнованно:
– Рапорт подавай! Теперь можно.
– Рапорт? А зачем? – удивился Ванек. – Кому-то ведь нужно кадры готовить. Дело, Алеш, поважнее, чем на фронте саблей махать…
Алеша понял все.
– Значит, поважнее?
Ванек кивнул.
– Формально ты прав. Но ведь идет война! Ты должен подать рапорт!
– И подам.
– Когда?
– Когда будет нужно. А чего ты меня допрашиваешь? – грубо проговорил Ванек.
– Что ж я считал, что мы друзья. Извини.
– Мы с тобой уже не в десятом «А», и у меня своя голова на плечах. Соображаю.
– Вот именно. Оставайся в тылу, трус!
– Что? – кинулся Ванек. – Что ты сказал?
– Ты слышал.
К ним стали подходить ребята. И Ванек, не желавший продолжать этот разговор при свидетелях, сослался на занятость и исчез.
– Что это вы? – спросил Шашкин у Алеши.
– Так себе. Родные места вспоминали.
– Жалко, что Мышкина тут оставляют. Переживает?
Алеша пожал плечами.
Ночью подгоняли обмундирование. Пришивали к гимнастеркам новенькие полевые погоны. Из грубых солдатских шинелей делали офицерские, пришивая блестящие пуговицы и стягивая суровыми нитками раструб на спине. У кого были шпоры, тот кирпичом надраивал их до искрометного блеска.
Назавтра уезжающие на запад молодые офицеры с песней прошагали утром по тихому весеннему Красноярску. Они шли мимо тесно прижавшихся друг к другу домов на центральной улице, мимо громадины здания лесотехнического института, по фасаду которого краснели аршинные буквы: «Сметем с лица земли немецко-фашистских захватчиков».
А с горы провожала офицеров выбежавшая на самый край красного яра часовенка. Одинокая, грустная.
Прощай, часовенка. Прощай, Красноярск. Ждите ребят с победой.
10
Зимой у лесополосы набило снега, а сейчас, когда он стаял, земля здесь хваталась за сапоги, И казалось бы, чего делать бойцам в начинающих зеленеть кустарниках и деревцах? Но они по вязкому жирному месиву просочились и туда, в лесополосу, и даже за нее. Впрочем, так бывало на каждой станции, на каждом разъезде, где останавливался воинский эшелон. А останавливался он часто и стоял подолгу потому, что фашистские самолеты то и дело бомбили прифронтовую железную дорогу.
Пехота в эшелоне главенствовала. Ее было десять товарных вагонов из четырнадцати. Три вагона занимали собаки-истребители танков и лишь один – артиллеристы, что ехали на Южный и Юго-Западный фронты. На остановках артиллеристы терялись в толпах пехотинцев и проводников собак.
Когда поезд встал, Алеша выпрыгнул из вагона и огляделся. Нигде поблизости не было видно жилья. До самого горизонта впереди раскинулась степь, по которой неширокой лентой тянулась лесная полоса, да вдоль полосы вышагивали покалеченные войной телефонные столбы.
– Эй, вы! Давай сюда! – зычно кричал солдатам кто-то из кустов.
«Наверное, что-нибудь нашли», – подумал Алеша.
Ему захотелось взглянуть, что же там. Словно кто-то толкнул под ребро: давай, мол, а то прозеваешь! И он побежал по грязи, стараясь попадать ногами в проложенные другими следы.
Одолев лесополосу, Алеша оказался у края огромной воронки от авиабомбы. Видно, когда-то летчики бомбили поезд да промазали. Воронку наполовину заполнила талая вода, в которой плавали два раскисших трупа.
– Итальянцы, – определил подошедший к воронке Шашкин. – Коричневые шинели. Да и обличьем они. Точно. Мне уж доводилось встречаться с ними.
И все посмотрели на Шашкина с уважением. Фронтовик, не раз обстрелянный, такого ничем не удивишь.
Так вот они какие, завоеватели. Торопились на восток следом за фрицами. К смерти своей торопились. Сидели бы лучше в своем Риме и Неаполе. Россия-то ведь не Абиссиния. Вот и выглядывают теперь из вонючей лужи!
И все-таки было странно, что кругом жизнь, а эти двое лежат мертвые, не зарытые. А дома ждут итальянцев матери, невесты, жены. А у того, у которого дырка во лбу, тонкие длинные пальцы. Как у Паганини. Играть бы им на рояле, на скрипке, а итальянец этими музыкальными пальцами спускал курок.
Алеша повернулся и пошел к поезду, тяжело вышагивая по грязи. Нет, в его сердце не было жалости к иностранцам. Их ведь никто не звал. Сами явились.
В вагоне ребята разряжали немецкие снаряды и топили печку хрупкими и длинными, как макароны, палочками пороха. Хоть порох и прогорал быстро, все же каша в котелках закипала. А от буржуйки по всему вагону расходилось дурманящее, бросающее в сон тепло.
Алеша свернул цигарку и затянулся крепким махорочным дымом. И подумал, что хорошо было бы, чтоб поезд не задерживался здесь. И еще подумал, что это не только первая встреча с иностранцами, а, прежде всего, с войной. Если вчера война была для Алеши еще далекой, непознанной, то сегодня он встретил ее в упор. Воронка, мутная вода, трупы.
Вскоре поезд тронулся. Но шел он не более получаса. Снова остановка, только теперь уж на разъезде. Маленький домик с садиком у самого полотна дороги, а чуть поодаль – белые, крытые соломой мазанки.
Начальник эшелона в накинутой на плечи шинели неторопливо прошелся вдоль вагонов. Поговорил с машинистом паровоза – усатым, седеющим человеком, потом повернул к домику с садиком.
– Кажется, застряли здесь надолго, – сказал Шашкин.
Алеша, стоя у открытой двери теплушки, наблюдал, как хлынули на землю солдаты и рассыпались по степи. Несколько человек бежали в село с котелками и ведрами. Бежали вприпрыжку и перегоняя друг друга, как дети.
«Если состав сейчас пойдет, они отстанут», – подумал Алеша.
Начальник эшелона возвратился к составу, окруженный толпой любопытных. Он выяснил причину задержки. Впереди, на перегоне, немцы разбомбили поезд с боеприпасами.
– По крайней мере, до утра проторчим здесь, – сказал начальник эшелона.
Пехота разложила костры вдоль поезда, неизвестно – зачем. День был теплый, а готовить пищу куда удобнее на буржуйках. Но пехота делала так, как ей хотелось. Какой-то смысл в кострах для нее все-таки был.
В хвосте поезда залаяли, зарычали и дико завыли собаки. Проводники доставали с крыши вагонов куски протухшей конины – кости да кожа – и бросали каждый своей своре.
– И собаки воюют, – сказал Алеша.
– Одна собака может спасти сотни людей, – заговорил Шашкин. – Я видел, как их учат. Собаку, значит, кормят под танком. И она, как завидит танк, так и шпарит к нему. А у нее на спине взрывчатка.
Шашкин все видел и все знал о войне. Ну и судьба же у человека! Все рода войск обошел и на фронте успел побывать. И снова едет на передовую.
– А я читал, что какие-то старухи из Америки обижаются на нас. Мол, русские собак губят, – сказал Алеша. – Конечно, скотину жалко, но людей-то жальчее.
– Старухам что люди! Это ж капиталистки. Им иной кобель дороже всего человечества, – бросил с нар паренек– дневальный.






