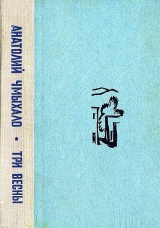
Текст книги "Три весны"
Автор книги: Анатолий Чмыхало
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
– Рассказать ему? – спросил Федя у сидевшего рядом, на земляном полу блиндажа, Семы Ротштейна.
– А то как же! – встрепенулся Сема.
Федя окинул собеседников коротким торжествующим взглядом. Мол, не догадываетесь, а надо шевелить мозгами.
– Вот Сема попросил – это совсем другое дело. Семе надо все пояснять, потому как он – отстающий.
– Что вы уж так, Федор Ипатьевич! По-моему, и «посредственно» были, и даже «хорошо», – возразил Сема, сделав обиженное лицо.
– Это по-твоему. Ну да ладно уж, расскажу. А случилось у них вот что. Командир немецкой дивизии плохо спал сегодняшнюю ночь. Все думал, какой мы готовим ему подвох. И додумался. У фрицев танки в окопах? В окопах. А почему, дескать, русским не сделать то же со своей техникой. Русские хуже, что ли?.. Вот что он подумал, немецкий генерал. И отдал приказ крыть болванками по каждому пригорку.
– Пусть так, но история тут при чем? – Костя сделал энергичный жест рукой.
– А при том, мой юный друг, что у нас и у них позади Сталинград. Живая история. Она заставила гитлеровских нахалов уважительно к ней относиться. Ну, а мы оказались и на этот раз похитрее фрицев. К чему нам в обороне сосредоточивать технику у переднего края? Совсем ни к чему. Вот какая штука.
И Федя залился своим тонким, хитроватым смешком. А ребятам, которые внимательно его слушали, все стало так же ясно, как бывало на его уроках. Он умел о самых сложных вещах говорить удивительно просто. Или наоборот: простое и всем понятное возводил к Тациту или Плинию-младшему. И тогда Косте казалось, что Федя жил вне времени, Что прошлое и настоящее настолько перемешалось в его мозгу, что отделить их друг от друга было невозможно.
За два года войны внешне он почти не изменился. Военная форма сидела на нем так аккуратно и привычно, словно и родился-то Федя в гимнастерке с портупеей и планшеткой.
«Я мало знал его прежде. Ближе к нему был Алеша», – с тоской подумал Костя.
Где он теперь, вихрастый, ершистый Алеша? Велик фронт, и Алеша может быть на любом его километре. Война без спроса разлучает людей, иногда – навеки.
У Кости на глазах погибло немало бойцов. Пожилых и совсем юных. А вот Алешу он представлял себе только живым, будто тот вообще умереть не может. Странно, но это было именно так.
И о себе думал так же. Хотя временами в голове волчком вертелся знакомый мотив:
В Руре успели пулю
И для меня отлить.
Впрочем, пуля – еще не смерть. Пуля – это рана, а раны – они далеко не всегда смертельны. Но если пуля попадет в сердце, смерть наступит сразу, почти мгновенно. Некогда будет вспоминать о прошлом, как делается это в кино и в некоторых книжках. За секунду перед человеком проходит вся жизнь? Ерунда. Однако жизнь жизни рознь. Взять хот я бы самого Костю. Ну кого ему вспоминать перед смертью? Владу и мать. Еще Алешу и Илью Туманова вспомнит, пожалуй, да Ларису Федоровну, да еще математика Ивана Сидоровича. А ведь, глядишь, и наберется порядком людей, с которыми накрепко связана Костина судьба. Да, чуть Костя не позабыл про Ваську Панкова. И его непременно вспомнит.
Кстати, нужно поговорить о нем с Федей. Если Федя помог в беде отцу Петера, то почему не поможет Ваське? Ведь кто-кто, а Федя должен знать Ваську, что никакой он не подлец и не предатель.
Но этот разговор Федор Ипатьевич завел сам. Однажды, когда загустели сумерки в окопах, он явился в блиндаж к ребятам, улыбающийся, чем-то очень довольный. Краем зажатой в руке пилотки он потер лысину, облегченно вздохнул и сказал:
– Ожидаются важные перемены. Может, скоро снова пойдем вперед.
– Понятно, что рано или поздно тронемся. Какой уж тут секрет, – скептически проговорил Сема.
– Я сказал – скоро. Улавливаешь разницу?
– Скоро – тоже понятие относительное, так ведь? – сказал Костя. – Растяжимое. Как резина.
– Выучили мы вас на свою голову! Ишь, какие грамотные стали! Слова до себя не допускаете, – заворчал Федя. Но это в шутку: в глазах у Феди – озорные искорки. – А беседовал я сейчас с членом Военного совета армии, с генералом.
– Да ну! – воскликнул пулеметчик Михеич, дремавший до этого в дальнем углу блиндажа.
– Дайте попить, – попросил Федя.
Сема нашарил в полутьме фляжку и подал ему. Федя отпил несколько глотков, крякнул и вытер губы все той же пилоткой.
– Ожидаются важные перемены, – повторил он, всматриваясь в бойцов.
Теперь уже ребята с интересом потянулись к нему. Ждали чего-то нового, более конкретного. Может, фронт тронется буквально завтра.
Но Федя только это и знал. И потому тут же заговорил о другом:
– Генерал лично ознакомился с делом Панкова. Я попросил его. От себя попросил и от всех вас.
– Спасибо, Федор Ипатьевич! – вырвалось у Кости.
– Сколько времени Панков был на том берегу? – вдруг сухо спросил Федя.
– Точно не могу сказать, – прикидывая, ответил Костя. – Часов у меня нет. Но, наверное, час или полтора…
– Много, – определил Федя. – Хотя как считать…
Ребята оставляли Федю ночевать, но он заторопился. Он вечно спешил.
Ночью немцы пускали осветительные ракеты да изредка постреливали. Было похоже, что дежурные скучали и подбадривали себя таким образом.
Костя выходил из блиндажа, видел крупные звезды на бархатном южном небе, «люстры» над селом и над Саур-могилой. И слышал, как неподалеку, за поворотом Миуса, нервно частил пулемет.
А может, это стучали звонкие копыта полудиких половецких коней? Галопом пронеслась погоня за князем Игорем, а он уже далеко-далеко, у самого Северного Донца. На краю земли Русской.
Костя любил, эту землю. Она была его родиной. Она взрастила его, сделала человеком. И в горестный для нее час он был готов на подвиг и на смерть.
Костя собирался нырнуть в блиндаж, но его окликнул тревожный голос:
– Кто это?
Костя обернулся и заметил Петера, неторопливо идущего по траншее. Тот тоже узнал Костю.
– Есть закурить? – хриплым голосом попросил Петер и, не дождавшись, когда Костя что-то ответит ему или даст махорки, добавил угрюмо: – Напрасно ты на меня…
– Ладно. Кури. – Костя подал ему кисет. Подал и отвернулся.
И Петер задымил самокруткой, и еще что-то хотел сказать Косте, но тот оборвал его на полуслове:
– Спать хочу, – и шагнул в блиндаж. В нос ему ударило кислым запахом пота.
Прежде, чем снова уснуть, Костя долго думал о Владе. Снова вспомнился тот вечер, когда проводили в Ташкент Илью и Алешу. Она упрекала Костю. Ему и так было больно отставать от друзей. Но что он мог сделать тогда? Да и сейчас Костя не так уж силен, когда нет-нет да и подумает о пуле из Рура, о маленьком кусочке металла.
Хоть ты и из Рура,
А все-таки дура.
Это уже что-то новое. Может быть, даже несколько героическое. А имя у Влады прекрасное. И очень жаль Косте, что он не сказал ей об этом. Вообще, он ей не досказал очень многого. Зачем-то копался в мелких обидах, упрекал ее. А нужно было открыться ей, что при одной мысли о Владе Косте всегда хотелось быть умнее и красивее лишь для того, чтобы нравиться ей. Смешно, но он вечерами расчесывал свои непослушные вихры и всю ночь старался спать на спине, чтобы не испортить прически. Он никогда бы не стал носить в адскую жару черного в белую крапинку галстука, если бы не Влада. И прав Алеша: под Пушкина Костя работал тоже из-за нее. Сколько он перерисовал этих крохотных женских головок!
От Влады пришло второе письмо. Она жаловалась на свое одиночество. Ее отец постоянно на службе. Иногда и спит у себя в кабинете.
«И заместителей своих держит он по ночам на работе, – писала Влада.
И потому папа не ходит домой, чтобы заместители не заняли его кресла. Я, конечно, шучу, а он на меня сердится. Говорит, что я ничего не понимаю.
Ты, Костя, не подумай, что люди от фронта прячутся. Напротив – просятся на фронт, а их не пускают. И они сутками не выходят с заводов, делают все, что нужно для победы. И живут трудно».
Ох, эта Влада! И остра же она на язык! Разумеется, кое-что в ее письме преувеличено. Но Костя хотел бы увидеть этих заместителей Владиного отца. И сказать им открыто, что они все-таки трусы, какая бы там необходимость в них ни была.
Конечно, они не сидят сложа руки. И не всем же быть на фронте. Но ходить по краю смерти и работать в тылу – не одно и то же.
Едва Костя уснул, как совсем рядом прозвучал раскатистый голос старшины:
– Питаться, братья-славяне!
И по всей траншее забрякали котелки и ложки, и поплыл аппетитный дух чуть подгоревшей гречневой каши. С молоком бы ее холодным, эту самую кашу! Впрочем, она и так хороша – с бараньим салом или крупноволокнистой американской тушенкой, которую солдаты называли вторым фронтом.
Перекусив на скорую руку, Костя взял автомат и каску и заспешил в окопы боевого охранения. Хотя ход сообщения и был углублен, все ж приходилось пригибаться, особенно в тех местах, которые просматривались с чужого берега. Неровен час – свалит вражеский снайпер. Уже и здесь, на Миусе, был не один такой случай.
Вставало солнце. Его лучи косо ударили Косте в глаза, когда он подсел к завтракавшему в траншее Егорушке.
– Думаешь, выскочит? – спросил Егорушка, чуть повернувшись в сторону Кости.
– Выскочит.
И как бы затем, чтобы подтвердить Костино предположение, правее сада и прибрежных кустов, почти в том месте, где недавно стояло воткнутое стволом в землю противотанковое ружье, над бруствером немецкого окопа появилась черноволосая голова. Она была больше развернута к востоку, и Костя сообразил, что следующий прыжок фриц сделает немного левее.
Костя быстро вскинул автомат и, совершенно позабыв про каску, высунулся из окопа. И послал на тот берег длинную очередь, чуть поведя стволом ППШ. И вдруг показалось Косте, что там, над пригорком, что-то всплеснулось и пропало.
– Готов, – присвистнул Егорушка. – Покойник.
– Неужели? – удивился Костя.
– Это уж точно. Полетела фрицевская душа на небо без пересадки.
– Может, я его не убил, а?
– Все в порядке. А теперь спрячь голову. Не рыпайся. Сейчас они нам такой концерт устроят, что ахнешь!
Вскоре гулко завыли над Миусом и закрякали на нашем берегу тяжелые мины. А потом раз и другой ударили залпом немецкие пушки.
15
Всю весну и начало лета красноармейцы ожидали наступления. Им было непонятно, почему так долго топчутся на каком-то Миусе они, гнавшие фрицев от Волги многие сотни километров. В марте и апреле командиры говорили, что фронт подтягивает резервы и что вот-вот наши войска пойдут дальше.
Но, вместо этого, все глубже зарывались в землю, а саперы продолжали ставить минные поля и проволочные заграждения. К будничной перестрелке привыкли. А бомбежки и мощные огневые налеты с той и другой стороны стали редкостью.
Впрочем, не двигались и другие фронты, и это несколько мирило солдат с бездействием. Значит, командование замышляет что-то серьезное, рассуждали они. Теперь уж, видно, пойдут до самого Берлина. Ни за что не остановить немцам такой силищи. Главное – научились воевать, брать фрица за жабры.
– Немного терпения, друзья мои, – говорил Гладышев, появляясь во второй роте. А сам невольно пожимал плечами. Мол, что ж я поделаю. Не от меня это зависит.
– Союзники-то что думают? – спрашивали его.
– Союзники, видно, не очень торопятся со вторым фронтом. И дальше хотят загребать жар чужими руками, – хмуро отвечал Федя.
– На это они мастера!
– То-то и оно.
Июль начался все с тех же, примелькавшихся сводок Совинформбюро: «На фронтах шла артиллерийская и ружейная перестрелка, велись поиски разведчиков».
И когда старшина роты услышал о боях под Курском, он обошел все блиндажи и землянки. Он сообщил об этом так торжественно, так радостно, словно речь шла уже о полной победе над врагом.
– Свершилось, братья-славяне! – покрикивал он то в одном, то в другом блиндаже. – Гитлеру всыпают возле Курска! Гитлеру пришел капут!
Веселое настроение старшины передавалось бойцам. Еще бы не веселиться! Эх, жалко, что Гущин забрал аккордеон! Сыграли бы сейчас плясовую!
А старшина все щерил крупные зубы:
– Свершилось, братья-славяне. Гитлера жмут!
По этому случаю Егорушка ухлопал еще одного фрица. И немцы никак не отозвались на снайперский меткий выстрел. А старшина пообещал Егорушке сто граммов водки с первого же привоза.
Ждали Федю. Он был на совещании в штабе армии и вернулся оттуда лишь на следующее утро. Конечно, он знал все подробности боев под Курском.
Но что это? Он с озабоченным видом прошелся по траншее, раздал бойцам свежие газеты, и подойдя к Косте и Петеру, которые чистили оружие и исподлобья наблюдали за ним, прокашлялся в кулак и спросил явно без всякого интереса:
– А как самочувствие, друзья?
Костя положил винтовку на колени, вытер руки шелковым парашютиком от «люстры». Глаза вопросительно уставились на Федю.
– Немец жмет под Курском. Идут тяжелые бои, – сказал тот. Но тут же вдруг твердо добавил: – Устоим. Наше командование и на сей раз приготовило фрицам добрую встречу!
С этого дня в окопах поселилась тревога. Бойцы ждали новых и новых вестей о смертной битве на Курской дуге, о небывалых танковых сражениях. Говорили о появившихся у немцев «тиграх» и «фердинандах».
– Хрен с ними, с этими «тиграми». Не больно мы их испугались, – сказал пулеметчик Михеич. – Только бы поскорее. А то дожидаться что-то муторно.
А через неделю узнали, что битва выиграна нами и наступление на Южном фронте вот-вот начнется. Не могли же наши войска топтаться дольше на Миусе, когда соседи рванулись вперед.
– Скоро теперь, скоро! – резво перекатывался из траншеи в траншею Федя. – Ох, и покажем же мы им, ребятушки!
В полдень, когда от разлитой по степи жары нечем было дышать, с аккордеоном на плече появился черный от пыли и пота Васька Панков. Он не стал дожидаться вечера, чтобы незаметно попасть на передний край. Ваську засекли немецкие минометчики и чуть не накрыли на подходе к траншее.
– Но чуть – не считается. И я жив и здоров, огольцы. И гармошка при мне.
На допросах он говорил все как было. Много бумаги исписал Гущин. А сегодня взял да и отослал Ваську обратно во вторую роту. Шибко ругался.
Теперь по ночам играл у нас трофейный аккордеон. И с той стороны по-прежнему кричали:
– Рус! Дай баян! – и озлобленно стреляли.
С каждыми сутками, с каждым часом становилось все тревожнее. Задвигались войска второго эшелона, и немцы заметили это. Стали бомбить. Вдруг ни с того ни с сего начинался бешеный артиллерийский обстрел переднего края. А наши батареи помалкивали, чтобы не выдать своих позиций, и в этом молчании чувствовалась скрытая сила, готовая в нужную минуту обрушиться на врага.
– Скоро! Скоро! – бились сердца.
– Скоро! Скоро! Скоро! – торопливо хлопали зенитки.
– Скор-рр-ро, – лязгали гусеницы подбиравшихся к Миусу наших танков.
В лунном свете серебрилась степь. Величаво высился вдали остроконечный шлем Саур-могилы. А рядом, за кустами лозняка, искрилась легкая зыбь Миуса.
Еще никто из бойцов не знал о приказе к наступлению, но по всему чувствовалось, что эта ночь не похожа на все другие ночи. Чаще бегали по траншеям и ходам сообщения вестовые. Ни на минуту не смолкали телефоны.
А когда прошли вперед, к минным полям, молчаливые саперы, догадки сменились уверенностью. Значит, сегодня. И от этой мысли стало еще тревожнее.
Костя и Васька сидели на бруствере траншеи и слушали ночь. В степи было тихо. Ни выстрелов, ни шума моторов. Только временами доносилась из балки, где помещались повара и ездовые, крутая мужская речь. Это было очень знакомо Косте. И вспомнил он бахчи. Когда Костя и Алеша ели арбузы у того самого доброго деда, уже вечерело. И до них вот так же издалека доносились голоса других сторожей.
А еще в степи играли сейчас в свои скрипочки неугомонные сверчки. Целый оркестр исполнял какую-то удивительно светлую и бесконечную симфонию. Сверчкам было наплевать на то, что скоро здесь загрохочет битва. И кто-то из ребят не доживет до следующей ночи. На то она и война, черт ее подери!
– Интересно, где остальные наши? – негромко сказал Васька.
Костя ничего ему не ответил. Косте хотелось молчать, а если уж говорить, то о самом важном. Хотя что же самое важное – Костя не знал.
– Я не о Семе с Петером, а о других наших. Где вот они, а?
Как бы очнувшись, Костя сказал:
– Все на фронте. Помнишь, какая вывеска была в гражданскую на райкомах комсомола? «Все ушли на фронт». Так и мы… А утром пойдем, однако.
– Пойдем, – согласился Васька. – Это уж как пить дать!
– Мины уберут. Но река мешает. Ее ведь не перепрыгнешь.
– Она сейчас мелкая. Да и саперы наведут переправы. А ты плавать умеешь?
– Как тебе сказать? Не очень. Но при нужде поплыву, – сказал Костя.
– И курица поплывет, коли невпротык придется…
Они снова долго молчали. И Костя взгрустнул о матери, которую он всегда видел в мыслях одиноко стоящей у калитки. Она стоит грустная и долгим взглядом еще молодых глаз провожает прохожих. У матери – загрубевшие, натруженные руки. Однажды ей гадала цыганка и нагадала жизнь в миру и согласии, в любви и довольствии.
– Глупая ты женщина, – с горечью возразила мать. – И все слова твои глупые, обманные.
Цыганка обиделась, сердито тряхнула юбками и пошла дальше вдоль домов. А отец, когда сели ужинать, напомнил матери этот разговор, сказал:
– Хоть и дура цыганка, а правду наворожила. Ты без хлеба еще не сидела.
Мать поднялась тогда с табуретки и ушла. Нет, не брал ее мир с отцом. Никогда не было у них согласия.
Сердцем Костя понимал, что мать права в этом споре. И ему было жалко ее. Она сейчас, только она, думает о Косте и постоянно ждет.
– А тебе расставаться с окопами как? – опять заговорил Васька. – Привыкли мы к ним, что к дому.
– Тоже нашел дом, – недовольно ответил Костя.
– А чего! Даже к камере человек привыкает. На свободу, конечно, пожалте. А в другую камеру – шалишь!
Подошел Петер. Он тоже думал о предстоящей атаке.
– Вдруг да штурм не удастся. Танки у них стоят вдоль передовой, – сказал Петер.
– Ну и что! – оборвал его Костя.
Немец не пускал ракет, не вешал «люстр». Может, он догадался обо всем и теперь готовил нашим войскам коварную ловушку? А наши почему-то не стреляли. Хотя бы палили для отвода глаз. Но фронт безмолствовал.
Перед самым рассветом по траншее второй роты, заглядывая в блиндажи и землянки, прошелся Гладышев. Он был без пилотки – где-то потерял ее, – а на плечи его была накинута видавшая виды пестрая немецкая плащ-палатка.
– Нельзя так, Федор Ипатьевич, – встретил его Сема. – Ребята могут за немца принять.
Федя пропустил Семины слова мимо ушей. Он спешил выговориться:
– Утром штурмуем Миус-фронт. Против нас стоит, как и в Сталинграде, Шестая армия. Вместо той Гитлер создал новую. И мы должны ее прикончить, – говорил Федя, волнуясь.
– Уж как-нибудь, – сказал Васька.
– Все будет хорошо, мои юные друзья.
А рассвет уже занимался над степью. Неторопливый, дымный. И когда стал отчетливо виден крутой немецкий берег Миуса, по всей линии фронта враз ударили наши орудия. Тысячи громкоголосых орудий.
16
Шел четвертый день наступления. Всего-навсего четвертый, хотя Косте казалось, что он очень давно покинул обжитые траншеи на левом берегу Миуса. Саур-могила была теперь справа и несколько позади. Но ее еще не взяли наши части. Одетая в железо и бетон, она грохотала орудийными залпами, рассыпалась дробью пулеметных очередей.
Привык Костя отбивать за день не одну контратаку немецких танков и пехоты: фрицы дрались упорно, не считаясь с потерями. Впрочем, потеряли они пока что не так много. В памятное утро прорыва наша артиллерия нещадно молотила траншеи противника. Казалось, что ничего живого там уже нет.
А на поверку вышло другое. Трупов в первый вражеской траншее почти не оказалось. Значит, немец знал о нашем наступлении и отвел пехоту в тыл. А теперь она под прикрытием танков яростно контратаковала окопавшихся по холму красноармейцев.
Волны горячего воздуха бились о бруствер. От солнца не было спасения в мелких, до колен, окопах. Две ночи вторая рота углубляла их, но дело подавалось туго. Легкие пехотинские лопаты жалобно звенели, отскакивая от твердой, как сталь, земли.
– Дождичка бы, – пришептывал Михеич – Костин сосед по окопу.
Дождик был нужен еще и потому, что всем нестерпимо хотелось пить. В роте не нашлось ни единого глотка воды, когда санинструктор Маша с трудом проползала по усыпанной гильзами траншее, держа в руке пустую фляжку. Раненые просили пить. А вода была выпита еще утром. До ближнего колодца больше километра совершенно открытого поля. Не сумеешь сделать и шага, как тебя пристрелят.
Дождь дал бы красноармейцам передышку от бомбежек. Немцы уже четыре раза совершали налеты на наших пехотинцев.
Ко всему может привыкнуть боец на войне. Только не к бомбежкам. С каждым новым заходом «юнкерсов» ты чувствуешь, как в струнку вытягиваются нервы. И тебя давит-давит пронзительный вой моторов и нарастающий свист бомб.
Стоит окончиться артиллерийскому обстрелу, и боец тут же забывает о нем. Ну был, ну прошел. А если и не сразу забывает, то где-то вскорости.
Другое дело – бомбежка. Она часами держит бойца в адском напряжении. И бывает, что человек не выдерживает.
Костя видел, как после бомбежки из траншеи выскочил и, горланя что-то непонятное, побежал в сторону фрицев командир одного из взводов.
Он сошел с ума, он не понимал, что делал. Выстрел щелкнул, почти неслышный после грохота бомб, и сержант, вскинув руки, плашмя упал на черную землю. Даже не дернулся. И Костя подумал тогда, что хорошо умереть вот так, сразу. О матери и то не вспомнишь.
– Дождичек, он все освежит, – как молитву, шептал Михеич.
А «юнкерсы», сверкая на солнце, разворачивались в небе. По ним стреляли зенитные батареи. Зенитчики дрались отчаянно. Стреляли и тогда, когда бомбы с оглушительным воем шли прямо на них.
Но вот из-за холмов рванулись в долину советские истребители. Начался воздушный бой, за которым напряженно следили из окопов.
Пехотинцы второй роты увидели, как прямо над ними тройка наших самолетов атаковала «мессеров», похожих на больших, зловещих скорпионов. Яростно застрекотали пулеметы, и над одним из фашистских истребителей затрепетали оранжевые языки пламени. Вражеский ас хотел дотянуть до своих, но объятая пламенем машина вдруг развалилась, и куски ее упали на нейтральную полосу.
Костя насчитал тридцать «юнкерсов». Иногда бывает до сотни. Отчетливо видны черные кресты на фюзеляжах. Сейчас «юнкерсы» начнут пикировать. Их цель: узловатые нити ничем не замаскированных окопов пехоты.
Костя лежал на боку, прижавшись плечом к ногам Михеича. Над ним было блеклое небо с плывущими «юнкерсами». Летчики, наверное, видели Костю и собирались так накрыть траншею, чтобы от него не осталось даже мокрого места.
Бомбы отделились от нырнувшего к земле «юнкерса» и, как большие черные капли, с раздирающим душу свистом понеслись вниз.
«Закон всемирного тяготения», – мелькнуло в голове у Кости, и он закрыл глаза.
Бомбы рванули землю раз, другой, третий. И она задвигалась, тяжело заходила под ударами. В сплошной, ужасающий грохот слились взрывы, и свист бомб, и рев моторов.
Уже не видно было самолетов. Не видно было и самого неба. Перемешанный с пылью дым заслонил свет, и днем стало темно, совсем темно, как ночью. И в этой адской тьме краснели, остывая, лишь залетевшие в окоп осколки.
«Закон всемирного тяготения», – снова пронеслось в сознании Кости.
И больше он ни о чем не подумал в эти секунды. Странные, ничего не значащие слова, – только они одни сверлили его мозг.
«Закон всемирного тяготения».
А бомбы рвались.
Михеич медленно и упруго потянулся, и у Кости сжалось сердце. Неужели зацепило? Как же это? И Костя стал шарить у себя под плечом, словно надеясь определить на ощупь, что же случилось с Михеичем.
Старый боец, видно, понял Костю. И успокаивающе пожал ему руку. Мол, все в порядке.
Тяжелая бомба рванула совсем рядом. Перед Костиными глазами молнией полыхнула яркая вспышка, его с силой подбросило и осыпало комьями твердой земли. И все стихло…
Это и есть конец, подумал Костя. Примерно так он и представлял себе смерть. Но если это конец, то почему не почувствовал острой боли? Почему схватился руками за ногу Михеича, намереваясь приподняться? Наконец, почему думал.
И тут только понял Костя, что это кончилась бомбежка. Он сел, поджав под себя одеревеневшие ноги, и полез в карман за куревом. Он не хотел курить, но рука почему-то тянулась к кисету.
– Дождчика бы теперь, – как ни в чем не бывало, проговорил Михеич.
– Воды бы, – вздохнул Костя, заворачивая самокрутку.
– О чем я и толкую. Дождичка бы…
Как он надоел со своим дождичком!
С левого фланга роты передали по цепочке:
– Санинструктора Машу вызывают.
Значит, угодило в траншею.
– Санинструктора Машу, – сказал Михеичу Костя.
Понемногу тьма рассеивалась. Сквозь палевую толщу пыли пробилось красное солнце. Стали видны гребни раскинувшихся впереди холмов: какое-то нагромождение геометрических фигур. И кто-то испуганно вскрикнул:
– Танки! Глядите – вон они!
Раскачиваясь, как на волне лодка, и стреляя на ходу, по неглубокой безлесой лощине шли на позицию роты немецкие танки. Они летели на большой скорости. Торопились к нашим окопам, пока еще стояла мгла, которая прикрывала танки от артиллерии.
И теперь уже с правого фланга побежало:
– Приготовить противотанковые гранаты.
У Кости не было гранаты, и у Михеича тоже. Они поправили на голове каски и стали пристально, словно завороженные, разглядывать приближавшиеся грозные машины. Танки не вели прицельного огня. Они стреляли наугад, и снаряды рвались то перед траншеей, то далеко позади.
Запыхавшийся, с грязными подтеками на лице, перед Костей вырос Федя. Голос у Феди спокойный и даже шутливый:
– Эх, кэк дадим мы сейчас фрицам! Кэ-эк ударим!
И вот уже нет его. Он где-то у петеэровцев, которые залегли в ряд чуть левее Кости. Петеэровцы пока молчали, подпуская танки на дистанцию действительного огня.
До танков осталось не более полукилометра. За ними хорошо различимы серо-зеленые суетливые фигурки бегущих солдат. Спешили танки, спешила вражеская пехота.
По наступающему противнику ударила артиллерия. Кусты разрывов заметались вокруг танков. И когда Костя решил, что мощную броню ничем не возьмешь, задымила и пошла кружить на одной гусенице головная машина.
– Так их, в душу мать! – крикнул Михеич.
Но танков более двадцати. Они не снижали скорости. Обойдя горящую машину, они, обгоняя друг друга, летели к нашим окопам.
А фонтаны земли на пути танков становились сплошной стеной. Потом ударили петеэровцы. Ударили дружно, по всей линии окопов.
Факелами вспыхнули несколько машин. Лощина заклубилась желто-синим дымом. И уцелевшие вражеские танки сбавили скорость. Они не рискнули прорваться через огненный заслон. Они разворачивались, чтобы удрать с поля боя.
А громовой переклик пушек и минометов все усиливался. Как свирепый ветер траву, прижал он немецкую пехоту к земле. Увидев, что танки отходят, пехотинцы стали понемногу откатываться к своим траншеям. Короткая перебежка, очередь из автомата, и снова перебежка.
– Вперед, товарищи! – взлетел над окопами Федя. – За Родину! За Сталина!
И Костя в одно мгновение оказался на бруствере траншеи.
17
Петер мечтал о подвиге. Мечтал еще с тех пор, когда узнал от отца о революции и войне с басмачами. Петер не мог налюбоваться отцовскими хромовыми крагами и наганом. Герой без краг много проигрывал в его детском воображении. Думал Петер и о буденновском шлеме с красной звездой. При виде шлема не только он – все ребята умирали от зависти.
Петеру представлялось, что он скакал впереди эскадрона на лихом вороном коне, таком же, какой когда-то был у отца. Скакал по взятому штурмом городу, а люди глядели на него и ахали.
Петер, наверное, порубил саблей целый вражеский эскадрон. Или, как отец, взял в плен коварного краснобородого курбаши.
Поднялись в воздух Чкалов и Громов. И потянуло Петера к летному шлему с клапанами для наушников. А с вороным скакуном пришлось расстаться: самолет быстрее и значительнее. Попробуй одолеть на коне ледовый простор Арктики! На самолете же все можно.
Наконец, как любимая музыка, звучали для Петера Гвадарамма, Умера Эль Прадо, Харама, Уэска. В школьной пионерской комнате патефон играл гимн Испанской Республики, а со страниц газет смотрели строгие глаза Пассионарии и Лины Одены. Петер все чаще снимал со стены отцовскую трехлинейку и угрожающе щелкал затвором.
На фронте он ждал случая отличиться. Особенно сейчас, когда началось наступление. Петеру хотелось доказать всем, что он достоин своего отца. И еще Петеру казалось, что подвигом он искупит свою вину перед Чалкиным-старшим. Как-никак, а смалодушничал он тогда.
В наступлении Петер старался быть на виду у командиров. И не для того, чтобы они видели, какой он смелый. Нет. Он хотел в трудную минуту находиться у них под рукой. Тогда его могут послать на самое опасное дело.
На Костю и Сему Петер сердился. Они подумали о нем, как о предателе. Было обидно слышать такое от своих ребят. Не предавал Петер Васьки Панкова, а наоборот, советовался с Федей, как помочь Ваське.
Гордость не позволяла ему объяснить ребятам, как все было и о чем он говорил с Гущиным. Обида заставляла избегать недавних друзей. Пусть думают себе, что хотят.
Но это было лишь детской бравадой. Петеру была тяжела ноша одиночества, легшая на его плечи, и не раз он намеревался выяснить свои отношения с ребятами. Однако тут же откладывал разговор на неопределенное время. Не мог он вот так, просто, вырвать из сердца обиду.
Напор врага становился сильнее. Бомбовые удары и танковые атаки чередовались. У бойцов сдавали нервы. То один, то другой батальон откатывался под прикрытие своей артиллерии. Чувствовалось, что так долго не продержаться. Если не прибудут свежие части, если зенитчики и истребители не очистят небо от вражеских самолетов, немцы отбросят наших за Миус.
Утром, еще по холодку, вторая рота отбила атаку немцев. Бойцы контратаковали противника, стремительным броском продвинулись вперед, на новый рубеж, но закрепиться там не сумели. Местность была совершенно открытая, и налетевшие «юнкерсы» и «хейнкели» перепахали ее бомбами. Рота понесла большие потери, самые большие за последние полгода.
Командир роты дал приказ отходить под прикрытие завесы дыма и пыли. Сема, который лежал рядом с Петером, коротко скрипнул зубами:
– Что-то с ногой у меня… Вроде как зацепило…
Петер наклонился над ним и увидел Семин сапог, неестественно отброшенный в сторону. Петер догадался, что это оторванная нога. Сема подплывал кровью.
– Обожди. Я перевяжу, – дрожащими руками снимая с себя узкий ремень, сказал Петер. – Сейчас… Все будет в порядке.
Сема повернул голову, увидел пустую штанину и проговорил трудно:
– Отвоевался я. И оттанцевался тоже.






