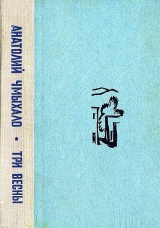
Текст книги "Три весны"
Автор книги: Анатолий Чмыхало
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
– Танки! – крикнул кто-то рядом.
Они шли, прижимаясь друг к другу. Они пробили брешь в боевых порядках пехоты и выходили на единоборство с артиллерией. Алеша подумал, что теперь невероятно трудно остановить их силами орудий пятой батареи.
– По танкам подкалиберным снарядом… – голос у Алеши дрогнул и сорвался.
Они мчались, покачиваясь с кормы на нос. Они готовы были смять и раздавить пушки вместе с орудийными расчетами. И когда на какую-то секунду танки приостановились, Алеша скомандовал:
– Огонь!
Пушки взлаяли, словно свора собак, обложивших зверя. И почти одновременно с их выстрелами появились яркие вспышки на орудийных стволах танков. И на батарее стали рваться снаряды.
– В окоп! – крикнул Алеша подбежавшему к нему Богдану.
Было видно, как одна из передовых машин вдруг осела на бок и задымилась маслянисто, густо.
– Ура! – не отрываясь от орудийной панорамы, воскликнул Кудинов.
Но в станину его орудия ударил снаряд. И когда дым разрыва рассеялся, ни Кудинова, ни других номеров у пушки не было.
Через груду пустых гильз Алеша кинулся к орудию. Услышал совсем рядом неистовый стук пулемета. В голове пронеслось:
«Против танков-то!..»
А пулемета не было. Это стучало возбужденное боем Алешино сердце.
Он увидел, что панорама разбита. Значит, нужно наводить орудие по стволу. Алеша подхватил снаряд и послал его в приемник.
Раздался выстрел и задымил еще один вражеский танк. Краешком глаза Алеша приметил, как слева от него, на виду у фашистской армады, развернулась другая наша батарея. И он хрипло выкрикнул что-то невыразимо радостное, победное.
Тяжело дыша, Алеша снова приник к стволу, наводя его на выскочивший вперед тяжелый танк. Но прежде чем пушка успела выстрелить, Алешу ослепило и плашмя ударило о землю.
28
Первыми в станицу Колпаковскую, зеленую, всю в яблоневых и вишневых садах, ворвались наши танкисты. Разгромив вражеские батареи и дзоты, прикрывавшие ее, танки, не снижая скорости, прогрохотали по улицам и скрылись за околицей. А следом за ними в станицу вошла пехота. Она стремилась не отрываться от танков, закреплять взятое с бою. Пехота двигалась развернутой цепью, прочесывая сады и огороды.
В полдень рота, в которой служил Костя, вышла к центру села. Ей приказано было остановиться. Бойцы устроили перекур. Костя окинул взглядом дымившую у плетня группку. Для роты здесь было слишком мало: каких-то двадцать – двадцать пять человек, да и то редкий не имел повязки на голове или руке. Самому Косте пуля пробила каску и царапнула висок.
Костя вспомнил, как в ночь перед наступлением, когда над черными, как чугун, плесами Миуса установилась тишина, немцы орали с правого берега:
– Рус, наступать хочешь? Кричи «ура», а мы тебя паф-паф…
Это у фрицев нервное. Невмоготу им, если наши молчат, не спится в траншеях и землянках, воняющих дустом. Конечно, боятся они не самой тишины, а бури, что поднимется вслед за нею. Боятся и скулят.
– Не тот фриц стал. Поубавилось нахальства, – заметил тогда Федя.
Он показал Косте немецкую листовку. На осьмушке бумаги был напечатан снимок Петера, пьющего чай. Нет, это была не подделка. На Костю смотрел живой Петер с его характерным прищуром глаз, с чубом, выпущенным из-под пилотки. На столе перед Петером стоял пузатый самовар, а Петер держал в одной руке чашку, а в другой – немецкую газету. И внизу надпись: «Он не хочет воевать за коммунистов. Петр Чалкин добровольно перешел на сторону немецкой армии. Для него окончилась война».
Это Петька-то, который в школе такой был активный и правильный! Всех секретарей компартий знал поименно, с ребят стружку снимал. А теперь чаевничает у немцев.
– И все-таки тут что-то не так, – Костя возвратил Феде листовку.
– Да. Не верю. Ни за что не поверю! – сказал Федя. – Наш он. Было дело, сердился я на него. А потом подумал: чего возьмешь с дурака-мальчишки?.. Но предать Петька не может.
Косте вспомнился грохот артподготовки: пальба на левом берегу Миуса и разрывы снарядов – на правом. Пехота глохла в окопах. И так как нельзя было услышать голоса в этой канонаде, Федя написал в блокноте и дал прочитать Косте: «На реце на Каяле тьма свет покрыла».
Костя улыбнулся и закивал головой. Федя и на фронте оставался все тем же. Он жил как бы в двух эпохах, в современной и другой, давно минувшей. Искал и устанавливал связь между ними.
Костя досадовал на себя, что не сошелся близко с ним в школе. По сравнению с другими учителями Федя выглядел тогда очень скромно. Он был как-то незаметен. А теперь Костя узнал его как следует и полюбил. Вот такие и есть они, настоящие герои! И Костино счастье, что Федор Ипатьевич рядом с ним.
Сейчас он вынырнул из сада напротив, юркий, вездесущий коротышка. Подошел к бойцам, запыхтел самокруткой.
– Красотища неописуемая, – закрывая от удовольствия глаза, проговорил он.
– Райские места. Недаром тут казаки селились, – поддержали Федю бойцы.
– Да-да. А вы видели бахчи? Какие арбузы, а! – Федя сделал руками колесо. – Не меньше, честное слово! Между прочим, в этих местах Кондратий Булавин родился. Жил такой атаман двести лет назад. За простой народ стоял. Ух, и бесстрашный был казачина!
– Вообще, испокон веку казаки – народ отчаянный, – сказал Михеич и тревожно посмотрел на небо. Откуда-то явственно доносилось завывание самолетов, оно приближалось, нарастало с каждой секундой.
И вдруг из-за шеренги деревьев, что протянулась по всему взгорью, появились «юнкерсы». Они шли низко и вынырнули так неожиданно, что бойцы опешили и продолжали сидеть у тына. Только когда земля задрожала от взрывов, бойцы кинулись в поросшую лопухами и крапивой канаву.
«Юнкерсы» сделали всего один заход. Но станица с ее крытыми соломой хатами вспыхнула, как порох. Заклубился в небе сизый и черный дым, забегали по дворам неизвестно откуда появившиеся бабы и мужики. Они выгоняли скотину на улицу, спасали от огня какой-то скарб.
У одной из пылающих хат Костя увидел старуху, горбатую, одетую в цветное тряпье. Она голосила, вскинув над головой похожие на клешни руки:
– Ратуйте, люди добрые! Ратуйте, люди добрые!
Костя подбежал к ней. Он подумал, что в хате кто-то остался, и уже рванулся к дверям, охваченным огнем. Но старуха ухватила его за рукав и закричала, вытаращив глаза:
– Бей, бей их, сыночек. Бей, бей, бей! Коли их, руби их, бей!
Она обезумела от горя. И когда потолок у хаты с треском рухнул, она снова заголосила:
– Ратуйте, люди добрые!..
Спустя несколько часов роту пополнили станичниками. Их обмундировали, вооружили, чем сумели. Кому достались наши винтовки и карабины, кому – немецкие автоматы и противопехотные гранаты. И рота уже готова была выступить на передовую, когда к Феде, находившемуся здесь, подбежала девочка лет двенадцати. Она зачастила, глотая окончания слов, и Федя едва понял, чего нужно ей.
– Пойдем-ка со мной, – сказал Федя Косте. – Она говорит, что в бункере скрывается раненый. От немцев бежал… Бункер? Может, погреб?
– Погреб, – согласилась девочка.
Они шли на край станицы, которая все еще пылала, и тщетны были жалкие усилия людей отстоять хоть что-то. Только зола да чумазые, никому уже не нужные печи оставались во дворах.
– Мы с дедушкой в балке его подобрали. Думали, мертвый он, – торопливо говорила девочка, забегая вперед и показывая дорогу. – А он как застонет и глаза открыл. И весь перевязанный, и весь в крови. Дедушка боялся брать его домой, потому мы и стащили красноармейца на баштан. В дедушкин шалаш. Он там был до ночи, а потом его дедушка с мамой к нам привели. Он сразу полведра воды выпил, наш красноармеец. И ночью его шибко трясло. Только не от воды, а от раны. Он лежал в жару. Мама ему чем-то рану присыпала, и он успокоился. Но стрельбу услышал и говорит, мол, зовите наших, чтоб забрали меня отсюда. И еще он хочет вам сказать что-то…
Федя и за ним Костя прибавили шагу, словно боясь, что красноармеец не дождется их, умрет и унесет с собой в могилу тайну, от которой, может быть, зависит успех наших войск. Девочка стала отставать.
– Я за вами не успею. У меня болит бок. А сами вы не знаете, где наша хата, – тяжело дыша, с досадой сказала она.
Федя взял девочку за руку, и они пошли тише. Навстречу им двигались к передовой груженные снарядами «студебеккеры». Шофер первого из них притормозил и спросил у Феди, распахнув дверцу кабины:
– Колпаковская?
– Она и есть.
Дверца хлопнула, и «студебеккер» с радостным воем понесся дальше.
– Сколько вас много, дядя! – искренне удивилась девочка. – А нам говорили, что немцы всех поубивали.
– Кто же так говорил?
– Люди, которые знают, что на Миусе делалось. Там столько ваших перестреляли!
– Каких это наших? – Федя заглянул в острые глаза девочки.
– Ваших, – не задумываясь, ответила она.
– А ты-то наша?
Девочка по привычке огляделась и негромко протянула:
– Я тоже ваша.
Федя и Костя рассмеялись. А в душе им было жаль эту малышку, которая – по всему видно – уже немало хлебнула горя. Ей бы играть сейчас со сверстницами, отдыхать в пионерском лагере, как это было в мирное время. Впрочем, скоро снова будет так.
Вот и погреб. Снаружи он похож на землянку: такая же дверь и вымощенные соломой ступеньки ведут вниз. В таких бункерах живут, когда бои подходят к селениям. Сегодня этой семье повезло: бомбы упали в стороне, и хата и погреб уцелели.
Красноармеец сидел на самой нижней ступеньке, спиной к двери. Он повернулся на смолкшие вверху шаги и мутно смотрел на Костю и Федю. Против света он не видел их лиц, а ему зачем-то нужно было их видеть. И он трудно поднялся на ноги, чтобы выйти из бункера.
Отдав автомат Феде, Костя бросился к красноармейцу, подбежал и, удивленный, отпрянул:
– Вася!..
Васька Панков, небритый, худой, с прозрачным лицом и совершенно бесцветными губами, молча смотрел на Костю, словно не узнавая его. Но вот облегченно улыбнулся, и его глаза стали наливаться слезами.
– Да не Панков ли это? – сверху спросил Федя.
– Он, он самый! – Костя хотел обнять друга, но грудь и руки у Васьки были в бинтах.
Костя помог ему подняться из бункера. Васька плакал беззвучно, переводя взгляд с Кости на Федю.
Его посадили на лавочку у хаты. Он, пошатнувшись, чуть не упал с нее и смутился. Сказал глухо, чужим голосом:
– Петера увезли в концлагерь. Кто-то стукнул одного предателя. Киркой по голове. Гестапо решило, что Петер. Пытали и увезли.
– Ты думаешь, что Петька убил? – подвинулся к нему Федя.
– Кто ж еще! Он, – со свистом вздохнул Васька. – Только он знал, что Батурин – предатель. Этим гадом гестапо дорожило, мало у них идейных шкур. Увезли Петера в закрытой машине, ночью.
– Ну, а как же понимать это? – Федя достал листовку из кармана гимнастерки и поднес Ваське. – Смотри.
– Ишь ты, отпечатали. Гауптман приглашал к себе Петера. И сняли его тогда, – Васька потянулся, застонал и проговорил сердито. – А вы что сделали б на его месте? Что?..
– Да ничего, – глухо сказал Федя. – Петька-то тоже был ранен?
– Из-за меня он попал в плен. Надеялся, что пробьемся к своим. А Сему Ротштейна мы сдали в медсанбат танковой дивизии. Петер не виноват. Мне ведь все равно, куда меня. Хуже, чем в немецком плену, не будет.
Косте захотелось утешить Ваську. И он стал говорить, что никто не поставит ему в вину плен. Подлечат Ваську – будет он вместе со всеми воевать. Нужно лишь как-то сделать, чтобы после госпиталя попал в свою дивизию.
– Мне все равно, – повторил Васька. – Хоть в штрафную. Только бить этих сук, фашистов.
Он скрипнул зубами:
– Раненых фрицы тоже повезли. Нас, значит… которых они надеялись сдать во власовцы… Въехали в станицу, и я драпанул с телеги. Но слаб был… Конвойный очередь дал и попал ведь в плечо. Теперь у меня вся грудь в дырках…
– Вон мама кого-то ведет! – вскрикнула девочка, которая внимательно слушала их разговор.
Молодая женщина на ходу что-то торопливо говорила коренастому майору. Он качал головой, глядя на сидевших у хаты. Он подошел и представился:
– Я из Особого отдела. Вы были в плену?
– Да, я, – ответил Васька.
– А вы что, знаете его?
– Он из нашего батальона, – сказал Федя.
– Идемте со мной, – приказал капитан Ваське.
– Он не может идти. Его нужно срочно в госпиталь, – сказал Федя.
Майор покосился на него:
– Ясно, он будет лечиться. Раненому сделают, что нужно. А вы кто такой?
Федя назвал себя. Майор записал и пообещал найти подводу, чтобы отвезти Ваську в госпиталь. Но Васька вдруг поднялся и угрюмо бросил:
– Я дойду.
Костя сзади поддержал его за ремень.
– Зачем так? – поморщился майор.
– И вот еще что, – обратился Васька к Феде. – Передайте куда следует. На наш участок прибыла новая танковая дивизия немцев. Из Крыма. Это Петер сказал. Он ездил в Амвросиевку за цементом. Там танки сходили с платформ. Передайте, Федор Ипатьевич…
– Танковая? – встрепенулся майор. – Я должен немедленно доложить… Я пошлю сюда подводу. Раненого увезут в госпиталь.
Он убежал. А Федя остановил идущий в тыл «студебеккер» и попросил шофера взять Ваську. В кузове машины уже сидели раненые, которых нужно было куда-то определить, и шофер согласился увезти еще одного.
– Лечись! А там повоюем! – крикнул Федя на прощанье.
Васька с благодарностью посмотрел на своих друзей. Он жалел только, что не было с ними Петера.
Феде и Косте пришлось догонять батальон, который выступил на передовую. Они настигли его за станицей, где на краю кукурузного поля роты развертывались для атаки.
Весна третья

1
Алеша узнавал и не узнавал родной город. На первый взгляд, все здесь была по-прежнему. Те же ровные, как струны, улицы с тополями, те же беленные известью дувалы, на которых космами висела пыль, те же говорливые, звонкие арыки. Как всегда, гудел огромным потревоженным ульем Зеленый базар и, позванивая на перекрестках, бежали вниз и вверх по улице Карла Маркса трамваи.
А за горветкой дороги еще не просохли. Люди с трудом выбирались из густой, липкой грязи, которую нельзя было ни обойти, ни объехать.
И все-таки при внешней похожести что-то в городе нарушилось, сместилось, изменилось. Не случайно Алеша испытывал гнетущее чувство тоски. И еще жило в душе ощущение, что у города взято что-то самое ценное.
А недоставало Алеше друзей, с которыми и связывалось накрепко все, что было здесь лучшего. Далеко-далеко воевали сейчас с фашистами Костя, и Илья, и Вася Панков, и Петер. Война уже шла по Германии, по Венгрии, по Чехословакии. Всем было ясно, что кончится она в этом, в сорок пятом, году.
Выздоравливал Алеша медленно. Еще сейчас заметно припадал на правую ногу и поэтому не спеша ходил с палочкой. Давали себя знать и другие раны, а больше – тяжелая контузия, которую он получил в бою за Миусом.
Алеша не помнил, как его подобрали, как везли в армейский госпиталь в поселок угольной шахты. Только здесь он пришел в сознание, и из палаты видел в окно высокие терриконы, которые своими очертаниями напоминали ему Саур-могилу.
Лежал Алеша рядом с бледными и окровавленными людьми. Их привозили сюда из-за Миуса, быстро сортировали, иные умирали, не дождавшись операции, или прямо на столе под ножом хирурга. Ночью с потушенными огнями приходили на шахту поезда, составленные из санитарных теплушек, и забирали раненых. Шли поезда в далекий тыл.
У Алеши начиналась гангрена. Медлить с операцией было нельзя. Хирург твердо решил ампутировать ногу, это давало гарантию, что раненый будет жить. Но, к счастью, того хирурга, большого специалиста по ампутациям, пригласили в какой-то госпиталь или больницу для консультации. Алешу оперировала пожилая и очень усталая женщина. Она искромсала ножом вспухшую, синюю Алешину ногу, но ампутировать не стала. По-матерински пожалела молоденького лейтенанта.
– Была бы кость, а мясо нарастет, – сказала она, отправляя Алешу в послеоперационную палату.
И только через полмесяца, когда Алеше стало несколько лучше, его эвакуировали в сторону Сталинграда. Дважды немцы бомбили в пути эшелон. Они не могли упустить случая расправиться с безоружными, беспомощными людьми. И были новые жертвы среди раненых и медперсонала.
Но эшелон все-таки пришел на станцию Морозовскую, а потом на автомашинах, в кузовах, раненых везли на хутор Грузинов, где был фронтовой эвакогоспиталь. Помещался госпиталь в деревянном здании школы, одноэтажном, обветшалом. В бывших классах ножка к ножке и спинка к спинке стояли двухъярусные железные койки. И все же мест не хватало, и между двумя ранеными клали третьего. Что поделаешь, когда раненые уже прибыли и нужно спасать их! А других подходящих помещений на небольшом хуторе не имелось.
А сотни раненых лежали пластом на жестких постелях, боясь шелохнуться, чтобы не причинить острой боли себе и соседу.
В каком-то кошмарном забытье прошла для Алеши первая ночь в Грузинове. У него был сильный жар. Температура прыгнула под сорок. Огромные языки багрового пламени плясали перед глазами. Раскалывалась голова, нестерпимо болели раны. А утром, сразу же после обхода врача, Алешу унесли на перевязку.
В комнате с белыми занавесками на окнах, белыми чистыми простынями на столах Алешу встретили люди в белом. Медсестра, которую за строгий характер раненые называли «гвардии Дунькой», долго и мучительно разматывала бинты, присохшие к ранам. Хирург, суровый и немногословный, с интересом разглядывал изрезанную ногу:
– Вам повезло, лейтенант Колобов, – и добавил, обращаясь к «гвардии Дуньке»: – Готовьте его ко второй операции. Нужен рентген. Осколок глубоко проник в область левого бедра.
Хирург обрабатывал рану, бросая в таз алые от крови тампоны. Алеша, сцепив зубы, следил за тем, как быстро и точно движутся руки хирурга.
Ногу положили в гипс, и врач распорядился, чтобы Алешу отнесли в ту палату, где несколько посвободнее.
Вскоре Алеша ближе узнал нескольких раненых из палаты. Неторопливые рассказы бойцов о прошлом житье-бытье скрашивали однообразную жизнь госпиталя, отвлекали от болей и мыслей о предстоящей операции.
А как-то вечером в палату заглянула девушка в белом халате и шапочке.
– Колобов есть? – спросила она.
– Да, – спокойно ответил он, решив, что это принесли ему жаропонижающие таблетки.
– Из Алма-Аты? – спросила она, пробираясь к нему.
Он не успел ничего сказать. Она разглядела его в сизых сумерках комнаты, и ее глаза округлились:
– Леша… Ой, да как же ты!..
Это была Тоня Ухова, дурнушка Тоня, которая жила недалеко от Алеши, на том же болоте, та самая Тоня, которая донесла на Алешу Петеру. Она присела на краешек кровати, осторожно взяла его руку, погладила ее и легонько пожала.
Алеша пристально смотрел ей в лицо, словно пытался прочитать на нем все, что случилось с Тоней за время войны. Оно было прежним. Лишь на правой щеке чуть обозначилась ямочка, когда Тоня улыбнулась, а потом и ямочка спряталась.
– Сестра милосердия, – прошептал Алеша. – А почему я тебя до сих пор не видел? Ты работаешь здесь?
В другом конце комнаты кто-то замычал и скрипнул зубами. Тоня повернулась на стон, прислушалась.
– Я была на передовой. После ранения попала в этот госпиталь. В самый раз, когда бои шли под Сталинградом. А подлечилась, оставили меня здесь, в женском отделении, – сказала она. – Вступила в партию. Можешь поздравить.
– Я рад за тебя.
– Привыкла уж в госпитале, – проговорила после некоторой паузы.
– Тоня, у вас не было последнее время раненой санитарки? Ногу ей оторвало. Наташа Акимова. – Алеша приподнялся на локте и задышал тяжело, как будто делал какую-то трудную работу.
– Ты лежи. У тебя все идет нормально. Я смотрела историю болезни, – Тоня поспешила успокоить его.
– Сестричка, – позвали в другом углу комнаты. – Кажется, кончился он.
Тоня поспешно поднялась с койки, прошагала по комнате. И Алеша увидел, как она взяла и тут же опустила чью-то коченеющую руку.
Минуту спустя пришли санитары с носилками. Их встретило общее молчание. И сами они, не сказав ни слова, положили умершего на носилки и на вытянутых руках, поверх коек, пронесли к двери.
Тоня ушла с санитарами, слабо кивнув в сторону Алеши.
Сосед по койке проводил ее долгим взглядом и сказал с явной завистью в голосе:
– Везет же людям!
– Да вы о ком? – Алеша повернул к нему голову.
– Да уж не о тебе. Вы, как я понял, давно знакомы?
– Учились вместе, в одном классе.
Раненый сел на койке, поджав по-восточному короткие и худые ноги, на которых висели широкие, как юбка, застиранные штаны из синей байки. Он зачем-то пощупал свой кадык и грустно улыбнулся:
– Я знал много женщин. Я ценил в женщинах темперамент – страстность. И жестоко ошибался. Темпераментной может быть и лошадь. А главное в женщине – святое чувство верности. Ты представить себе не можешь, как она любит его! Когда рядом с ней Назаренко, она никого больше не видит.
– Тоня? – удивился Алеша.
– Тебе кажется странным?
– Она когда-то клялась не любить и не выходить замуж.
«Так вот почему Тоня не на передовой. Интересно, он-то как? Любит ее?» – подумал Алеша. Ему захотелось, чтобы все у Тони было хорошо.
Назавтра Тоня пришла снова. За окнами палаты гудел ветер, от его порывов дребезжали окна. На душе у Алеши было тоскливо от воспоминаний о доме, о Наташе, о школьных и фронтовых друзьях, которых разбросала война по белу свету. Соберутся когда-нибудь они вместе? Вряд ли.
– Ты никого не встречала из наших? – спросил Алеша, когда Тоня подошла и наклонилась к нему.
– Нет, а ты?
– На фронте видел Илью Туманова.
Алеша рассказал ей про короткую встречу за Миусом.
Так и не довелось сойтись им снова, как договаривались.
Тоня слушала внимательно, не сводя глаз с Алеши. Да, слаб он. Лицо белое, с зеленоватым оттенком. Значит, потерял много крови.
– Никакой Акимовой у нас не было и нет. Я проверила по спискам с самого января, – заговорила она, когда он смолк. – Эта Акимова – знакомая тебе? Твоя девушка?
– Да, мы с ней подружились. И ее ранило в первый же день наступления.
– Ее из армейского госпиталя могли эвакуировать сразу в глубокий тыл. Так чаще всего и бывает, когда грузят раненых в специальные санитарные поезда, – сказала Тоня.
Он вздохнул:
– Я найду ее. Все равно найду!
И Тоня призналась:
– Я тоже встретила такого человека, Алеша, такого человека!.. Ты только не смейся надо мной. И мне боязно за свое счастье. И еще как-то не по себе, что время теперь трудное, военное, столько беды, горя кругом, а я думаю о своем личном, дрожу за него, – она вспыхнула румянцем и отвернулась. – Я такая счастливая!
– Мне кажется, что это всегда прекрасно.
– Любить?
– Да.
– Я тоже так думаю.
А стал Алеша через несколько дней поправляться после второй операции, Тоня зачастила к нему, и они говорили снова и снова о том, о чем никогда не открылись бы никому другому. Однажды Алеша познакомился с Назаренко и узнал от него, что тот любит Тоню.
Тогда Алеша уже встал на костыли. В крохотной комнатушке, которую занимал в одной из хуторских хат старшина Назаренко, допоздна пили кислое красное вино за скорую победу.
Вскоре госпиталь переехал поближе к линии фронта, а раненых, в том числе и Алешу, развезли по разным местам…
Как давно это было! Впрочем, прошел всего год. Алеше залечили раны. Хуже было с контузией. Вдруг начались нервные припадки с адской головной болью, а иногда терял сознание.
Только в марте сорок пятого Алеша появился в родном городе. Ему, как инвалиду войны, должны были платить пенсию. Но он думал об устройстве на работу. Ходил по городу и присматривался к объявлениям у трамвайных остановок и рекламных щитов.
2
Был по-настоящему теплый день. Такие дни иногда выдаются здесь ранней весной. Пусть земля еще дышит холодком и в скверах не совсем растаяли сугробы, а солнце ласково обнимает прохожих, греет им бока, спины, заставляет их радостно щуриться.
Алеша вспотел, пока шел к Ахмету. А ведь на нем и была-то одна гимнастерка. В комнатке же ему стало прохладно, а полчаса спустя он совсем замерз. Очевидно, давно не топили печь, на которой, как и на стенах, отсырела и кое-где отвалилась известка.
– Ты набрось одеяло на плечи, – посоветовал Ахмет, на котором была старая, много раз штопанная разными нитками теткина кофта. Он кутал в кофту свою плоскую грудь, словно больше всего мерзло у Ахмета сердце.
Алеша позвал Ахмета на улицу, но тому очень хотелось показать свои работы. Может, за всю войну запросто пришел к нему первый гость. Художники, конечно, не в счет, они хоть и лучше разбираются в живописи, но не всегда говорят то, что думают. Черт возьми этот вольный цех!
Ахмет перебирал наваленные в углу картины и этюды. Одни из них были написаны на мешковине, другие – на картоне.
– Сейчас, сейчас я найду тебе, – волнуясь, говорил он.
Алеша, сидя в старом, скрипучем кресле, спиною к окну, наблюдал за Ахметом, за его маленькой фигуркой. Несомненно, он был болен. Об этом говорило его лицо: белый, почти стеариновый лоб, малиновые пятаки румянца под скулами.
– Я хочу показать тебе мою последнюю работу. Я написал ее прошлым летом, а с той поры так ничего и не создал для души, – грустно говорил он.
Ахмет все никак не мог найти то, что хотел показать Алеше. И он поставил перед Алешей, чтоб только тот не скучал, картину «Весна в садах». На полотне яркой зеленью дымились яблони на свинцовой жирной земле. Куда-то далеко уходила тропка, и на ней виднелся маленький кустик прошлогоднего бурьяна.
«Он действительно талантлив. Какое-то колдовство! Стихия, она обрушивается на тебя и властвует над тобой», – с восторгом подумал Алеша.
– Ахмет, помнишь, ты говорил, что не любишь писать зелень? Но ведь написал же.
– Это не зелень, Алеша. Здесь совсем нет зелени, – с надрывом закашлял Ахмет.
– Я понимаю. Картина сильная.
– Ее покупал у меня музей. Деньги не очень большие, но это так приятно. Еще останешься потомкам. И я много раз приходил в музей с надеждой, что ее повесят в доброй компании работ современных художников. Но ее пристроили, как задник в витрине, где были фрукты. Красные и лимонно-желтые яблоки, коричневые груши… Я на коленях просил картину обратно, я обещал принести взамен шикарнейшие натюрморты с ярчайшим национальным орнаментом. И они сдались.
Ахмет снова зашелся кашлем. Привычным движением достал из кармана скомканный платок и поднес его к губам. И Алеше показалось, что в уголках Ахметовых губ вздулись и лопнули красные пузырьки.
– Говорят, в картине нет необходимой жизнерадостности, – говорил Ахмет. – Но ведь Семкина культя – реальный факт…
– Чья? – резко подался к нему Алеша. – Чья культя?
– Семки Ротштейна. Был на фронте, ранен, теперь на заводе экспедитором. Ты не знал, что он в городе? Давно уже.
– Вот что! А ведь альпинистом был… С культей не ходить ему в горы, – сказал Алеша.
– Про наших ребят говорил. Васька Панков и Петер спасли Сему. Они в одной роте служили.
– Значит, экспедитором?
– Что ты! Важный такой, с портфелем. Его и не узнаешь. Мы как-то встретились в детском доме. Я вел там кружок рисования, а Семин завод шефствует над детдомовцами. Он нам и краски доставал, Сема. Авторитетнейшая личность!
– Вон оно что!
– Я завидую ему, – признался Ахмет. – Он нужен людям, все его уважают. Это ведь здорово, когда в тебе нуждаются. Верно?
– Конечно.
– Он и сам пластается на работе и другим не дает передыху.
Алеша посмеялся, а потом спросил:
– А еще кто вернулся?
Ахмет пожал худыми плечами:
– Больше не знаю. Да, Ванек приезжал домой на побывку. На Вере женился. Ну на этой самой, из нашего класса, с которой ты в «Медведе» играл…
– Ванек – на Вере? – недоуменно протянул Алеша. Ему была явно неприятна эта новость. – Но как же так?.. На выпускном вечере – я это прекрасно помню – она говорила, что никогда бы не вышла за него замуж…
– Так они все говорят, – равнодушно произнес Ахмет. – Забрал он Веру куда-то под Красноярск. Она тут трудно жила, Вера.
Чтобы перевести разговор на другую тему, Алеша кивнул на мольберт, на котором стояло полотно в подрамнике, прикрытое двумя полосами грязных обоев:
– А это?
Ахмет вздрогнул, как пойманный с поличным воришка, и повесил свою большелобую голову:
– Так. Рисовал по заказу филармонии. Рисовал я, но… С натуры. Два сеанса, примерно по часу, когда он приезжал в город.
С портрета на Алешу глядел лауреат, которого еще в сорок первом предлагали увековечить Ахмету. Но Ахмет отказался, он считал, что это не его дело – писать портреты. Ахмет хотел пропеть в живописи гимн борцам.
Ахмет хлопнул себя по квадратному лбу ладошкой:
– А небо мое под матрацем! Здесь, здесь оно! – и кинулся к кровати.
– Слушай, Ахмет, а ты знаешь, что Петер в плену? – глухо спросил Алеша.
– Да ты что?
Алеша утвердительно кивнул головой. Он видел, что Ахмет не верит ему. Впрочем, и сам Алеша не представлял себе, как это Петер сдался на милость врага. Вместо того, чтобы стрелять по фашистам, он бросил оружие и молил о пощаде. Нет, это не похоже на Петера. Но ведь пил же немецкие чаи!
– У меня в руках была немецкая листовка с Петеровой фотографией. Точно, – сказал Алеша.
Ахмет так и застыл с картиной в руках. Вороненые глаза сурово блеснули из-под насупленных бровей. Именно таким он бывал всегда, когда очень уж сердился. Алеша помнил школьные драки, в которых участвовал Ахмет. Обычно тихий, уравновешенный, он взрывался, как динамит, если его обижали.
– Я не был на фронте. Я хотел воевать, но меня не взяли, – нервно заговорил Ахмет. – И я не знаю, могу ли судить Петера. Но считаю, что он последний мерзавец. Тебе не нужно рассказывать, каким активистом он был. Член комсомольского комитета, вся грудь в оборонных значках. Чуть ли не в маршалы метил. Да что там! Он легко отказался от отца и так же легко от Родины. И погибнет он где-нибудь, как собака!..
Ахмет закашлялся. И Алеша с досадой подумал, что напрасно завел этот разговор. Очевидно, Ахмету нельзя волноваться. Вон как зашелся в кашле.
– Давай прогуляемся. На улице чудесно! – сказал Алеша, протянув руку за палочкой, на которую он опирался.
Но Ахмет остановил его. Ахмету хотелось показать свою картину, ту самую, которую он считал лучшей, потому и запихал под матрац, чтобы сберечь ее, не в пример другим полотнам.
– Прежде я не рисовал неба. Я не очень любил его, потому что не понимал. Всякие там кисейные облачка не очень увлекали меня… Теперь смотри! – Ахмет прислонил полотно к стене и провел ладонью по шершавой его поверхности.
За узкой полоской песчаной земли голубело небо. Высокое и бесконечное. Оно было прозрачным, как родниковая вода. И не скользило по небу ни одной тучки. Лишь на песке обозначилась смутная тень от чего-то. Может, тень самолета, а может, и птицы. Или набежавшего на солнце облака.
– Ну как? – торжествующе спросил Ахмет.
Алеша молчал, разглядывая картину, смысл которой явно ускользал от него. И, между тем, чувствовалось, что это не просто натура, перенесенная на холст. Это была какая-то большая мысль, высказанная в цвете.






