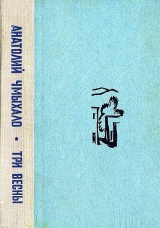
Текст книги "Три весны"
Автор книги: Анатолий Чмыхало
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
– Я б ему голову оторвал! – гневно сказал отец.
– Несмышленый он, ваш Петер, – с укором проговорила мать. – Ежели суда не было, то никто и не скажет, виноватый или нет. Да уж какой-то отец ни есть, а все ж кровь родная.
– Петер прав! – упорно настаивал Костя.
– Это и ты бы от меня открестился, случись что со мной? – спросил отец.
– Я бы не отказался.
– Почему же так?
– А потому, что не смог бы. Нет у меня воли!
– Ишь ты, какой умный!.. Выходит, была бы воля…
– Хватит вам, – сказала ласково мать, ругая себя в душе за то, что поддержала этот разговор. Теперь примется отец пилить Костю.
– Сопляки вы все безмозглые, и одна вам цена! – отец в сердцах сплюнул раз и другой на пол и схватился за сердце.
– Ты, Костя, сбегал бы за хлебом, – мать вытолкала сына за дверь, чтобы положить конец этому разговору.
Косте было известно, что не одобрил Петерового поступка и Федя, который хорошо знал Чалкина-отца. Они вместе воевали в гражданскую и против басмачей. Костя слышал своими ушами, как Федя говорил Петру:
– Поспешил ты, Петька. Отец у тебя не тот человек, запомни! И я докажу это!
Но чего натворил сейчас Алеша Колобов? Что за сигнал поступил в комитет комсомола? И почему с Костей разговаривает об этом Петер, а не секретарь комитета?
Как бы угадав Костины мысли, Петер сказал:
– Мне поручили выяснить и доложить. А ты не либеральничай, не отмалчивайся. Выступи, как положено комсомольцу. Будь выше личных симпатий.
– А что такое?
– Узнаешь на собрании, – уклончиво ответил Петер.
Он явно не доверял Косте. Как-никак Костя – приятель Алеши.
– Ладно. Я выступаю, – неохотно пообещал Костя. – А это уж очень нужно?
– Вот ведь ты как…
– Чего?
– Пассивничаешь. А нам нужно драться за людей, Воробьев. За каждого комсомольца.
«Все-таки жалко ему отца или нет? – думал Костя, глядя в широкоскулое лицо Петера. – Должно быть, жалко. Я бы все-таки действительно не смог… И потом ведь сам Петер не знает толком, за что посадили его отца. Говорят, за какую-то давнюю историю, когда комбриг Чалкин еще воевал в Средней Азии».
Литератор Лариса Федоровна посмотрела на пустовавшее место, где должен был сидеть Алеша:
– Я вас прошу, Воробьев, сказать о поведении Колобова его родителям. Еще один прогул, и педсовет не допустит его к экзаменам. Где он бывает?
– В библиотеке, – солидно ответил Костя. – Читает стихи.
– Он все врет, этот Колобов, – крикнул Ротштейн.
– Заткнись, Сема! – не выдержал Васька, считавший своим долгом заступаться за всех.
– Панков, выйдите из класса! – нервно сказала Лариса Федоровна. Она терпеть не могла жаргонных словечек. За них не раз попадало ребятам.
Васька нехотя поднялся, стукнув крышкой парты, и направился к двери. Ему не хотелось уходить. Он шел не спеша, словно надеясь, что его остановят. Но Лариса Федоровна молча смотрела ему в спину до тех пор, пока за Васькой не закрылась дверь.
Дальше урок пошел нормально. О Ваське и Алеше, казалось, все забыли. Однако, когда Лариса Федоровна вызвала к доске второгодника Саньку Дугина и он ничего не смог ответить, она едко заметила:
– Мы говорили о Колобове. И вы, Дугин, посмеивались. Да-да. Конечно, вы аккуратно ходите в школу, но для чего ходите – непонятно.
– Я учил… – подавленно вздохнул Дугин, отводя в сторону растерянный взгляд.
– Плохо учили. Садитесь.
Дугин понуро сел. О чем-то пошептался со своим соседом Митькой Кучером и процедил сквозь длинные и острые, как у крысы, зубы, чтобы слышала Лариса Федоровна:
– Я тоже буду плановать.
– Сделайте одолжение, – взглянув на Дугина, сказала Лариса Федоровна, и брови ее круто переломились.
– Колобов идет в военное училище, – выкрикнул Ванек.
По классу пробежал сдержанный смех. Кто примет Лешку в училище, когда ни возраста, ни силенки – ничего нет? Парнишка еще, а лезет туда же. Да таких-то близко не пускают к самолету!
– Вы серьезно, Мышкин? – спросила Лариса Федоровна. – Но Колобов любит литературу. Передайте ему, что я хочу поговорить с ним.
После уроков Костя остановил Ванька на крутой пыльной лестнице, когда тот сверху летел к раздевалке. Костя ухватил его за рукав куртки так, что она затрещала. И Ванек обозлился:
– Чего лапаешь?
– Слушай. Что Алеша наделал?
– Не знаю.
– А где он сегодня?
Ванек неопределенно дернул плечами. Мол, откуда мне знать. Затем сказал с обидой:
– Ты говори прямо…
– Это я у тебя спрашиваю. Мне Чалкин сказал…
– А иди ты со своим Чалкиным! – отрезал Ванек.
Из школы Костя вышел следом за Владой. Надевая демисезонное клетчатое пальто, она на минуту задержалась на ступеньках крыльца. Костя взял у нее черный кожаный портфель и ждал, когда она застегнет пуговицы. Затем они пошли по аллее пирамидальных тополей, мимо стриженых акаций. Было тепло, а Косте даже жарко. Но Влада куталась в воротник пальто: очевидно, боялась простуды.
– Скоро мы уедем, – с грустью сказал Костя. – Всей компанией…
– И ты в училище? Все с ума посходили!.. А я осенью поеду в Москву, в университет. Ты будешь писать мне? Каждый день? И даже тогда, когда станешь знаменитым летчиком?
Костя не успел ответить. За спиной у них раздались торопливые знакомые шаги, и когда Костя резко повернулся, он увидел догонявшего их Илью Туманова. На Илье было напрочь распахнуто старенькое пальто, из которого он давно уже вырос, и полы развевались где-то сзади. Илья вытер веснушчатый нос платком и недобро посмотрел на Костю. И тут же смутился, согнал с лица выражение явного неудовольствия.
– Вы о чем-то спорили? – спросил Илья лишь для того, чтобы как-то вступить в разговор.
– Ты догадлив, – слегка усмехнулась Влада. – Ты будешь мне писать, Илья, когда уедешь? Ну хоть раз в месяц или чаще?
– Каждый день!
– Пожалуй, – спокойно согласилась она. – Ты будешь. А с Костей мы поссоримся в первых же письмах.
– Нам недолго и помириться, – с иронией в голосе ответил Костя. – Верно?
Но Влада думала уже о другом. Она не слышала, что сказал Костя, спросила:
– А что такое настоящий человек? Я хочу быть настоящей, мальчики! Вот если бы девушек брали в военное училище!..
– В медсестры берут, – заискивающе сказал Илья.
Он все принимал всерьез, даже сумасбродство Влады. И Костя знал, что это наигрыш, а уж такой он есть, Илья Туманов.
– Нет, я хочу в танкисты или летчики, вот как Алеша Колобов.
– Он трепач, он никуда не поедет, – убежденно, с явным превосходством проговорил Илья.
– Ему трудно, – сказала Влада. – Он страдает, а хочет казаться беспечным.
– Алеша – сирота. У него нет матери, – нахмурился Костя.
– И у меня нет мамы, – тяжело вздохнула Влада. – Я страшно несчастна.
– Ну ты – другое дело. – Илья осторожно взял ее под локоть.
– Почему другое?
– А потому, что ты девушка.
– Ну и что?
– Тебе труднее.
– Вы молодцы, мальчики! В училище едете! – звонко воскликнула Влада. – Я буду гордиться вами. Вы – настоящие, вы не хлюпики.
– Армия то, что надо, – медленно, сквозь зубы сказал Костя. – Мужчина должен воевать, быть защитником Родины.
– Современные войны кончаются очень скоро, – с глубокомысленным видом заметил Илья. – Так было на Хасане, на Халхин-Голе, так было на финской и в Польше. И чтобы не опоздать, надо идти в армию сейчас.
– Да, – живо согласился Костя, глядя куда-то в пространство.
– Это великолепно! Я приду провожать на вокзал! – сказала Влада, поправляя упавший на лоб локон.
Владины слова воодушевили Костю. Он почувствовал себя необыкновенно счастливым. Пусть рядом с Владой вышагивает долговязый Илья, пусть. Это еще ничего не значит. Влада останется с ним. Он никому не отдаст ее, потому что она для Кости самая дорогая, самая необходимая.
5
Возле трехэтажного белого здания школы был небольшой сквер. Лет пять назад здесь посадили приземистые клены и вязы, разлапистые карагачи и бронзовоствольную акацию. Деревца накрепко ухватились корнями за землю и так разрослись, что трудно было пролезть через тугие узлы колючих ветвей даже сейчас, когда сквер не закучерявился листвою.
Алеша нетерпеливыми шагами мерял узкую тропку, протоптанную вдоль сквера. Он поджидал Ваську Панкова. Вот-вот должны начаться занятия во второй смене, а Васька все не появлялся.
Сегодня было два урока математики. Иван Сидорович, которого ребята прозвали за хромоту Рупь-полтора, постарался наставить «плохо». У одного Ванька их хоть лопатой греби, а у Семы Ротштейна и того больше.
А ведь станут ребята знаменитыми в стране летчиками-орденоносцами, и соберутся в школе, в бывшем своем классе, и пригласят всех учителей. Иван Сидорович тоже придет на вечер, и поймет тогда, что он не всегда и не во всем был прав…
– Здравствуй, Колобов.
– Здравствуйте, Федор Ипатьевич.
– Историческая встреча! – всерьез констатировал Федя. – Но ты неправ, мой юный друг.
– В чем? – Алеша удивленно разглядывал историка.
– История не арифметика, в ней иногда бывает и дважды два – пять.
Озадаченный Алеша хотел что-то сказать, но в вестибюле тонко заверещал звонок, и Федя заспешил в школу. Федю что-то очень взволновало, и он, может быть, больше говорил с самим собой.
Васька Панков издали заметил Алешу, по-разбойничьи пронзительно свистнул, и Алеша увидел его. Они широко зашагали по тротуару вверх, к горам. А когда завернули за угол дувала, Алеша нетерпеливо коснулся Васькиного локтя:
– Ну! – и насторожился в ожидании.
– Чего нукаешь! – с нарочитой грубостью ответил Васька. – Ничего не вышло. Бумага слабая. Вот.
Он порылся во внутреннем кармане выцветшего от времени пиджака и достал метрику. Он бережно развернул ее, и Алеша увидел большую дыру в середине листа, вокруг которой кругами расходились разноцветные подтеки. У Алеши упало сердце: теперь, прощай училище! Ничего уже не поделаешь, все кончено.
– Как же это? – растерянно спросил он.
– А так. У дяхана руки играют с похмелья. И что-то он тут напутал. Не туда макнул, что ли. Возьми.
Алеша грустно взял злополучный радужный лист, слегка потянул его за края, и лист распался в руках, как пепел. Остались одни жалкие клочья. Алеша скомкал их и с досадой бросил на землю.
– Я тебе что толкую… – заглянув в лицо дружка, сказал Васька. – Ты не горюй, сейчас мы с тобой потопаем. Я знаю куда.
Они долго шли по улицам: Васька впереди, Алеша следом. И оба молчали.
– Ты постой тут, а я смотаюсь, – остановил Васька Алешу у небольшого одноэтажного дома с выходящим на улицу ветхим крыльцом.
Алеше было теперь все равно. Он чувствовал себя обреченным. От Васьки уже не ожидал для себя ничего хорошего. Да и кто выпишет Алеше новую метрику! И он поверил Ваське! Смешно даже. Это все равно, что без экзаменов, за здорово живешь выписать свидетельство об окончании школы.
Васька смело вошел в дом. Видно было, что он здесь не впервые. Алеша поднялся на крыльцо и, перегнувшись через шаткие перила, наблюдал, как ветер кружил и гнал по улице бурые прошлогодние листья. То подхватывал их и нес на своих легких, невидимых крыльях, то озорно швырял наземь, где придется. Подумалось, что вот так же и жизнь носит людей. Давно ли казалось, что все – лучше не надо, и неожиданно, как снежная лавина в горах, рухнули все надежды. И виной тому какой-то совсем незнакомый Алеше мошенник.
Васька ходил долго. И когда Алеше стало невмоготу ждать и он уже решил, что Васька обманул его – вышел из дома черным ходом, – дверь отворилась, и на пороге показалась курносая, милая девушка в белом халате. Она окинула Алешу пристальным взглядом маленьких острых глаз и оглянулась на появившегося следом за нею Ваську:
– Этот?
– Он, – кашлянув в кулак, вполголоса ответил Васька.
– Скажешь, что писал на родину, а там книги за твой год не оказалось. Пожар был. Понял? – торопливо прошептала она. – И что метрика нужна для получения паспорта, который у тебя вытащили.
Алеша согласно кивнул головой, не очень веря в успех. Они прошли мимо сидевшей в коридоре очереди, и девушка втолкнула его в длинную светлую комнату, где он увидел белые, горящие никелем медицинские весы, а на плакатах буквы – от самых больших до совсем крохотных. А еще в углу стояла белая ширма, за которой слышались негромкие голоса.
Алеша нарочито кашлянул, но ему никто не отозвался. Он хотел было присесть на зачехленный белым стул, но передумал.
– Можете одеваться, – донесся ровный мужской голос. И сию же секунду из-за ширмы появился высокого роста доктор в роговых очках и в белой шапочке. Он прошел мимо Алеши к столику, что был в углу комнаты, присел и что-то долго писал, беззвучно шевеля сухими, бесцветными губами. Затем отложил в сторону мелко исписанный клочок бумаги и вопросительно покосился на Алешу:
– По какому случаю? Вас кто-нибудь побил? Нужна экспертиза?
– Н-нет. У меня метрика…
– Снимайте брюки, – приказал доктор, направляясь к Алеше и на ходу поправляя очки.
– Зачем? – растерялся тот. – Это же… стыдно.
– Вы куда пришли? И что вам нужно? – сурово спросил доктор.
– Я насчет метрики…
– Мне некогда. И вы у меня не один. Там очередь, – доктор кивнул на дверь.
– Чего возишься! Снимай быстрее, – сказала выросшая рядом женщина в халате и в такой же шапочке, как у доктора.
Алеша густо покраснел и отвернулся.
– Так сколько же тебе лет? Когда родился?
Алеша прикинул: нужно сказать, чтобы было никак не меньше семнадцати. Но поверят ли?
– Родился я пятнадцатого декабря двадцать третьего года.
– Покажите зубы, – сказал доктор в роговых очках.
Алеша ощерился. Конечно, зубы показать можно. Пусть смотрят сколько угодно.
– Я думаю, что можно согласиться, – сказал доктор. – Значит, пятнадцатого декабря?
Он записал что-то в книгу, потом спросил фамилию и имя. Наконец протянул бумажку:
– Комната напротив.
Алеша с облегчением вздохнул и вышел в коридор. А затем они вместе с Васькой смотрели, как знакомая девушка выписывала справку. Затем она ходила куда-то, очевидно, к доктору в очках, подписывать документ.
– Девочка сто сот стоит! – бросил ей вслед Васька.
– А кто она? Ты ее откуда знаешь?
– Не твое дело.
Некоторые уже побывали на комиссии. Хоть медицинских карточек никому не вручили, ребята примерно знали, кто на чем срезался. Но забракованные все еще на что-то надеялись. Ждали чуда. Авось будет недокомплект, и тогда кое-кого могут взять. И, перебивая друг друга, честили Саньку Дугина:
– Пижон! Глухим притворился.
– Зачем тогда идти на комиссию?
– Фрайер!
– Да я передумал служить, – оправдывался Санька. – Я по натуре своей – штатский. Ну куда мне в армию!
Ванек еще не был на комиссии и переживал. Это было видно по его тонким, бескровным губам, по суетливо бегавшим испуганным глазам.
Алеша и Васька в регистратуре поликлиники записались у военкоматовского лейтенанта с малиновыми петлицами. Он развернул новенькую Алешину метрику, с интересом заглянул в нее.
– Сегодня оформил? Оперативно, – с профессиональной проницательностью отметил он. Знаем, мол, ваших.
Парни больше всего срезались на «чертовом колесе». Это было нехитрое устройство. Человека сажали в свободно вертящееся металлическое кресло, кресло раскручивали, а потом заставляли беднягу встать и пройти по одной плашке. Это редко кому удавалось. Проклятая плашка рыбкой выскальзывала из-под ног. Выходили после «чертова колеса» зеленые, с дикими глазами и хриплым, замогильным голосом сообщали:
– Повело. Амба!
Им от души сочувствовали, но что значило сочувствие тех, кто через несколько минут должен был разделить с ними постылую долю неудачников! «Чертово колесо» все крутилось и крутилось. И никто из ребят не мог миновать его.
Увидев молчаливо ставшего в очередь Алешу, знакомые парни искренне удивились. Они знали, что он на год моложе их, а за возрастом здесь следили строго. И кто-то даже невесело сострил по поводу Алешиного малолетства. И Алеша смолчал, словно это его никоим образом не касалось.
На «чертовом колесе» пролетел и Костя. Он вышел из кабинета шальной, с испариной на белом лбу. Тыкался из угла в угол, а когда его спросили, безнадежно повесил голову.
Наконец вызвали Алешу. Врачи придирчиво щупали его, очевидно, искали какую-то болезнь, а когда не нашли, то били молоточком пониже коленного сустава, и нога у Алеши забавно прыгала. А еще его заставляли со всей силы дуть в какую-то трубку. Он дул, и тяжелый металлический поршень в стеклянном цилиндре поднимался все выше, пока в легких у Алеши был воздух. Когда же Алеша совсем выдохся, почувствовав себя пустым бурдюком, врачи посмотрели на цилиндр и сказали:
– Норма.
А кресло стояло у окна, то самое. Его сразу угадал Алеша. «Так вот где таится погибель моя», – стихами тревожно подумал он и уж больше старался не глядеть в ту сторону.
– Теперь пройдите сюда.
Он не стал уточнять, куда его посылают. Он прошел и сел на «чертово колесо», и оно обожгло его холодом, и холод поднялся выше, и Алеша зябко передернул плечами.
Кресло плавно, как по маслу, тронулось с места, сделало один оборот, другой и пошло, покатило быстрее, еще быстрее. В глазах у Алеши враз зарябило, и он невольно закрыл их. И почувствовал, что ввинчивается в пространство, словно летящая стрела. Затем его прижало хребтом к спинке кресла, расплющило, и к горлу подступила противная тошнота.
– Стоп, – сказал кто-то.
Алеша встал и, собрав воедино всю свою волю, направился к двери. И после первого же шага к нему пришло ощущение полного провала. Ему показалось, что его резко бросило сначала в одну, затем в другую сторону. Но позади раздалось:
– Норма.
Алеше стало легко. И не так уж оно страшно, это кресло! Конечно, с непривычки немножко мутит, но терпеть все-таки можно. Алеша вытерпел, и теперь он непременно попадет в военное училище. И скоро будет летать выше облаков, и люди гордо станут называть его летчиком. Сталинским соколом! Это же черт его знает как здорово!
6
Алеша проснулся внезапно, как от толчка, и увидел большой золотой сноп света в избушке. А еще увидел в оконце голубой кусок неба, такой голубой, что даже не верилось, что это все настоящее. Необычными казались и сбрасывающие снежный покров близкие горы, и строй тополей, шагавших по обочинам Копальского тракта, и гулкий гудок паровоза у семафора.
Было воскресенье. У приоткрытой двери, ссутулясь, кряхтел отец, починяя сапоги. Приятно, как в деревне, пахло кожей и дегтем. Отец загрубевшими пальцами ловко делал привычную ему работу. Прокалывал кожу шилом, откладывал шило в сторону и протягивал в дырочку иглу с дратвой, да время от времени любовался тем, что сделал: отставлял сапог на другой стул и разглядывал со всех сторон.
А бабка Ксения варила завтрак. Над печуркой витал синий пар. Алеша ноздрями жадно потянул воздух: кипел борщ. А в армии, верно, не готовят таких вкусных борщей, как у бабки Ксении.
– Вставай, Леша. Пора, – поднимая грустные глаза, сказал отец.
Его поддержала властная, ворчливая бабка:
– Любишь мокрым полотенцем утираться.
Почему мокрым? А кто же вытирается сухим? Тот, кто встает раньше. Бабка Ксения мудра, она за словом в карман не лезет. Бабку никогда не переспоришь.
Алеша вскочил с топчана, проворно натянул на себя штаны. Бабка зачерпнула ковшом воду в кадке и подала ковш. Вода была холодная и обжигала лицо. Умываясь, Алеша фыркал и покрякивал совсем так, как это делал отец.
Еще вчера в Алешином сердце была одна неизбывная радость. Сбывалось его желание: Алешу брали в летное училище, на днях он должен был ехать в Ташкент. Наступала пора зрелости, полной самостоятельности, и это радостно волновало и немножко страшило его.
А сейчас ему стало жаль и отца, и бабку, и Тамару. Теперь отец будет красить один, и некому сбегать за махоркой для него, когда она вдруг кончится.
Но самое главное – не с кем будет отцу переброситься словом. Отец всегда беседовал с Алешей, как равный с равным. Это было заведено еще с той поры Алешиного детства, когда отец читал ему Есенина. Знал он стихов немного, но читал их выразительно, с чувством, как будто выносил в сердце и написал их сам.
Из-за Есенина Алеша имел неприятности в школе. Еще в четвертом классе, когда учитель рассказывал о Пушкине, Алеша наивно спросил, кто лучше – Пушкин или Есенин? А учитель в те годы носил синюю блузу и читал со сцены Народного дома Демьяна Бедного. Других поэтов категорически не признавал.
– Откуда ты знаешь, Колобов, о Есенине? Это ж кулацкий поэт.
Алеша понял, что сказал не то.
– Так откуда ты знаешь о нем?
– Я слышал… И стихи мне нравятся.
– Вот ты до чего докатился!
На школьной линейке Алеше был объявлен выговор. А в селе шли разговоры, что очень уж легко отделался, что пусть спасибо говорит школьному директору, который за него заступился, а то быть бы за порогом школы.
Тогда отец ничего не сказал сыну, не похвалил и не поругал учителя. И лишь как-то позже заметил мимоходом:
– Конечно, Демьян тоже неплохой поэт.
Алеша понял, что это он об Есенине, и о том случае. И еще понял, что говорить об этом где-то никак нельзя. Снова будет крик и скандал, и на сей раз выговором не отделаешься.
Да, ему будет недоставать отца, которого Алеша любит, считая особенным, справедливым человеком. А ведь еще и не знает отец, что Алеша едет в училище. Тамара помалкивает. Нужно непременно сказать ему, сказать вот сейчас, сию минуту.
– Вчера ходили на комиссию, – глухо произнес Алеша. – Всем классом.
– Что? На какую комиссию? – отец удивленно вскинул светловолосую с большими залысинами голову.
– На врачебную. Отбирали в летное училище.
– Кого ж отобрали?
– Илью Туманова и меня.
Отец встретился взглядом с Алешей и насупил прямые мохнатые брови. Отложил работу.
– Это добровольно? – спросил он.
– Да.
– Что ж, Леша, смотри, тебе виднее. Смотри сам, – дрогнувшим голосом сказал отец.
– Я понимаю…
– В германскую как нас поливало снарядами в окопах! Казалось, никому не быть живу. Потом смотришь: вылазят, копошатся. Земля от всего спасает. А в небе не спрячешься. Там ты всегда на ладошке.
– Теперь война будет другая, – возразил Алеша, – Совсем другая!
– Какая б она ни была, а страдать все тому же человеку.
– Войны не будет. Побоятся нас тронуть. А если тронут, худо придется им. У нас же силища какая!
– Русский шибко колется, его голыми руками не возьмешь. Если тебе по душе, иди в летчики, – и принялся не спеша крутить цигарку.
– Скорее шею сломаешь, – вытирая о фартук жилистые синие руки, проворчала бабка Ксения. – Батька твой тоже ходил добровольцем, хватил мурцовки.
Отец улыбчиво посмотрел на бабку и сказал:
– Пусть идет. А насчет шеи – кому что на роду написано. Недаром поговорку придумали: грудь в крестах или голова в кустах. Такой уж он и есть солдатский фарт.
– Была б жива мать – не пустила бы, – сердито сказала бабка.
Алеша знал, что отцу в германскую пришлось несладко. Почти три года пробыл на передовой, ранен, лежал в тифу. Отцу известна цена воинской доблести. И Алеша в глубине души гордился этим.
– Пусть идет, – повторил отец, и глаза его повлажнели.
Бабка спохватилась, ругнула себя: завтрак готов, а хлеба нет. И тут же послала Алешу в магазин. Он взял линялую холщовую сумку, перебросил через плечо и торопливо зашагал вдоль железнодорожного полотна к вокзалу. Дорога здесь после прошедших дождей была грязной и скользкой. Комки земли липли, как смола, к Алешиным тяжелым «вездеходам». Оглянувшись – нет ли поезда, Алеша поднялся на высокую насыпь и пошел по шпалам.
Весь путь до вокзала и обратно он думал о своем скором отъезде. Алеша сядет в поезд – и для него начнется новая, совершенно незнакомая жизнь. Не будет рядом ни родных, ни теперешних школьных друзей. Илья Туманов, конечно, не в счет, он никогда не был настоящим другом Алеше. Илья много фасонил, строил из себя этакого страдающего Вертера. Ему нравилось по временам грустить. Для Ильи важно, чтобы его кто-нибудь видел в такую минуту и чтобы сказал о нем лестное, как о взрослом и умном человеке.
Пожалуй, Алеша простил бы ему и Вертера. Но Илья в компании ребят делал вид, что любит стихи и что-то в них понимает. И даже иногда читал какие-то строчки. Вот этого-то Алеша не мог вынести. Он в глаза смеялся над Ильей. А тот пунцовел и нервно грыз ногти.
Алеша думал и об историке Феде, который воевал с басмачами и знал Петерова отца. Федя, несомненно, был человеком незаурядным. Заикнулся, что решает один вопрос, а что за вопрос, так и не сказал..
Алеша уже не застал отца дома. Отец ушел по каким-то делам в город.
Тамара ждала брата. Она очень любила его и хотела сделать для него что-то такое, чтобы он в чужом краю всегда помнил о ней. А что именно сделать – этого Тамара еще не решила.
– Может, ты будешь курить? Тогда кисет, – раздумчиво сказала она.
– Нет, курить я не буду.
– Тогда я подарю тебе платочек. Сама обвяжу.
К Алеше пришел дружок Ахмет Исмаилов, парень из десятого «Б». Черноволосый, черноглазый и широкоскулый татарин. Он был одет совсем по-летнему: в белой рубашке с короткими рукавами, в кепке. А ведь только что начинался апрель, и северные ветры нет-нет да и приносили с собой издалека лютый холод, особенно по вечерам. Тогда город, вынеженный весною, зябко ежился и кутался потеплее.
Ахмет был на редкость способным художником. На выставках в Доме пионеров его работы собирали возле себя толпы людей. Об Ахмете восторженно писала молодежная газета, и вот уже второй год, как с ним занимался известный в республике художник-пейзажист.
– Слышал, что уезжаешь. Вот и пришел, – просто, как о самом заурядном, сказал Ахмет.
– Я сам собирался к тебе.
– А меня не возьмут. Что-то с легкими не в порядке. Я болел еще там…
Там – это в Китае. Отец Ахмета, старый большевик, работал в торгпредстве в Синцзяне. В Кульдже и умер, от туберкулеза, которым заболел еще в царской тюрьме. А матери Ахмет лишился раньше, чем отца. Какая-то свирепая болезнь была тогда. Многие умирали. И приехал Ахмет на родину, и живет теперь у тетки, отцовой сестры.
– Это бы хорошо, если бы взяли меня, – мечтательно продолжил Ахмет и вдруг рассмеялся веселым, дробным баском.
– Чего ты? – недоумевал Алеша.
– А то, что Петер тебя обсуждать собрался. Куда-то вы ходили с Мышкиным. В ресторан? В общем, какая-то комедия с выпивкой.
– Ты серьезно? Да мы ж обедали в ресторане. Ну пусть обсуждает теперь…
Они не спеша прогуливались по тропинке, которая, обегая ржавое болотце, вела к полотну железной дороги. Временами Ахмет останавливался и, сдвинув иссиня-черные брови, смотрел на тополя, что стояли вдали раздетые, похожие на скелеты каких-то доисторических чудовищ. И вот кивком головы показал на них Алеше.
– Это я б написал! Последнее время не могу писать зелень. Цветение садов тоже. У меня есть много этюдов, но они все лежат. Дикость! Будто предчувствие какое-то… Совершенно необъяснимое…
– Пустяки, Ахметка. Плюй на предчувствия и пиши-пиши. Тебе ведь столько дано, пойми!
– Сколько же?.. Не так много, Лешка. И сложное, и подчас совсем непонятное это явление – искусство. Тут и школа, и своя манера письма. И требование времени. Да-да, социальный заказ. Как у Маяковского.
– Но это ведь то, что нужно!
Ахмет грустно улыбнулся и неожиданно повысил голос:
– Я никогда не писал портретов и не буду писать! А мой шеф, он понимает социальный заказ до смешного примитивно. Он, например, сказал корреспонденту, что я уже заканчиваю портрет первого нашего лауреата…
– Ах вот оно что! Присудили Сталинские премии, – вспомнил Алеша. – А ты напрасно отказываешься, Ахметка. Такая колоритная фигура!.. Надо ж соображать!
– Я понимаю, Лешка. Я все понимаю. Для другого такой портрет – находка, настоящий клад. Можно попасть на республиканскую выставку, прогреметь на всю страну. Но я – пейзажист!
– Да сделай ты ему этого лауреата!
– Шефу?
– А то кому же?
– Не могу. Я часто с ним спорю. Я понимаю: сейчас – особое, героическое время. Но ведь он пишет людей плохо! – горько, словно от полыни во рту, поморщившись, сказал Ахмет.
Алеша смотрел, как судорожно прыгал у Ахмета острый кадык, как скулы заливал нездоровый малиновый румянец. И Алеше было обидно за друга, так обидно, как будто речь шла о нем самом, об Алеше.
– Ахмет, а нельзя сменить шефа? Найти другого!
– Он чувствует пейзаж. Ты бы посмотрел, как у него играет свет! Он талантлив, как шайтан.
7
Пассажирский поезд на Ташкент уходил вечером. Было свежо. В прозрачном воздухе далеко разносились звуки, и Алеша ясно слышал, как где-то, почти в самом центре города, прозвенел трамвай, как у ворот саксаульной базы тяжело гудел грузовик.
Возле входа в вокзал у брошенных наземь чемоданов и рюкзаков толпились ребята. К ним подходили и подходили провожающие. Толпа на глазах разбухала, и вот уже через нее трудно было пробиться.
Провожать Алешу и Илью Туманова пришел чуть ли не весь класс. Ребята откровенно завидовали будущим летчикам. Да и девчата тоже. Худенькая, бледнолицая дурнушка Тоня Ухова, которая жила всего дома через три от Алеши, призналась:
– Вот ничего бы мне так не хотелось, как стать летчицей! А в училище почему-то берут только мальчиков. Это несправедливо! Ведь летает же Полина Осипенко! А Валентина Гризодубова!
И Тоня обидчиво поджала алые, пухлые губы. В ней, пожалуй, и были по-настоящему красивыми одни губы. Губы казались чужими на ее бесцветном лице с птичьими одичалыми глазами – это не раз отмечал про себя Алеша.
Отъезжающих обступили со всех сторон. Девушки по-сорочьи трещали своей стайкой, ребята старались держаться как можно поближе к Алеше и Илье. И только «женихи» Митька Кучер и Санька Дугин не спеша прохаживались несколько в стороне, у самых трамвайных путей.
Илья Туманов, радостно возбужденный, суетливый, несколько раз отходил к билетным кассам и возвращался с неизменным:
– Все еще оформляют. Лейтенант пошел с литерами к военному коменданту.
Оно было уже из новой Алешиной жизни, это короткое, звучное и манящее слово – «литер». Конечно же, оно не имело никакого отношения к литературе. Впрочем, литеры рифмовались с юпитерами, с пюпитрами и еще со многими-многими заведомо поэтическими словами. Жаль, что у Блока в стихах нет литеров. В его времена это было презренной прозой. Он больше писал о Прекрасной даме и Фаине, И еще Карменсите, перед явлением которой слезы счастья душили ему грудь.
А с Костей Алеша, пожалуй, помирится. Ну погорячились оба и хватит. Всякое в жизни бывает. Может, больше и не доведется увидеть друг друга. Например, начнется война, должна она начаться. А Косте никто и никогда больше не принесет из библиотеки новых стихов.
– У вас литер один на всех? – спрашивал дотошный Сема Ротштейн.
– Нет, у нас несколько литеров. Я сам видел, – в тон ему, серьезно отвечал Илья.
И все-таки это было хвастовством: столько раз повторять полюбившееся слово. Примитивностью мышления. Алеша никогда бы не стал жонглировать этим словом, стыдно. И Костя тоже. А Костя в общем-то умный парень, только Влада его подпортила. Правду говорят, что с кем поведешься, от того и наберешься. Вот и ехидничает он и не очень дорожит мужской дружбой. Но помириться с ним все-таки надо. И Алеша порывисто подвинулся к Косте, и сказал:






