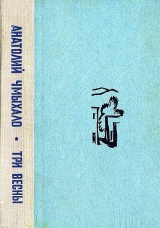
Текст книги "Три весны"
Автор книги: Анатолий Чмыхало
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
– Уход от человека в природу… – Ахмет многозначительно засмеялся. – А здесь они слились воедино. Они начинаются здесь и кончаются, чтобы снова начаться. Это – образ вечности, Алеша. Ты взгляни на малахитовую кромку неба. У самой земли…
Алеша внимательно посмотрел на полотно, затем перевел недоуменный взгляд на Ахмета:
– Я не вижу никакого малахита. Ты дальтоник, Ахмет. Ты снова спутал цвета. Ты не в ладу с зеленью.
Плечи у Ахмета мелко запрыгали. Непонятно было, то ли смеется он, то ли опять у него приступ кашля.
– Дальтоник? А это что? – он ткнул пальцем в портрет лауреата. – Здесь ты найдешь все цвета. Они на своем месте. Помнишь, как учил нас физик? Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны. Красный, оранжевый, желтый и так далее. Но ты прав. Надо идти. Пойдем-ка выпьем, Алеша, за нашу встречу, – и, заметив некоторую растерянность Алеши, добавил. – На выпивку у меня найдется.
Ахмет накинул на плечи рыжий коротенький пиджак с дырами на локтях. Пиджак в нескольких местах был сильно испачкан масляной краской, и эти крупные пятна придавали его хозяину воистину живописный вид.
Они вышли на улицу и направились к Зеленому базару. И снова, в который уж раз, Алеша подумал о больших переменах в жизни города. На углу улицы Абая, у редакции газеты, он увидел толпу. Как непохожи были эти люди на тех, которые, читая первые оперативные сводки, надеялись на скорую победу! Дорого достались им четыре военных года.
И Ахмет, он тоже стал другим, совсем другим. Он уже не улыбался так открыто, приветливо, как прежде. В нем что-то надорвалось. И в этом виновата, конечно же, война. Люди думают о снарядах, о фронте, о победе. Что им до судьбы еще никем не признанного живописца!
Это, конечно, обидно. Алеше было жаль друга. Но помочь ему он ничем не мог. Алеша сам не знал пока, как он будет жить завтра.
– Я встречал Ванька. Не нравится мне он. Глупейшее, самодовольное лицо. Дослужился до капитана. Как ты дружил с ним? Ведь он совершенно неинтересный парень, – сказал Ахмет.
– Ты же помнишь, что с Ваньком я играл в футбол да иногда плановал. Потом, наверное, он не так уж глуп, если хорошо устроился и женился на Вере, – проговорил Алеша, как бы оправдываясь. И подумал, что Ахмету тоже нравится Вера, поэтому-то он и говорит так о Ваньке. Но Алеша отогнал эту мысль.
Они зашли в закусочную, где на каждые сто граммов водки выдавали без карточек блюдечко бордового, кислого винегрета. Торговал здесь плутоватый мужик с висевшей, как плеть, правой рукой в перчатке. А помогала ему румяная бабенка лет сорока, очевидно, жена.
В закусочной было грязно. Воняло капустой, потом, едким махорочным дымом. Небритые выпивохи с налитыми кровью глазами нахально сунулись к Ахмету:
– Дай, браток, пару рублей. Душа горит.
Ахмет ответил им резко:
– Нет у меня денег.
Его тон возмутил выпивох. Один из них – матрос на костылях – широкой грудью попер на Ахмета. Тогда Алеша решительно прикрыл друга плечом. Матрос хотел убрать Алешу с дороги, толкнул, но тот устоял.
– Не лезь, дядя. У нас действительно денег в обрез, – мирно сказал Алеша.
– Пусть так и говорит. А то врежем промежду глаз – и амба! Сыграет в ящик.
Ахмета окликнули рослые, интеллигентного вида парни, разделывавшие на пивной бочке вяленого леща. Когда он подошел к ним, парни принялись дружески похлопывать его по плечам. Это не ускользнуло от матроса, и он сразу обмяк, пробормотав что-то.
Ахмет тут же вернулся и, заняв у скрипучего прилавка очередь, сказал:
– Мне довелось работать у Эйзенштейна. У знаменитости киношной. Его к нам эвакуировали, и он снимал фильм про Ивана Грозного. Так я у него декорации малевал, сдельно. И вот с этими пижонами познакомился.
– Наверное, специалисты?
– Если бы! Оформление, прожекторы передвигают. В атаки ходят в «Боевых киносборниках». У них это лучше выходит, чем у фронтовиков. Типичнее.
В Алешиной душе рождалась неприязнь к этим холеным, жизнерадостным парням. Положить бы их хоть под одну настоящую бомбежку! И как бы сразу слетела с них вся напускная интеллигентность, все их пижонство!
Алеша отвернулся от ребят и снова встретился взглядом с рябым матросом. Машинально полез в карман гимнастерки, достал последнюю трешницу.
– Возьми, браток, – отдал ее матросу.
Тот молча рассматривал помятую зеленую бумажку, словно не веря, что это и есть деньги. И вернул трешницу Алеше.
– Мне ведь не милостыня нужна, а душевность, – глухо сказал рябой. – Куда ни придешь, везде тебя обрывают. Мол, знаем мы вас. Опять, мол, шуметь начнете. А почему они так хулят нас, браток? А потому, что хотят стать вровень с нами. Мол, все одинаковые, все воюем: вы – там, на фронте, мы – здесь. Врете, врете, гады! – вдруг закричал он. – Совесть у вас нечистая. На фронт никому дорога не заказана! Если ты патриот, иди туда и воюй!
– Успокойся, – сквозь зубы проговорил Алеша. – Не ты один воевал… И за всех не говори. Лучше посмотри, как люди работают в тылу, как им туго приходится…
Рябой рассмеялся, захрипел и, сильно стукнув костылем в дверь, ушел. За ним подались двое его друзей. На пороге они остановились и кулаками погрозили раздиравшим леща парням.
– А ведь матрос прав, – с тоской проговорил Ахмет. – Я понимаю, что кто-то должен быть и в тылу. Но если ты здесь, снимай шапку перед фронтовиками.
В этот день они долго ходили по улицам. Говорили о войне, о приближающейся победе. Лишь когда стало невыносимо холодно, они разошлись по домам. И Алеша долго думал о картинах, новых замыслах Ахмета, о Вере и Ваньке, а еще об ожесточенном кем-то рябом матросе из «забегаловки».
3
Найти работу оказалось не так просто, как считал поначалу Алеша. Он имел аттестат об окончании десятилетки, но у него не было ни здоровья, ни специальности. На склады и в магазины требовались грузчики. Но куда бы Алеша ни приходил, везде его мерили удивленным взглядом: хромой, с палочкой еле ползает. И даже справки не спрашивали, где Алеша значился инвалидом второй группы. Только смотрели на него и говорили:
– Кого нам было надо, мы уже взяли.
Ходил Алеша и в типографию, которой нужны были ученики в наборный цех. Директор отнесся к нему сочувственно: угостил папиросой, поинтересовался немудреной Алешиной биографией. Казалось, что теперь-то уж все в порядке. Но в конце концов и этот сказал:
– С грамотешкой у тебя нормально. Однако наборщик должен стоять у наборной кассы. А, кроме того, объявление устарело. Приняли мы сколько надо, и даже лишних. К сожалению, – и широко развел руками.
После нескольких дней упорных поисков работы Алеша разозлился и пошел в военкомат. Долго ждал приема у пожилого майора, к которому шли и шли демобилизованные по ранению офицеры. Каждый нес сюда свое горе и свою просьбу. И майор, бывший фронтовик, как только мог, так и помогал им. А если не в силах был помочь, то утешал. И поэтому большинство офицеров выходили из его кабинета умиротворенными. По крайней мере, так показалось Алеше.
Кабинет у майора был маленький. Он скорее походил на коридор: узкий и длинный. Стол и стулья завалены папками с личными делами офицеров. Наверное, у майора, из-за множества посетителей, никак не доходили руки до этих папок, иначе он убрал бы их куда-нибудь с глаз.
Майор встал и вышел из-за стола навстречу Алеше. Он был высок и сутул, на висках густо дымилась седина, а глаза светились отеческой добротой.
– Лейтенант Колобов, – представился Алеша.
– Гвардии лейтенант, – поправил майор, взглянув на Алешину грудь, на которой блестел золотом и алой эмалью гвардейский значок. – Присаживайся, голубчик, и говори, – он подвинул Алеше свободный от папок стул.
Но Алеша не сел. Не собирался он задерживаться здесь, знал, что за дверью тоже ждут другие офицеры. Он сразу же, отведя в сторону взгляд и запинаясь на каждом слове, стал рассказывать о своих неудачах.
– Я ведь согласен на любую работу, – доказывал он.
– Постараюсь что-нибудь найти подходящее. Только ты пойми и завмагов. Им поздоровее народ нужен. А ты, брат, поступай-ка в институт, раз у тебя десятилетка. Ты ведь молодой еще – не то, что я. Очень даже понимаю тебя, голубчик. Сам был в твоем положении, все понимаю. Иного демобилизуют из армии, а он и радуется. Отвоевал свое и едет к семье, к своей работе. А я этого страсть как боялся, что уволят меня в запас. Кочегаром работал на паровозе до армии, вот и вся моя профессия. Давно это было. Теперь же и тяжело у топки стоять – не те годы – и обидно как-то. Все ж пятнадцать лет в армии отбухал, до майора дослужился.
Алеша слушал майора и думал о том, что в общем-то ничего плохого и не случилось. Можно было сходить еще кой-куда по объявлениям. И насчет учебы он правильно говорит.
– Пенсия-то у тебя большая? – участливо звучал голос майора.
– Пятьсот пятьдесят.
– Оно ведь, что пятьсот, что тысяча. Деньги сейчас ничего не стоят. А карточка тебе – полкило хлеба. И на работе будешь получать столько же, – рассудил майор. И он проводил Алешу, улыбаясь и ободряюще подмигивая ему. Не унывай, мол, дружище!
Но как было не унывать, когда семья бедствовала. Картофель и свеклу давно съели, даже для посадки ничего не осталось. Спасибо хоть Тамаре, маленькой Тамарочке, что она иногда приносила с базара овощи. Но Алеша знал, какой ценой они доставались не по годам взрослой сестренке.
С той поры, как умерла бабка Ксения, весь дом держался на Тамаре. А умерла бабка в сорок четвертом. От голода. Она не думала о себе, когда ломала свой кусочек хлеба и половину отдавала Тамарочке. Она не могла поступить иначе, потому что у внучки были вечно голодные глаза.
Но бабка еще бы протянула немного, а может, и выжила бы, не случись несчастье. Тамара ходила в магазин, и у нее вытащили хлебные карточки, все три карточки. А произошло это в самом начале месяца. Страшно было даже подумать, как доживут они до новых карточек.
Дело было летом, и бабка Ксения толкла и варила крапиву. По воскресным дням отец ходил далеко в горы и приносил крохотные, едва завязавшиеся яблоки-дички, их тоже варили. Заведующий складом сжалился над отцом и дал три куска мыла. Мыло обменяли на хлеб и растянули эти жалкие крохи на целую неделю. Когда они кончились, бабка и померла. Последним усилием холодеющей руки она достала из-под себя несколько кубиков хлеба. Это были ее порции за все дни недели, она берегла их для Тамары. Бабка знала, что мыла больше не будет и что нечего поменять на хлеб из тряпья.
Может быть, она и спасла Тамару. Ценою собственной жизни.
После смерти бабки Ксении сестра бросила учиться и поступила работать на обувную фабрику. Подносила заготовки, убирала в цехах. Жить стало полегче. На фабрике была столовая. Кое-что оттуда Тамара приносила отцу.
Работала Тамара и сейчас. Алеше было жаль сестренку, но он ничего не приносил домой сам. Лишь тешил себя надеждой, что устроится на работу, а скоро сажать картошку, и посадит он столько, сколько сумеет купить семян на зарплату и пенсию. Ведь не обязательно сажать картошку целиком, можно резать ее на части. А лето пролетит быстро и, если огород поливать, картошки будет у них вдоволь.
Алеша ждал письма из военкомата, но его все не было. И тогда он вспомнил о Костином отце. Дядя Григорий всегда говорил о своей дружбе с директором, вот он и поможет устроиться. Да и вообще-то пора бы навестить Костиных родителей, узнать, где Костя и что с ним. Эх, и свинтус же ты, Алеша.
И вот снова она, хорошо знакомая улица, мощенная крупными – чуть ли не с голову – булыжинами. Недостроенные хибарки справа и слева. Какими их застала война, такими они и остались: у одних совсем нет крыш, другие – с заколоченными окнами.
Три года не ходил здесь Алеша. Целых три года. И улица не изменилась совсем. А он стал другим. Даже смешно ему от одного воспоминания о том мечтательном, наивном парне, который гонял футбол с Костей и Ваньком, да плановал и запоем читал стихи. Теперь он офицер, инвалид войны. Его полюбила Наташа. Только бы найти ее. А он найдет, непременно найдет!
Алеша по привычке надеялся увидеть Костину мать – тетю Дусю – у калитки. Но ее не было там. И Алеше тревожно подумалось, что это не случайно, что убит тот, кого она ожидала.
Она увидела Алешу в окно и открыла ему дверь. Одна была дома и боялась жуликов. Она всегда их боялась. У нее душа обмирала, когда кто-то рассказывал не только об убийствах, но и о карманных кражах.
– Батюшка мой! – всплеснула сильными, натруженными руками, пропуская Алешу в комнаты. – И какой же ты вырос красавец! Рана у тебя, видать, – показала на Алешину ногу. – Костика-то нашего нигде не встречал? Другие пишут домой, а наш все, наверно, своей барышне Владочке пишет. Да не знаю ее адреса-то, а то бы сходила. Ой, никак я не могу почтальонов видеть! Как подойдет почтальон к калитке, так у меня и сердце оборвется: неужели ко мне с похоронной?..
Тетя Дуся сильно постарела за эти три года. Углы ее рта опустились. На лбу и у глаз на загорелой коже глубже залегли белые морщины. Знать, нелегкой была ее доля.
– Так Костика моего и не встречал? – повторила она.
– Нет, тетя Дуся, – душевно и как бы прося прощения сказал Алеша.
Она перебирала пальцами кисти грубой шерстяной шали, словно считала их.
– Фронт ведь большой, – продолжал Алеша. – Теперь мы научились воевать. Прибавилось техники, и людям стало полегше.
– А ты ведь и не знаешь, что Костика ранило в сорок третьем, в Крыму. Он из госпиталя тогда писал. В голову его осколком…
– Вот как!
– Ты-то давно приехал? А барышню Костикову встречал?..
У тети Дуси была тысяча вопросов, и на каждый из них ей хотелось получить ответ. Она спрашивала и о боях, и о госпиталях, и о пенсиях, и еще о многом-многом, что знал и не знал Алеша.
Она усадила его за стол и принесла из Костиной комнаты черную бутылочку яблочного вина. Налила полный стакан, а на закуску достала из русской печки румяные картофельные лепешки. Только поставила их на стол, прямо в сковородке, и комнату заполонил духмяный запах, от которого у Алеши потекли слюнки. Но он сказал, отодвигая сковородку:
– Вино выпью, а вот этого не хочу. Недавно дома поел.
Однако тетю Дусю провести было трудно. Она понимала, что Алеша боится, как бы ее не оставить без обеда. И проговорила твердо, так, что ее нельзя было ослушаться:
– Ешь. Худой ты, батюшка мой!.. У меня, слава богу, есть картошка. А много ли одной надо!
– Как! А дядя Григорий? Разве он не с вами живет?
Тетя Дуся встала, закрыла печь заслонкой, не спеша подмела тряпкой шесток и сказала без сожаления в голосе:
– Забрали моего злодея в армию. Да хорошо хоть в Ташкент угнали. А то, пока их рота была тут, замучил он меня. Придет домой и начинает куражиться, зло на мне вымещать, что его с брони сняли. Плохо мы живем с ним, Лешенька…
В последних ее словах прозвучала такая боль и невысказанная тоска, что Алеше захотелось как-то утешить тетю Дусю. И он сказал:
– Вот приедет домой Костя, и вам легче будет. Он не даст вас в обиду.
Тетя Дуся расцвела. Недаром Алеша говорил о возвращении ее сына. Значит, уж скоро наступит он, тот счастливый час.
– Верно, что не даст. Теперь с ним не совладать Григорию. Партейный он у меня, Костик-то. А ты? Как же так? Несмелый ты, видать.
Алеша рассмеялся. Непосредственность простой женщины забавляла и умиляла его. И в самом деле, что она понимает в партии! Разве объяснишь ей, что партийность – это ответственность. Перед народом, перед страной. Человек должен быть очень честным, бескорыстным и смелым, чтобы носить партийный билет. Алеша, как о чем-то самом заветном и почти несбыточном, мечтал о вступлении в партию.
Тетя Дуся приглашала заходить еще. Может, Костик все-таки что-нибудь напишет. Дать Алеше его адрес? Но по этому адресу тетя Дуся отправила Косте три письма и не получила ответа.
Алеша так нигде и не устроился. Ему было стыдно, что Тамарочка делает для семьи больше, чем он. Поэтому, получив пенсию, Алеша прямиком пошел на Зеленый базар. Ему хотелось купить что-нибудь из продуктов, чтобы сварить их к вечеру, а когда придет отец с работы, устроить пиршество. Отец тоже страдал, что ничего не может сделать для Тамары, чтоб она училась.
На Зеленом базаре – невероятное скопище людей. Вопреки ожиданию, война не только не ослабила здесь торговлю, но оживила ее. Сюда шли с куском хлеба и котелком картошки, с поношенной гимнастеркой и кирзовыми сапогами, пачкою чая и еще со многим другим. Все это продавалось, менялось, расхваливалось на сотни голосов.
Меж торговыми рядами ходили слепцы с малолетними поводырями, гадалки и просто нищие. Они гнусаво пели жалостливые песни, предсказывали судьбу и тянули грязные и худые руки за милостыней. Понятно, что в это трудное время больше подавали искалеченным на войне. И Алеша видел стариков и старух, одетых в живописное солдатское рванье.
– Подайте несчастным.
– Не оставляйте на погибель.
А у столов, где бабы торговали солеными огурцами и капустой, заливался слезами седой паралитик:
– Ах, что мне делать бедняжечке теперя,
Когда цалует изменчицу другой?
Я сражу ее кинжалом острым
И укрою холодною землей…
Ему бросали в шапку монеты, бросали смятые рублевки. За него кланялась пожилая женщина, очевидно, его жена.
В толпе на Алешино плечо легла чья-то тяжелая рука, оглянулся – рябой матрос. Смотрит прямо в глаза и улыбается. Запомнил, оказывается. Позвал в сторонку, достал папироску из кармана широких клешей.
– Сегодня богатый я, – сказал, чиркая зажигалкой. – Идея, желаю угостить тебя, браток. Как фронтовик фронтовика. Мы-то ведь поневоле друзья. А что я плохого сказал тогда?
– Мне нужно кое-что купить, а потом я приду, – уклонился от приглашения Алеша. Ему не хотелось пить.
– Ну приходи, туда же. Только поспешай, браток.
Алеша еще потолкался по базару. Все было дорого, и он никак не мог решить, что купить. Наконец приценился к пачкам горохового супа в концентрате и уже начал расчет с молоденьким, пугливым ефрейтором. Но к Алеше подошел рослый и плечистый парень в светлой, хорошо отутюженной пиджачной паре. Он шепнул:
– Брось ты. Есть хлебные карточки. По сходной цене.
Алеша возвратил ефрейтору пачки супа и – к парню в штатском:
– Что у тебя?
Парень зыркнул по сторонам, но, очевидно, ничего опасного для себя не заметил, потому что тут же достал из внутреннего кармана пиджака несколько синих и зеленых бумажек. Он показал их Алеше так, чтоб были видны печати на них, и сказал:
– Карточки чистые. Любую можешь написать фамилию. Вот эти – рабочая норма, а эти – иждивенческие, по триста граммов. Какие тебе?
Как кадры в кино, быстро сменяясь, промелькнули в голове образы умершей бабки Ксении, сестренки Тамары, Ахмета. И стало трудно дышать, так трудно, как будто кто-то сдавил его горло.
– Ты где взял карточки, сволочь? – крикнул Алеша, хватая парня за лацканы пиджака.
– Пусти ты! – рванулся тот и поспешно сунул карточки в карман. – Чего пристал, псих!
– Нет, ты мне скажи, где их взял? Кого голодным оставил, шкура?
Вокруг них столпились люди. Парень тянул к ним руки, просил защиты, жаловался:
– Чего он ко мне пристал? Пьяный или сумасшедший! – и пытался разжать Алешины пальцы, все еще цепко державшие его.
– Товарищи, у него целая пачка карточек! – трудно дыша, сказал Алеша. – Хлебных карточек…
И вдруг парень с силой ударил Алешу кулаком в живот. Алеша от резкой боли скорчился, сник, но лацканов не выпустил. Пальцы держались за них так, что, казалось, невозможно их оторвать!
– Пусти! – угрожающе скрипнул зубами парень.
Но Алеша не боялся его. После фронта он ничего не боялся. Алеша ударил лбом в сытое лицо парня. И они оба упали на землю под встревоженный гул толпы.
А через некоторое время их допрашивали в отделении милиции. Дежурный по отделению похвалил Алешу:
– Без таких, как ты, фронтовиков, нам трудно справиться с этими вот жуликами, – сказал он, сурово глядя на парня, крутившего окровавленным носом.
Парень не запирался. Да, он продавал хлебные карточки. Но это карточки семьи. И он требовал, чтобы дежурный немедленно позвонил его отцу!
– Ты не кипятись! – спокойно говорил дежурный. – Позвоним, если надо будет. Ишь ты, он свои карточки продавал. А ешь ты чего, а твоя семья что ест?
– Не ваше дело! Последний раз я требую, чтоб позвонили отцу, – настаивал парень. И к Алеше: – Ты мне еще заплатишь за костюм!
– Жди, получишь!
Когда же Алеша появился в милиции на следующий день, дежурный, который снимал допрос, недовольно сказал:
– Влип я с тобой. Карточки действительно оказались у него свои. А ты в драку полез.
– Папы его испугались? Конечно, он вам наговорит.
– Не болтай лишнего!
4
Алеша хотел повидаться с Марой. Конечно, он понимал, что прежних отношений между ними не будет. Много пролетело времени.
И все-таки Мара была ему нужна. Она была его довоенной юностью. И если даже Мара – придуманная им самим легенда, все равно она близка и дорога Алеше.
Саманного барака, где Мара жила у Жени, не оказалось. Во время одного из обильных летних ливней барак раскис и завалился, и о его обитателях никто в соседних бараках ничего не знал.
Тогда Алеша пошел к Мариной матери. Знакомой тропкой он спустился с горки к арыку, возле которого в прошлогодних стеблях полыни и мальв стояли кряжистые тутовые деревья. Их не срубили на дрова, потому что от них, живых, больше пользы. И, словно в благодарность за это, – они выросли, раздались вширь и дали от корней побеги. А за арыком начинались огороды, разрезанные на участки самой причудливой формы. По межам лежали серые камни, и лишь кое-где поднимались тоненькие прутики тополей. Каждый клочок земли здесь кормил людей.
Как когда-то давно, дверь Алеше открыла мать Мары. На этот раз она приняла Алешу за почтальона. Когда он ступил на порог, протянула к нему дряблую руку.
– Наконец-то пришло. Почитаем, что он пишет. Сколько времени не было весточки! – озабоченно говорила она. – Я думала, он совсем позабыл меня.
Удивленный Алеша намеревался уйти, поняв, что она не в себе. Но женщина, разглядев звезду на пряжке Алешиного ремня, сказала:
– Вы военный, а мне показалось, что почтальон. Я жду письма от Бориса и всех принимаю за почтальона. А вы присядьте на лавку.
Алеша прошел к окну и сел. Он думал, кто же такой Борис. Что-то Мара ничего не говорила о нем.
Алеша вспомнил, что Борисом звали отца Мары. Но ведь он погиб в боях на Дальнем Востоке. Значит, женщина ждет писем, которые никогда не придут.
Ни о чем больше не спрашивая Алешу, она переставила со стола на подоконник жестяную ржавую баночку с табаком, свернула себе самокрутку костлявыми, крючковатыми пальцами, подала клочок газеты Алеше. Он тоже закурил, и некоторое время они молчали, попыхивая крепким, забористым дымом.
– Где живет Мара? – наконец спросил Алеша.
– В море-окияне, на острове Буяне, – одним махом выдохнула она и рассмеялась тоненько, совсем детским голоском. И, как сонная, побрела к своей неприбранной кровати. Ее лицо, зеленое и морщинистее, сильно вытянулось и окаменело.
Алеша повторил вопрос.
Она посмотрела на него долгим и пристальным взглядом, пытаясь вспомнить, где и когда она видела этого человека. Зрачки у нее расширились и остановились. Она качнулась, словно ее кто толкнул сзади, и руки ее упали с коленей и повисли, как веревки.
– Мара живет здесь. Вершинский ее выгнал, хотя она и не признается.
Алеша вскочил. Значит, все-таки вышла за Вершинского…
– Я пошел, – холодно проговорил он.
Выйдя на улицу, Алеша заспешил было домой. И остановился. Нет, он дождется ее. Они поговорят как старые знакомые. Поговорят и разойдутся. Все-таки она всегда хорошо относилась к Алеше. Он будет неблагодарным, если не встретится с Марой. А что касается Вершинского, то она ведь любила его.
Алеша вернулся. В дом он заходить не стал. С крутояра ему было хорошо видно все вокруг.
Он хмуро глядел себе под ноги и думал о том, что скажет Маре. Он не будет ее упрекать. Не к чему это, да и не имел он права на упреки.
Расскажет он ей о Наташе, которая на фронте, среди стольких мужчин, сберегла себя, не потеряла своего достоинства. Да и только ли Наташа такая! Женщина должна быть гордой, если хочет, чтоб ее уважали и ценили.
Мара подошла к нему, по-прежнему красивая, нарядно одетая. Она узнала Алешу и бросилась обнимать и целовать его в губы, щеки, в шею, не стесняясь прохожих. Целовала и роняла крупные горошины слез.
– Милый, милый, милый, – твердила она, целуя его.
Ему было стыдно. Вот пялятся в окна люди, смеются над ним.
– Приехал, милый. Живой! Я часто видела тебя во сне и все почему-то маленьким-маленьким. И ты просился ко мне на руки, – частила она. – Ты подожди минуточку, я занесу домой вот эту сумку, и мы погуляем с тобой и поговорим вдоволь. Ладно? Ну вот и прекрасно, мой родной, мой милый Алешенька!..
Взволнованный встречей, Алеша восторженно смотрел вслед Маре.
Когда Мара снова оказалась с ним рядом, Алеша сказал:
– Ты такая же, как была. Даже лучше.
– Нет, совсем не такая, – покачала она головой.
Мара взяла Алешу под руку, и они неторопливо пошли мимо изб и садов, в которых копошились люди. Мара светло улыбалась, поглядывая то на Алешу, то на сады, то на высокое безоблачное небо. Ее карие, цыганские глаза отсвечивали голубым, а ее плечо прижималось к Алешиному плечу.
Так долго шли они молча, перебрасываясь лишь совсем незначительными словами о ранней и теплой весне, о пыльных улицах и еще о чем-то, что сразу же забывалось. О прожитом говорить не хотелось. Ничего стоящего, как казалось им, в их прошлом не было. И все-таки они чувствовали, что ничего не сказать о трудных годах они не смогут, что разговор на эту тему лишь откладывается ими до какого-то момента, но что он обязательно состоится сегодня.
– Ты заходил к нам, в дом? – неожиданно спросила Мара, когда они вышли к вокзалу и зашагали по асфальту вдоль трамвайной линии. – Там мать. Она больная. Больше года держали ее в психиатрической. Стало лучше, но иногда заговаривается. Такую немыслимую ерунду несет, что ничего не поймешь.
– Да, это заметно, – согласился он, глядя, как гаснет ее красивое лицо.
– Конечно, она тебе жаловалась на меня, что я редко бываю дома. Иногда сплю прямо в цехе, когда выполняем срочные заказы фронта. Я теперь на заводе работаю… Или про Вершинского говорила? Она не любит его. Да, я ведь была замужем. За талантливым артистом, любимцем публики, которому на каждом спектакле подносят цветы, корзины цветов. Я ведь дура, без ума от него была. Броситься под поезд хотела. А он оказался пошляком и развратником. И в жизни притворялся, играл в благородство. Козявка жила страстью Отелло! Боже мой, страшно вспомнить, как это было все гадко!.. Сначала я исполняла некоторые его прихоти, гордостью своей поступилась, потому что жить с ним надеялась. Думала, что это привяжет его ко мне. А он стал издеваться над моими чувствами. Ужасно и мерзко… И я ушла от него. Вот так, Алешенька…
– У тебя ведь был еще один знакомый… – не поднимая глаз, сказал Алеша.
– Опер? Он на фронте. Почти до сорок четвертого писал, а потом как отрезало. Я его не любила. Из озорства дружила с ним. Жизни красивой хотелось, необыкновенной. Песням и пляскам цыганским выучилась. Помнишь? – она скривила губы в слабой вымученной улыбке.
– Конечно, помню.
– А это правда, насчет снов. И снился ты мне потому, что думала о тебе, боялась, как бы тебя не убили. О тебе на заводе все мои подруги знают, и все в тебя влюблены по моим рассказам. А делаем мы снаряды. Сутками на работе без отдыха.
– Перехваливаешь ты меня, – пробормотал Алеша.
Эти его слова как бы подхлестнули ее. Она принялась вспоминать все свои встречи с Алешей. Она хорошо помнила каждую деталь, и Алеша понял, какой всеочищающей была для нее их дружба.
– А теперь расскажи о себе, – попросила она. – Ты немцев видел?
– Конечно.
– Живых? Я даже не могу представить что за люди фашисты. Да как их только называют людьми! А много наших убито? И чего я спрашиваю? Много, если столько идет похоронных. Я не знала, где ты живешь, а то бы пришла к твоим узнать, живой ли ты, – она дернула его за рукав, остановила. Ей очень хотелось еще раз взглянуть в его светлые и усталые глаза.
– Я почти не писал домой. Особенно с фронта, – сказал Алеша.
– Ты трусил хоть один раз? Или ты мне не скажешь правду? Однако, все трусят вначале.
– Да, жутковато под бомбежками, – признался Алеша.
– И зачем эти войны, – в раздумье сказала она, ускоряя шаг. – Разве нельзя без них? Скажи, ты ведь умный, все понимаешь.
– Кто его знает! – уклончиво ответил Алеша. – Как бы чудесно было, чтоб навсегда мир. Вместо оружия, чтоб люди делали трамваи, автомобили. Растопили бы льды на севере, и тундру засеяли пшеницей. И росли бы у нас тогда по всей стране пальмы и ананасы.
– А ты будешь ко мне приходить, Алешенька? Мне трудно одной. Хоть иногда приходи.
– Если найду время. Я собираюсь на работу. Хочу где-нибудь пристроиться, – сказал он и после некоторого молчания добавил: – А то в Сибирь уеду, где служил.
– Но там ведь холодно.
– Не очень. Я привык.
Она снова остановилась и придержала его:
– Скажи, Алешенька, честно… Нравлюсь я тебе?
– У меня есть другая.
– Я ведь не замуж напрашиваюсь, – сухо произнесла Мара. – Куда мне замуж! Если только ты согласишься, я… так просто… твоей… буду… И никого мне больше не нужно! Нравлюсь?
– Да, ты хорошая, Мара.
Взгляд ее ожил, и она сказала:
– Теперь дай мне руку, – она взяла его руку и сунула себе в вырез платья.
Заметив людей на тротуаре, Алеша тихонько высвободил руку. А Мара по-своему поняла этот жест.
– Значит, не нравлюсь?.. Я не сержусь, Алешенька. Может, ты и прав, что не хочешь меня, после Вершинского. Потом ведь ты идешь со мной, а думаешь о ней. Я чувствую это…
Он проводил Мару, дав себе слово никогда больше не бывать у нее.
Мысль о поездке в Сибирь, которую он высказал совершенно случайно, с каждым днем все больше преследовала его.
«Уеду в Красноярск. Спишусь с Ваньком и уеду. По крайней мере, не буду сидеть на иждивении отца и Тамары. Нужно обязательно поговорить с отцом. Сколько уж времени живу дома, а не говорил толком. Отец посоветует, как лучше поступить».
Алеша не мог мириться с людской подлостью. Подлость, она даже формулу себе выдумала оправдательную: «Война все спишет». Делай, мол, что хочешь, живи, как хочешь, без оглядки.
Алеша всегда считал, что подлецов нужно выводить на чистую воду. Но вот он попытался уличить жулика, и ничего не получилось. У жулика нашлось оправдание. Жулика не возьмешь голыми руками.
И все же нужно бороться. Что и говорить, трудно Алеше в этой борьбе. Он ведь один на один с таким зубром. А если бы партийным был Алеша? Или работал в газете? Тогда он показал бы жулику! Он написал бы фельетон в стихах, который читала бы вся республика, а может, даже и вся страна.






