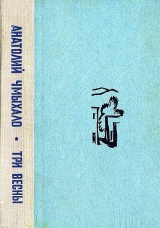
Текст книги "Три весны"
Автор книги: Анатолий Чмыхало
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
А Лариса Федоровна пунцово вспыхнула и, призвав класс к порядку, сказала:
– Колобов прав. Пусть будет Вера.
Что и говорить, обиделась тогда Лариса Федоровна. В тот вечер она старалась совсем не смотреть в сторону Алеши. Да, не подумал он, а больше виновата Вера. Конечно, Вера равнодушна к нему, как все другие девчонки в классе, совершенно не замечает его. Вере нравился Сема Ротштейн. Он альпинист, хорошо ходит по горам на лыжах. Но это ведь еще не все, этого ведь так мало для человека, чтоб его уважать…
Лариса Федоровна захлопнула журнал и встала. Поправляя руками прическу, прошлась до двери, повернулась, оперлась спиной о косяк. Затем пристально посмотрела на Алешу:
– Колобов, зачем ты пошел в училище?
Он не понял вопроса. Может быть, она спросила его, зачем ехать в такое училище, которое расформировалось. Может, она хочет услышать, почему он поступил так, а не иначе. Или она вообще против военного образования?
– Я вас не понял.
– В тебе нет военной косточки.
– Вы так думаете?
– Абсолютно уверена.
– Ну, а если война?
– Война – другое дело. Тогда и пойдешь на фронт, вместе со всеми.
– Я как-то не думал об этом. В училище всем хотелось. Не отставать же мне от ребят. А получилось, что взяли именно меня.
– Я рада, что ты вернулся. Кончай десятилетку, Алеша, – и она снова прошлась по классу от стены до стены.
Васька, игравший слугу Луку, и Вера пришли почти одновременно. Сделали выгородки: стол вплотную придвинули к доске, вместо дивана поставили стул, а вместо комода – парту. Вера закрутила свои большие черные косы в тугой клубок на затылке и заколола его длиннозубым роговым гребнем. Предполагалось, что это приблизит ее к образу.
Репетиция шла гладко. С первой же сцены Васька стал «откалывать» такого Луку, что Лариса Федоровна диву далась: натуральный старик. Вот только голос надо несколько приглушить.
– И, пожалуйста, певуче, по-стариковски.
– Это можно, – ответил Васька, но тут же переборщил. Речь Луки походила теперь на глухое рычание растревоженного зверя. В дополнение ко всему Васька делал совершенно свирепую, кровожадную гримасу.
– Помягче, – подсказала ему Вера. – Лука – верный слуга мой. А ты почему-то хочешь меня съесть.
Алеше не давалась никак сцена дуэли. И даже не вся сцена, а финал, когда «Медведь» целует вдовушку. Получалось как-то сухо и фальшиво.
– Ну кто так целует! – искренне возмутилась Вера. – Он совсем не умеет целоваться.
Лариса Федоровна смущенно засмеялась:
– Ну что делать! Давайте повторим заключительный момент.
– Другие-то ведь умеют, – старческим голосом сказал Васька. – А мы не горазды…
– Да дома тебя кто-нибудь целовал? – все еще раздражаясь, спросила Вера.
– Чего ты ко мне пристала! – поморщился Алеша и вдруг взорвался: – Не могу! И не хочу учиться! И не нужна мне эта роль! Берите кого-нибудь другого.
Васька схватил Алешу за руку, чтобы тот не сбежал:
– Брось трепыхаться. Почему-то я не сержусь, когда меня гоняют. Ну, поцелуй ты ее покрепче! Пусть отвяжется.
– Становись сюда, а я вот так. Обними меня, ну! И целуй, – учила Вера. – Правильно ведь, Лариса Федоровна?
– Пожалуй. Только подойди поближе, Колобов. Начали! – сказала Лариса Федоровна. – Да ты уже влюблен в нее. Влю-блен!
Алеша покорно приблизился к Вере. Дрогнувшей рукой обнял ее за податливую талию, и Вера потянулась к нему. И он увидел совсем рядом ее алые губы, и поцеловал их.
Алеша решил, что Вера рассердится, даст ему пощечину. Нужно было как-то по-иному, может, совсем не в губы. Но Вера искренне удивилась Алешиной смелости и кокетливо, совсем как помещица-вдовушка, проговорила:
– Это уже ничего. Мне кажется, что ты понемногу входишь в образ.
Лариса Федоровна сдержанно рассмеялась, но не сказала ни слова. Они тут же начали репетировать все сначала.
А когда Алеша поздно вечером шел домой, он всю дорогу думал о непостижимой загадке любви и об этих в общем-то неумелых поцелуях. И было жаль, что все это только на репетиции. И если бы барина играл не Алеша, а кто-то другой, то он бы, этот другой, и целовал Веру.
А Семка, тот целует ее совсем не так. Ведь она дружит с ним. Значит, нравится он Вере. Ну и пусть нравится!..
Эх, если бы Вера полюбила Алешу! Но она почему-то не видит в нем взрослого парня, с которым можно дружить. Алеша же робеет, теряется перед ней. Даже когда целовал ее на репетиции и то терялся. И сердился-то он на нее и на Ваську из-за своей робости.
А ночью родились строчки:
Там, где шумит ручей, срываясь с кручи,
Где серый снег не тает всю весну,
Обнявши крепко стройную сосну,
Стоит на склоне сопки дуб могучий…
И ничего здесь Алеша не выдумал. И Костя знает, и Ванек знает, что есть такой дуб у Головного арыка. Сильный, кряжистый. Обнимает дуб своими литыми ветвями, как руками, молодую красавицу-сосенку. И она нежно, совсем как невеста, прижалась к нему.
Не мыслимо им счастье по-иному,
И заглянул я в прошлое с тоской:
Могли б и мы расти, как дуб с сосной,
Но ты ушла, любимая, к другому.
Стихотворение было написано. Короткое и, как казалось, очень точное. Это ни какой-то мистический пальчик, ни отвлеченная символика. Это – лирика. Крик тоскующей по любви Алешиной души, хотя и не все в стихах нравилось Алеше. Ну, грусть, положим, пусть остается. Тут без нее никак не обойтись, но слова о прошлом надо убрать. Не такое уж у Алеши прошлое, чтобы в него заглядывать. Может быть, «и я невольно вспомнил нас с тобой?». Вряд ли. Ее-то, конечно, почему бы и не вспомнить, но как вспоминать себя? Нет, лучше будет так:
Не мыслимо им счастье по-иному,
И я подумал о тебе с тоской:
Могли б и мы расти, как дуб с сосной,
Но ты себя доверила другому.
И удовлетворенный Алеша уснул. И снился ему странный сон. Не репетиция и не поцелуи. И ни Костя, и никто другой из друзей. А строгий сержант Шашкин, которого отправили теперь снова в кавалерию. Рупь-полтора поставил Шашкину «плохо» за непорядок в карантине, а историк Федя экзаменовал сержанта по царствованию римских кесарей. Шашкин не ответил Феде. Откуда Шашкину знать о давно минувших веках и народах! Шашкин выучил лишь «ать-два», а то и этого толком не знает.
Затем уже не Алеша с Ильей, а все тот же Шашкин носил воду в решете иль ушате. И вода шумно плескалась, и он ее пригоршнями собирал на земле, тяжелую и всю светлыми шариками, как ртуть.
Радужным, росным утром, когда теплое солнце встало над тополями, Алеша тихонько постучал в окно Косте. Тот заскрипел койкой и тут же вышел во двор.
Алеша не мог подолгу сердиться на людей. Помирился он и с Костей в первый же день, когда снова пришел в школу.
Сейчас он с ходу прочитал стихи. И они прозвучали откровением. Алеша уже придумал для них довольно точное определение: поэтическая формула неразделенной любви. Так в журналах всегда пишут критики, когда их что-нибудь вдруг хватает за сердце. Разумеется, слова у критиков умные, изысканные, критики обязательно ввертывают что-то замысловатое, без этого они не могут никак.
– Вещь, – протянул Костя. – Чувствуется…
– Вот именно. Жизненный опыт, – с явной торопливостью подсказал Алеша. – И еще проникновение автора в сокровенные тайники экзальтированной человеческой души. Так, что ли?
– Критики – гады. Их, пожалуй, нужно расстреливать, как Суворов советовал поступать с интендантами. Покритиковал пару лет и – к стенке! Без суда и следствия! Наверняка за это время ухлопает, да еще и ни одного, поэта.
– Верно, – охотно согласился Алеша и вдруг спросил: – А как у тебя с Владой?
– Поругались. На этот раз навеки. С меня хватит!
– Может, передумаешь? Я ведь тебя знаю, – сказал Алеша, втайне радуясь очередной размолвке между Костей и Владой.
– Нет, теперь – ни за что на свете!
– Так уж и ни за что!
Не сговариваясь, они пошли к Ваньку. Это было почти рядом, всего каких-то две улицы перейти. У Ванька есть настоящий футбольный мяч, а возле Ванька, между домом и железной дорогой, – пустырь, где можно свободно поиграть: ни воды близко, ни окон.
По пути Алеша подробно, с юморком рассказывал о злополучной поездке в Ташкент. Костя то поддакивал, то возмущался, весело смеясь и вспоминая что-то свое. И ни капли не сердился он на Илью, словно они всегда были закадычными, искренними друзьями. Алеша не очень понимал, что же это. Если Костя в самом деле любил Владу, то не мог он ее усту пить Илье. А если не любил, то зачем столько трагических переживаний? Разве что для стихов о несчастной любви? Жалостливые стихи почему-то больше нравятся и себе, и людям. Особенно те, что с надрывом, со слезой.
К Ванькову кряжистому дому они подходили в обнимку. И Ванек приметил их в окно за целый квартал. Он выскочил на пустырь в черных сатиновых трусах до колен, в бутсах и сильно пробил мяч ребятам. Костя рванулся ему навстречу, ловко, как пушинку, поймал мяч, подбросил его и принял на голову, на свою лопоухую умную голову. Ванек пружинисто запрыгал на месте, как это делают, разминаясь, футболисты. Затем нагнулся, стал поправлять шнуровку на бутсах:
– Живем, робя! Отец дает коня на две ездки. По воскресеньям. Будем возить саксаул и пить пиво!
– Не врешь? Вот это да! – Алеша от удивления раскрыл рот.
– Нас опять продаст Костя. Ты ему, Алеш, как человеку сказал, а он… Ну чего на меня зенки уставил? Ты рассказал Петеру про ресторан? – наступал Ванек на Костю.
– Да ты что! – не на шутку вспылил Костя.
– Ты продал!
– Подожди, Ванек. Это не он, – становясь между ними, сказал Алеша.
– А я знаю кто! Точно знаю!
– Кто?
– Вас продал Федя! – озаренный внезапной догадкой, выпалил Костя. – Он!
– Ерунда! Ни за что не поверю! Нет, – убежденно возразил Алеша. – Федор Ипатьевич ненавидит доносчиков, он правдивый человек.
– Все это так. Только вы послушайте. Федя – старый друг Петерова отца. Они запросто с Петером. Федя мог все рассказать Петеру от чистого сердца, а тот дело завел.
– Он не любит Петера. Не откровенничает с ним, – снова, еще решительнее, возразил Алеша.
11
Урок военного дела был общим для двух десятых классов. В небольшом школьном тире, недавно построенном ребятами, учились стрельбе из мелкокалиберки. Пахло порохом. С короткими перерывами тонко и протяжно похлестывали выстрелы да раздавался сухой старческий кашель много курившего военрука.
Всякий раз на линию огня выходило по четыре человека, а остальные тесной группой стояли метрах в пяти позади и молча наблюдали за стрельбой. Если же кто-нибудь заговаривал в полный голос, военрук исподлобья строго смотрел в толпу, выискивая виновника. А когда находил, командовал «молчать!» и грозился доложить об этом директору школы. Но, на счастье ребят, военрук страдал склерозом и о своей угрозе тут же забывал.
В тир пришел историк Федя. Все знали давно: когда Гладышев был свободен от урока и слышал стрельбу, он не выдерживал этого соблазна. Он давал здесь ребятам советы. Военрук иногда сурово хмурил брови, слушал Федю, но из уважения ничего не говорил.
Вот и сейчас, пока смотрели мишени, Федя, размахивая руками, торопливо рассказывал Илье Туманову:
– В тире стрелять можно. Здесь бьешь с упора. А попробуй ударить на полном скаку. Ряз, ряз, ряз!
– И попада́ли? – спросил Илья.
– А если бы мы, мой юный друг, не попада́ли, то не было бы и Советской власти. У Петькина отца…
Петер сурово покосился на Федю, отошел в сторону. Но Федя продолжал, как ни в чем не бывало:
– У Петькина отца был новенький английский карабин. Он его в бою добыл, когда Султанбека к границе гнали. Прыткий был такой Султанбек-курбаши, что дикая кошка, а бороду носил кучерявую и красную, как огонь…
Заметив явное недовольство Петера, Федя смолк, повернулся и, не спеша, подался в школу, сникший, словно трава под набежавшим вдруг ветром.
Всем стало не по себе. Ребята косо посмотрели на Петера. Федя – справедливый и смелый человек. И он что-то знает про Петерова отца, что неизвестно никому. Может, и в самом деле Петеров отец совсем не виноват.
«Нет, Федя ничего не мог сказать Петеру о ресторане!» – с благодарностью думал об учителе Алеша.
– Слушай… А мне не нравится… – сказал Ахмет и потянул Алешу за руку. Они протиснулись к двери и выскользнули из тира.
Ахмет не договорил, что ему не нравится. Но Алеша понял, что это он о Петере.
– И все равно нельзя вот так. Ну пусть Федя друг его отца, что ж из этого? – горячился Ахмет. На его смуглом лице снова проступил нездоровый румянец.
Ребята прошлись по школьному двору до одиноко росшей у забора худосочной яблоньки и сели на лежавшую под нею запыленную гранитную глыбу. Камень в тени жег холодом, и Ахмет тут же привстал. Ему нельзя остывать, так, по крайней мере, говорили Ахмету врачи.
– Скоро кончится урок, – показал Алеша на выходившие во двор окна второго этажа. И увидел, как в одном из них мелькнула круглая Федина голова. И взгляд у Феди был потерянный, а бесцветные губы плотно сжаты.
– Мой шеф никогда не прорисовывает неба. У него и пейзажи без неба. В лучшем случае серая полоска – и ничего больше, – сказал Ахмет. – А я когда-нибудь напишу небо. Яркое, сочное, утреннее небо весны. Майское небо.
– Ты нарисуешь, – согласился Алеша.
– У меня будет все наоборот. Только небо.
– Только небо, – задумчиво подтвердил Алеша.
– Да, – вздохнул Ахмет, и тут же лицо его оживилось. Алеша ценил в Ахмете его скромность. И еще дьявольское упорство в работе.
– Я не портретист, – сказал Ахмет. – Но у меня есть один давний замысел. Сила! Только мне нужны натурщики. Надо работать над этюдами, без них я не напишу картины. Это тема борьбы, тема гнева и презрения к врагу. Я говорил шефу. Ему очень нравится, и он даже обещает заплатить натурщикам. А я не хочу, чтобы он тратился. Он и так живет трудно.
– Я помогу тебе. Возьмешь? Чем не натурщик? И еще можно поговорить с Ваньком и с Костей. Я сам поговорю, если хочешь.
– Спасибо! – обрадовался Ахмет. – Это здорово. Мне троих и надо. Понимаешь, на фоне скалистых гор, на закате, три фигуры у ямы. Как изваяния. Через секунду они должны погибнуть. И лиц совершенно не видно – одни затылки. И руки, руки… Понимаешь? В руках все: и прошлое людей, и их души.
– Руки? Слушай, да это же гениально, Ахметка! Ты сам не понимаешь, какая это находка!
– Еще не находка, – медленно поведя головой, возразил Ахмет. – Но найду. Там, на натуре.
На высоком, почти квадратном лбу Ахмета пролегли морщинки: две тоненькие и гибкие, как волоски.
– Куда пойдем? – деловито спросил Алеша.
– В горы. В воскресенье. Возьмем с собой обед и двинем на целый день. К дачам. Там есть одна рощица у речки. Ты видел мой «Обрыв»?
– Да.
– Там рисовал. А «Морену» видел?
– Спрашиваешь!
– И ее там. Везучее место! Сила!
А вечером того же дня, когда ребята возвращались из школы, Алеша читал блоковских «Поэтов»:
За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой…
Стихи почти наизусть знали Костя и Ванек. И все-таки удивились им, словно слышали в новинку. И была в стихах правда о топком болоте, как две капли воды похожем на то самое болото, на котором вырос Шанхай. И жили там поэты Алеша и Костя, пусть пока что ве́домые одному лишь Ваньку. А слава, она так, пожалуй, и начинается: с маленького признания близкими. Они первые слышат или видят твое еще не совсем совершенное творение. Ведь точно так и открыли Ахмета в школе. Дом пионеров был уже потом, почти год спустя, а сперва Ахмет рисовал лишь заголовки к заметкам в школьной стенгазете.
– Ребята, поможем Ахметке? – спросил Алеша.
– А что у него? – остановился Костя.
Алеша рассказал. И Ванек, шмыгнув облупленным носом, проговорил:
– Чего уж там, я люблю искусство…
Ребята рассмеялись. Надо ли было доказывать, что Ванек ничего не понимал в живописи! Да Ванек и знал-то ее лишь по яркому рекламному щиту «Берегите детей от пожара», что стоял на одной из улиц по пути в школу.
– Я люблю искусство, – неуверенно повторил Ванек. – Но у меня в воскресенье две ездки с саксаулом.
– Я готов. А Ванек пусть ездит. Он соблюдает и наши интересы, – рассудил Костя. – На заработанные деньги мы можем купить новый футбольный мяч.
– Нет, давайте уж так: никаких ездок! – решительно проговорил Алеша.
– Я вожу саксаул! Мне нужны деньги и не только на мяч, – уперся Ванек. – Две ездки – это тридцать целковых!
Делать было нечего: вместо Ванька Алеша решил пригласить Ваську Панкова. И назавтра сказал Ваське об этом. Тот сразу же согласился. Подумаешь, работа – позировать Ахметке! Да для него Ваське ничего не жаль.
А в воскресенье утром они вчетвером шагали в горы. Чтобы попасть на ту речку, нужно было отмерить километров около пяти по улицам города, выйти к обросшему столетними карагачами Головному арыку, а затем еще столько же идти мимо глухо погромыхивающей колесами мельницы «Смычка», которая издали походила на древний рыцарский замок, мимо цветущих колхозных садов, которые в эту пору года никто не караулил.
Было тепло, и над тротуарами плыл густой запах лопающихся тополиных почек. А на газонах щетинилась малахитовая трава, и веселые люди с лопатами и граблями рыхлили почву. Люди скоро насадят здесь множество цветов, и все лето горожане будут любоваться разноцветием клумб.
Ахмет шел впереди и широко улыбался родившемуся за горами погожему дню. Ахмет всегда улыбался тому, что очень нравилось. Такое уж у Ахмета сердце.
Алеша и Костя, стараясь не отставать, вышагивали следом. А Васька тащился позади всех, пошаркивая подошвами башмаков по ноздреватому булыжнику и беззаботно посвистывая.
Осилив трудную половину пути, что пролегала по городу, у Головного арыка присели отдохнуть. Ослепительно горели под солнцем вершины гор, одетые синеватым снегом, золотисто светились мазанки и дувалы, и ребята невольно щурились от яркого света, поглядывая вокруг себя. Это тоже была окраина, но она ничуть не походила на Шанхай. Она лежала в клокочущей пене яблоневых и вишневых садов, в непролазных зарослях барбариса и малины. Здесь начинались дома отдыха и дачи, которые тянулись далеко вверх по ущелью.
Васька достал из ситцевой сумки булку хлеба и, ни с кем не советуясь, принялся ее делить. Он дважды привычно провел по ней острым, кривым ножом, и распалась булка на четыре равные части.
Он как бы нехотя протянул Ахмету кусок хлеба, но тот лишь качнул головой:
– Сам и ешь. А мы потерпим. До вечера успеем вот как проголодаться, – ребром ладони Ахмет черкнул себя по горлу. – Верно, ребята?
Васька сбросил хлеб, все четыре куска, в сумку, хмурый, явно недовольный ребятами. И поднялся с бровки арыка, чтобы идти дальше, но вспомнил о мольберте и сердито вырвал его у Ахмета.
Тропка побежала меж огромных валунов. Лобастые глыбы величиной с избушку время от времени преграждали путь. Их принесло сюда бурным, могучим селем. Случилось это еще в двадцатые годы, а сейчас тоже поговаривали, что летом, когда особенно жарко и в горах быстро тают ледники, может образоваться и вырваться на равнину новый селевой поток.
Чем выше забиралась в горы тропка, тем камни были крупнее, тем их было больше. И когда вдруг вышли к реке, то оказались со всех сторон окруженными наползавшими друг на друга гигантскими каменными черепахами. Но Ахмет, прыгая с камня на камень, как горный козел, продираясь через колючие заросли дикой яблони, барбариса и боярки, вывел друзей точно на зеленую полянку, почти круглой формы, шагов пятьдесят в диаметре.
– Надо было взять карты, – сказал Васька, через голову снимая с себя синюю фланелевую куртку. – Тут бы и поиграли. Ну раз карт нет, давайте загорать.
В горах стояла первозданная, немного загадочная тишина. Лишь быстрая река шумела однообразно и непокорно. Реке хотелось поскорее на неоглядный простор степи, и она так спешила, что на перекатах меж камней там и сям вскипали шелковистые буруны.
Ребята молча наблюдали за Ахметом, как он устраивался в центре поляны. Вот установил мольберт, достал из ящичка, фанерного, пестревшего немыслимыми цветами, палитру и кисти и принялся терпеливо колдовать над красками. Он любил эти минуты, предшествовавшие работе. Они доставляли ему не меньше удовольствия, чем сама работа.
Ахмет уже был знаменитостью, и в будущем у него было все определено. Как настоящий, большой талант, он понимал свое истинное призвание.
– А я уеду в Китай. Я узнаю имя того глупого богдыхана! – вслух подумал Васька.
– Кого?
– А того, который позволил рубить людям руки, который отбросил цивилизацию на много веков назад.
Ахмет поднял удивленное широкоскулое лицо:
– Ты о чем это, Вася?
– А вы слышали, что такое дактилоскопия? – спросил Васька с достоинством всезнающего экзаменатора.
– А то как же! Пальцы в мастику и на бумагу, – не задумываясь, ответил Алеша.
– Так этот метод изобретен в Китае еще во времена Суньской династии. А теперь за кражу рубят руки.
Ахмет засмеялся, подернул угловатым плечом.
– Кто это тебе сказал насчет рук?
– Я все знаю, – протянул Васька. – Только с языком немного слабовато. Особенно по-китайски: ни звука.
– Да ты всерьез, что ли? – недоверчиво спросил Костя. – Махнешь в Китай?
– Махну.
«Все это, конечно, Васькина фантазия, игра, – думал Алеша. – Надо же ему потрепаться о чем-нибудь – вот и выбрал себе подходящую тему. В путешественники метит. А чего Ваське там делать? Пусти такого, так еще попадет в лапы вражеских разведок».
А Васька, видно, потому и треплется про Китай, что о Пржевальском и Козлове прочитал. А про дактилоскопию – чтобы больше пыли пустить в глаза. Но где-то ведь вычитал такое!
– Ну, к примеру, тебе повезет. Ты откроешь, кто первый стал рубить руки, – сказал Алеша. – А кому это нужно?
– Науке. А кому нужно, когда копают курганы? – огрызнулся Васька, тряхнув копною волос.
– Там другое дело. Там поднимают пласты истории, – авторитетно рассудил Костя. – Именно пласты!
– Но тут погибла целая цивилизация! – не сдавался Васька.
– Ерунда! – безразлично проговорил Алеша, садясь на корточки рядом с Ахметом.
Васька вконец разозлился, взмахнул руками:
– Я вам докажу! И может, дело совсем не в отрубленных руках.
– В Кульдже мы жили рядом с лудильщиком. Он котлы и тазы лудил. А еще собирал дикие травы, и мы ему помогали, – вспомнил Ахмет. – Он часто бывал у нас дома, лечил отца. Но отец простудился и умер…
– Я возьму адрес твоего лудильщика и зашифрую его, а цифры выколю у себя на груди. И я найду лудильщика, и он мне поможет узнать многовековые тайны безлюдной пустыни Гоби.
Последние слова Васька проговорил с пафосом, совсем как в приключенческой книжке. И Алеша рассмеялся. Васька обжег его сердитым взглядом и отвернулся.
Ахмет порылся в карманах и достал несколько метровых бечевок. Это были самые обыкновенные бечевки, на которых женщины сушат белье во дворах, не очень толстые и абсолютно белые. Если их натянуть как следует, то они разлезутся – уже сопрели.
Но Ахмет смотрел на эти бечевки, как на что-то особенное, непонятное для других, а ему хорошо известное. Было похоже, что сейчас Ахмет покажет фокус. В цирке из таких же вот веревок делают и змей, и шпаги, и букеты цветов.
– Теперь идите сюда, – позвал Ахмет. – Я хочу рассказать вам о своем замысле. Может, у меня ничего и не выйдет. Да. Чаще всего бывает именно так. Искусство – это танец на острие бритвы, как любит говорить шеф. Сумеешь протанцевать задуманное – значит, победил – создал что-то нужное людям. Не сумеешь – что ж, видно, кишка тонка, и быть тебе заурядным богомазом.
– Говори, – качнул головой Костя.
– Я хочу написать борца…
– Пиши с меня! – с легкой усмешкой оглядел себя и друзей Алеша. – Я больше их похож на Поддубного. А вообще-то всех надо сложить и умножить на четыре. Тогда будет один борец.
– Мне не нужен Поддубный… Даже наоборот, – сказал Ахмет. – Я хочу показать силу духа. Поняли?
– Но ведь в здоровом теле – здоровый дух, – сказал Костя.
Ахмет задумался, почесал висок:
– Ладно! Сейчас я ничего не скажу. Потом увидите. Давайте-ка, становитесь ко мне спиной.
Ахмету нравилось интриговать ребят. Он, не вдаваясь в пространные объяснения, связал бечевками за спиной руки всем троим и долго приглядывался к группе. Он отходил на край поляны, к колючим кустам шиповника, и подходил к ребятам, переставлял их местами. А они добросовестно выполняли его команды. Им было интересно участвовать в этой, пока еще не совсем им понятной, затее. В душе они были, в сущности, обыкновенными мальчишками.
– Теперь становитесь на колени в одну шеренгу, – тоном приказа сказал Ахмет. – Леша – справа, Костя – посредине. И представьте, что вас вывели на расстрел. И вам остались лишь какие-то мгновения. Да становитесь же! Вот тут, у этого камня. Будто перед вами разверзнута яма. Раздастся залп – и вы упадете туда! В самую яму… На дно…
– Я этого не хочу, – в шутку запротестовал Алеша, поглядывая на Ахмета через плечо.
– Я – тоже, – сказал Васька. – И у меня чешется лоб. Почеши, пожалуйста.
– Ладно уж, – уговаривал его Ахмет. – Потерпи.
И только один Костя молча ждал своей участи. И оказалось, что именно его руки больше всего пришлись по душе Ахмету. Они у Кости мускулистые, а ладони – широкие, как лопаты.
Конечно, Алеша и Васька должны были протестовать. Но их опередил Ахмет. Он объяснил ребятам, что Костины руки, сами по себе еще ничего не значат. Только другие руки – Алешины и Васькины – на картине могут придать им вес.
– Почему Федя не поставит на место Петера, черт возьми! – вдруг ни с того ни с сего мрачно сказал Ахмет.
12
Ванек не был комсомольцем. Он считал, что в его положении есть немалые преимущества: не ходить на собрания, наконец, не получать выговоров по комсомольской линии. С него вполне хватало «неудов» и замечаний учителей.
Провожая Алешу на собрание, Ванек, хитро играя глазами и морща нос, нашептывал:
– Пусть они не шибко там… А ты говори, что нигде не были. Вот и все. И стой на своем. Это они тебя на пушку берут. Может, слышали звон, да не знают, где он. А ты, Алеш, не переживай. Мы уже не маленькие! Мы можем сегодня же нырнуть туда еще, – и он достал из кармана брюк свернутые в трубочку две новые десятки. – Гроши есть, понял?.. Я никуда не иду. Я тебя ждать буду у раздевалки.
Алеша ничего не ответил. Это была какая-то бессмыслица. Зашли в ресторан. Ну и что? Почему его должны обсуждать сегодня? Пьяным Алеша не был. Он выпил всего стакан пива. Это же смешно: стакан пива – десятикласснику! Впрочем, об этом говорить совсем не обязательно. Можно сказать, что воды напиться зашел газированной, морсу. Нет, Алеша не будет врать, он признается во всем, он – комсомолец. Только о Феде умолчит.
А если Петер знает, что Федя был там? Тогда Алешу обвинят в неискренности. Сказать о Феде? Нет, это уже – предательство. Лучше всю вину принять на себя: зашел один, пил пиво один. Как хотите, так и решайте.
Только бы не исключили из комсомола. Что ж, Петер, может, подумывает сделать это, но ребята не проголосуют за исключение. Петер думает, что без проработки из ребят и людей не получится. Вырастут, мол, так себе, обыватели, мещане. А после накачек человек становится как стеклышко. Чистенький, гладенький, сознательный. Вот тебя бы проработать, а потом посмотреть, что из тебя получится, товарищ Чалкин!
Комсомольское собрание проводилось в вестибюле первого этажа, где президиум обычно сидел на небольшой, сколоченной из плах сцене. Когда Алеша вошел в переполненный ребятами зал и остановился у двери, он увидел на возвышении коренастую фигуру Петера. Потом их взгляды встретились. На Алешу коротко посмотрели осуждающие глаза.
«Ну, подожди, может, и ты когда-нибудь сядешь на эту самую первую скамеечку. Может, и твой час придет, Петер», – мысленно говорил Алеша.
Не сядет он, не такой Петер, да и через два месяца выпуск. Пожалуй, это уже последнее собрание для десятиклассников.
Пока секретарь комитета успокаивал зал, к Алеше подсел Сема Ротштейн. Петер заметил это, но его суровый взгляд не испугал Сему.
– Я тут уютнее себя чувствую, на этой скамье, – сказал Сема.
Действительно, ему частенько приходилось сидеть здесь. Но Сема искусно изворачивался, каялся и все еще ходил в комсомольцах…
– Вчера был педсовет, Федю обсуждали за выпивку. И о вас с Ваньком говорили, – зашептал он на ухо Алеше.
– Откуда ты знаешь?
– А вот и знаю. Наверное, за это и тебя щекотать будут…
Петер вышел на трибуну, оглядел зал и начал, четко выговаривая каждое слово:
– Мы должны обсудить поведение комсомольца Колобова. Он систематически нарушает дисциплину. У него прогул за прогулом.
– А еще что? – крикнул Сема.
Петер удивленно посмотрел на него, пожал плечами:
– Разве этого недостаточно, чтобы его наказать?
– Ты подожди наказывать. Надо сначала послушать Колобова, – подал голос Костя.
– Что его слушать! Будет изворачиваться и только! – заметил секретарь комсомольского комитета, жидкий, вихрастый паренек.
– Вот именно! – подхватил Петер.
«Начинают с прогулов. Скоро и до того дойдут», – тревожно думал Алеша.
Но о ресторане никто не говорил ни слова. Значит, Петер разобрался во всем и понял, что ничего дурного там не было. Да и быльем поросло это: как-никак прошло полтора месяца. Но ведь, если верить Семе, то Федю-то обсуждали на педсовете выходит, что никто ничего не забыл. И Петер еще напомнит об этом.
– Ну говори, Колобов, – над столом президиума поднялся секретарь комитета.
Алеша тяжело встал со скамьи, повернулся лицом к залу. И его сердце сжалось от обиды: чего он сделал плохого, чтоб его прорабатывать? Будто другие не плануют…
– Наказывайте, – глухо сказал он.
– У тебя все?
– Все.
– Я думаю, комсомольцы выступят и дадут оценку поступкам Колобова, – бросил в зал Петер.
И Алеше пришла мысль: Петер не напомнит ему о ресторане, потому что в этом замешан учитель. Подрыв авторитета и прочее. Что ж, тем лучше, хотя Алеше хотелось бы узнать, кто же доносчик. Ведь сначала собирались его обсуждать из-за выпивки.
Выступал Ахмет, выступал Костя. Они не хвалили Алешу, но считали, что давать ему взыскание вовсе не обязательно. Колобов все уже понял, на экзаменах не подкачает.
– А я за выговор! – крикнул Петер.
Предложение Петера не прошло. При голосовании за него было поднято всего несколько рук. Против голосовали Илья, Влада, сидевшие неподалеку от Алеши «женихи»…
Тогда вскочила растрепанная и бледная от волнения Тоня Ухова, та самая дурнушка, которой хотелось в летчицы.
– Выходит, он прав?.. Прав? – в ярости заговорила она. – А где мое письмо? Где?.. А почему за выпивку не обсуждают Колобова?.. Я не могу, ребята, не могу… – Она закрыла лицо руками и расплакалась.
Алеша растерялся. Так вот кто донес на него! Эх ты, ябеда несчастная! Но нужно быть выдержаннее, сейчас это главное.
– Я был пьян, Ухова?
– Да, да, да! – вскинув голову, ответила она.
– Это ложь, – спокойно сказал Алеша.
Петер схватил со стола колокольчик и отчаянно зазвонил, призывая к порядку. Ему не нравилась перепалка между Тоней и Алешей.






