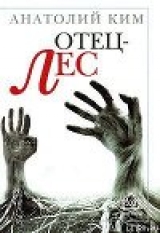
Текст книги "Отец-лес"
Автор книги: Анатолий Ким
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
Он и погибал, когда его надолго отрывали от леса, – увезли в детстве в город, затем в другой город, и наконец в Москву – там впервые и чуть не умер от страшного потрясения во время трамвайной катастрофы, когда трамвай на выезде с моста выбросило с рельсов и опрокинуло на бок. Он ехал, прицепившись с приятелем сзади, и ничего ещё не понял, когда его сдёрнула резкая сила с буфера и повлекла по булыжной мостовой, переворачивая и безжалостно колотя лицом об окатные камни. Когда он, наконец, прекратил скользить по земле и замер, уткнувшись головою в какое-то бревно, то увидел совсем вблизи, над краем опрокинутого трамвая, высунувшуюся окровавленную руку, которая словно хотела что-то выловить в воздухе. Тут и потерял сознание Степан, и затем в беспамятстве чуть не был придушен этой окровавленной рукою, которая в постоянстве тягостного кошмара каждый раз дотягивалась до его горла и смыкала на нём скрюченные пальцы…
Он страдал от удушья и головной боли в строительном техникуме, куда поступил (в Москве) и где не проучился и курса, – больная голова не позволила, врачи предполагали, что от этого перенесённого сотрясения мозга, а на самом деле он просто погибал без влажного дыхания леса. И должен был окончательно погибнуть, к тому дело шло, – годы службы в армии, затем техникум, на сей раз финансовый (и вновь неудача – исключение за драку на вечере), годы работы на «Дорхимзаводе» в аккумуляторном цехе, затем в бригаде плотников – и после всего этого ещё и тысяча тридцать шесть дней войны и плена, – всё это и было уверенной стезёй, последовательными стадиями погибели Степана Тураева без родительского Леса.
А его отец, Николай Николаевич, оказавшись после изгнания со своей усадьбы в уездном Касимове на коротком диване за занавескою в барачном доме среди гвалта полдюжины многодетных семей, вдруг ощутил гибель не в том, что ему угрожала страшная болезнь, палач или разбойник с ножом, а в том, что диван со спинкой, грязный ситцевый полог, помойное ведро и низкий потолок, оклеенный страницами журнала «Нива», обрели большую значительность и реальность, чем сотни вёрст блужданий по лесным дорогам (в любую погоду) и годы уединённых, ревниво бережённых размышлений. Ничего этого уже не было, никаких следов не осталось от вдохновения, экстаза, мучительных сомнений и сладости философского самоотречения – только барачный потолок, засиженный мухами. И в этом резком сужении окружающего материального мира и, главное, в таком качественном его изменении – от вольного, влажного дыхания ночного леса и звёздных вспышек в его ветвях до этих мушиных точек на журнальной бумаге, – в подлости и убогости предметов жизни, от которых зависело теперь само существование его, Николай Николаевич усматривал суть погибели. Она была в том, эта погибель, что ты постепенно становился таким же (ничуть не ценнее… для кого, правда?), как эти гнусные предметы: заскорузлые портянки, помойное ведро у печки, клоп, раздавленный пальцем прямо на стене.
Но чувство погибельности было связано не только с оподлением бытия до его крайних пределов, за которым начиналось существование без всякой совести. Если говорить об этом чувстве как о предварительном доопытном знании, то необязательно надо было попадать в скотское положение, какое бывает в казарме или концлагере, – нет, даже на блистательном собрании где-нибудь в московском историческом доме, в громадном и ярком зале заседаний охватывала Глеба Тураева отчаянная тоска, которая, знал он, ничем не могла быть снята, искуплена, утешена. Потому что главнее, существеннее самого торжественного сборища или самого наигнуснейшего обстоятельства житейского быта оказывалась внезапная духота, безвоздушность, которою бывала охватываема тураевская душа, столь податливая для чувства абсолютного одиночества. Оно, это фамильное и, очевидно, роковое качество самосознания, заставляло каждого из рода Тураевых устремляться из жизни в людном миру к жизни на отшибе, где-нибудь в деревенской глуши или в лесу: Николай, и его старший брат Андрей, и их сестрица Лида тому пример, а также Степан Николаевич, лесник, и его младший сын Глеб, который после пятнадцати лет жизни в Москве бросил математику, семью и заявился непрошеным гостем на старый кордон в Колин Дом, где хозяйничал к тому времени Артюха Власьев, егерь недавно образованного государственного заказника.
Однажды на войне раненый Степан Тураев лежал на опушке нестарого сосняка и ждал санитаров; бой продвинулся дальше, медсестра сделала ему на шее повязку и потом ушла за санитарами, удобно устроив его на сосновых лапах, поспешно нарубленных ею трофейным кинжалом; вставать и двигаться ему было нельзя, потому что сквозная осколочная рана при малейшем движении кроваво пульсировала и ощущалась так, словно продёрнули сквозь шею проволоку и двигали ею туда и сюда в скважине раны. Степан лежал и смотрел на заснеженные деревья, стараясь так же, как и они, не шевельнуть ни одной мышцей своей, не переводить даже взгляда с дерева на дерево. И тут увидел, как из чащобы тесно сдвинутого мелкого сосняка вылез немец, весь обсыпанный снегом, с лицом как замороженное мясо, с висящим на груди автоматом. Обводя вокруг блуждающими голубенькими глазами, немецкий воин что-то такое бормотал про себя, квохтал, словно курица, не шевеля лопнувшими во многих местах губами. Проходя совсем вблизи лежавшего на спине Степана, немец лишь покосился на его забинтованную шею с оплывшим пятном проступившей сквозь марлю крови, квохтнул что-то сухим нечеловеческим голосом и, облизнув тёмным языком болячки на губах, прошествовал мимо, таща на груди бесполезный автомат, вся казённая часть которого была жестоко разворочена – видимо, ударило осколком или разрывной пулей. Но уйти этому несчастному вояке не удалось: на глазах у Степана он превратился в дерево, в корявую серо-зелёную осину, – в ту минуту, когда внезапно донеслись до них голоса приближающихся санитаров. И потом, когда они, уложив его на носилки, тащили мимо этой осины, Степан не выдал немца, он лишь молча простился взглядом с деревом и без особого удивления стал думать о том, как же просто, оказывается, устроено в этом мире: человек, умирая, превращается в дерево.
И стоило ему так подумать, как у его сына Глеба через множество лет продолжилась эта мысль и перешла в новую: дерево после смерти своей становится человеком. Разумеется, превращение это не сиюминутно-механическое, такое, чтобы с гулом хлестнула срубленная лесина оземь и тут же подскочила бы и встала на ноги лохматым мужиком или конопатой бабёнкой. Скорее всего здесь имеет место диалектический переход из одного в другое нематериальных структур, думаю, каждое дерево для того и простаивает терпеливо всю жизнь на одном месте и никого не обижает, чтобы потом, после своей смерти, начать таинственный путь к воплощению в человеческую судьбу.
Так предположил Глеб Тураев в один из дней своей отсидки на кордоне во время весеннего разлива. И своё _главное чувство жизни_ – некое постоянное ощущение удушья (словно воздух, который он вдыхал, недостаточно содержал кислорода) – это своё всегдашнее тягостное ожидание надвигающейся беды он полагал исходящим от тайного понимания Лесом, что очень скоро человек его сведёт и тем самым положит конец своему собственному существованию. Потому что если дерево становится человеком – то кому же в будущем им становиться, если деревьев не будет?
Таким образом, представить абсолютное безлюдье на Земле было нетрудно: это Земля, на которой вместо лесов остались торчать одни чёрные пни-головешки… Но весенний разлив и лес, затопленный разливом, чужды всему огненному! И одинокая огненная точка, однажды замелькавшая над смутно-сиреневыми, размытыми в тумане островками зарослей и кустов, рыжая искорка, словно блуждающая душа умершего – эта огненная танцующая над лоном ледяных вод мошка не могла вызвать хотя бы самых отдалённых напоминаний об огненной смерти Леса. Но цветок на конце масляного факела – трепетный лоскут пламени был самым подлинным кусочком огня, каплей лесной смерти – и всё же в руках Артюхи Власьева, возвращавшегося на моторке в Колин Дом, факел этот горящий означал не угрозу, а смиренный призыв к помощи. Артюха немного выпил, мотор лодочный заглох и не заводился, вёсла по своей беспечности егерь забыл взять с собою – и, оказавшись на медленном течении бесконечно разлившейся реки посреди тысяч смутных островков из торчавших над водою кущ, кустов и деревьев, Артём Власьев вконец затосковал и, чтобы как-то дать о себе знать такому далёкому и бесконечно дорогому человечеству, он намотал масляных тряпок на монтажку и зажёг дымный оранжевый факел.
Разлив всегда вызывал у Николая Николаевича Тураева чувства глубочайшие и невыразимые, волнение сильное и почти невыносимое, которое охватывало его, когда вкрадчивая вода однажды вдруг окружала дом со всех сторон, превращая поляну Колиного Дома в небольшой лесной островок; и если разлив наводил Николая Тураева на мысли об абсолютной единичности и, значит, безграничной свободе человеческого «я», Глеб Тураев, его внук, видел эту великую свободу в праве человека отринуть целиком беспредельность Вселенной как нечто бесполезное для себя и остаться навсегда верным своему безысходному Я ОДИНОЧЕСТВО.
Степан же Тураев в дни разлива, затоплявшего сизой водою огромные просторы близ Оки, превращая луга и леса в морские просторы, в одну титаническую водную мышцу, – лесник Степан в эти дни бурлящих потоковоротов и лесных морекружений дремал целыми днями и ночами на тёплой печке, не желая состояние своей души хоть как-то связывать с могущественными замыслами и действиями разлива. Он не желал смешиваться с тем, что было настолько грандиознее и существеннее его малых сил, что об этом и задумываться не стоило. Он и не думал, спал себе на русской печке и смотрел свои сны военных времён. Но однажды (когда после смерти жены жил один на кордоне) проснулся, свесил голову с остывшей печки и увидел в сумеречном свете утра, что изба полна воды, что вода почти подступила к божнице, она тускло блестела под самым его носом, и мусор плавал по ней, и косо торчало из неё горлышко бутылки. Он тогда разобрал потолок и выбрался на чердак, распахнул дверку во фронтоне крыши – и увидел весь свой двор, огород, всю поляну вокруг дома затопленными гладкой неподвижной серой водою, в которой чётко отражались вниз макушками чёрные ели, безлистые серые берёзы и сосны с рыжими чешуйчатыми стволами. И восторг жизни – сила красоты словно пронзила ему грудь, и он впервые в жизни прослезился не от боли, утраты или жалости, а от внезапного понимания красоты как истины. Никогда – ни одного раза в жизни Степан Тураев не задумывался над тем, что такое «БОГ» или «беспредельность» – он мыслил другими словами: болеть, пахать, поехать в Сынтул, достать шифер, нечаянно промочить ноги, стрелять навскидку… убить и помирать. Но вот перед ним плыла стая белых гусей, огибая торчащую из воды лирообразную вершину большой сосны – усталые перелётные птицы с безмолвной кротостью, как-то по-домашнему спокойно выплывали на середину озера-поляны. И вид леса, преображённого водным нашествием, розовое небо, опрокинувшееся на знакомом месте в зеркало разлива, и эти кроткие, усталые гуси – всё предстало перед Степаном, стоящим у распахнутой чердачной двери, в своём как бы вывернутом наизнанку внутреннем значении – божественном и непостижимом!
О разлив весенних талых вод, море в лесу, лес по пояс в воде – таинственный плеск во мгле ночей, звёздные искорки там, где никогда раньше их не бывало – под ногами, глубоко в бездне под лодкою, когда Николай Николаевич Тураев плыл к дому, смятенно размышляя о том, что в эту ночь ему открылось как бы внутреннее пространство сцены, само колдовское чрево божьего театра, наполненное причудливыми громадами невнятных чёрных декораций. Сотни тысяч звёздных лампочек мигали среди них, и разгорался где-то за зыбкой стеною призрачных берёз неимоверно яркий, торжествующий, чистый свет луны, неудержимо восходящей в небе. Но луна той ночью так и не появилась над лесом, освещая водный путь Николая Николаевича – почему-то прошла она за деревьями, поджигая своим огненным нимбом самые верхние крестовинки и метёлки плещущего на воде леса. А прошла луна во всём торжествующем блеске своём перед Глебом Степановичем Тураевым, которому ночь, разлив и лес, опрокинутый в зеркале огромного наводнения, тоже показался театром, сценой, но не с погашенными огнями (нерабочей, затерянной в ночи), а как раз в самом разгаре спектакля – странного, очень странного представления, смысла которого нельзя постичь, потому что он нечеловечески многосложен и высок. И лишь дано тебе увидеть, как светит жёлтая луна над бескрайним морем разлива, как зыбкими чёрными островами стоят лохматые острова кустов и деревьев, как лодку тихо несёт течением куда-то мимо утонувших в бездне звёзд, и на носу лодки стоит егерь Власьев с чадящим факелом в руке, от которого отрываются оранжевые клочья огня и с шипением падают, каплют на забортную гладкую воду.
А в самый первый раз (когда дом был выстроен и хозяин только что вселился в него) половодье застигло Николая Николаевича врасплох, у него даже лодки не оказалось на этот случай, и две недели он был совершенно отрезан от внешнего мира. Правда, на исходе второй недели заехал к нему на плоскодонке брат Андрей Николаевич, заночевал у него, и к этому времени у Николая уже произошло то, что определило всю его дальнейшую жизнь. Разлив заточил в доме, как на необитаемом острове, двоих, мужчину и женщину, и некуда было им деться друг от друга. Разлив пришёл ночью, невидимо и неслышно, и выходила рано утром первою на крыльцо медноволосая Анисья, свежо умытая, со скрипучей на скулах кожей, поглядела удивлёнными глупыми глазами на плещущую воду, которая подошла к предпоследней ступени высокого белого крыльца, ахнула, втихомолку воскликнула «батюшки» и мигом скрылась в доме. И затем показался оттуда сам барин, вид у него был взволнованный, никак не мог попасть рукою в рукав старенькой бекеши, которую Николай Николаевич обычно носил в холодное время по домашности. Выглянул, шагнул на крыльцо, дверь за собою оставил открытою – и там тотчас показалась грудастая длинносарафанная фигура Анисьи – оба с одинаковыми радостными лицами, выражавшими весёлую увлечённость, смотрели на подступавшую водную стихию, словно она была явлена, чтобы вдоволь их распотешить. И по лицам молодых людей можно было прочесть, что должно произойти – уже происходит.
Вечером, внеся горячий самовар к барину в комнату, Анисья взглянула на него испуганно и взволнованно, широкие белые запястья её были покрыты, словно сыпью, красными пятнышками – наколола, когда драла можжевельник, чтобы подкинуть в самоварную топку для пахучести дыма (как учил её барин), и нежные жирные запястья молодой женщины, выставленные из узких засученных рукавов рубахи, внезапно пробудили в нём чувственную ярь, Николай молча схватил её за эти исколотые запястья, чувствуя всем мужским наитием своим, что _это то самое, да, то самое_, – отчего Анисью словно подбросило ударом электрического тока. Она бы грянула оземь или отпрыгнула бы сразу шагов на двадцать, но, крепко взятая за руки барином, могла только размашисто вильнуть задом в одну сторону и в другую, – и замерла, полусогнувшись, тесно сведя ноги, коленями сжав прихваченный подол старенького сарафана. Она смотрела на мужчину виновато не потому, что видела грех в начавшейся любовной игре, после которой жди только одного, а в том, что _сама желала_, – и в этом-то желании чувствовала свою преступность, то есть греховность и чрезмерность собственных притязаний. (Ибо Деметра, которая просто отдаётся мужчине, исполняя не ею выдуманный закон пресотворения, – это одно, а женщина, испытывающая желание самой пообладать мужчиной, есть грешница и ведьма, которую ненавидели и проклинали все на свете святые и праведники, порою её за любовную вольность эту бросали в прорубь или сжигали на костре.) Да, Анисья упиралась и отбивалась потому, что сама желала, – и когда прямо на пыльном ковре, возле пыхтящего самовара, острое электрическое желание её разрядилось в мужчину, и он размяк, стал покорен, она заплакала и лишь отвернула голову в сторону, не потрудившись даже поправить бесстыдно задранной одежды. Так, лежа на ковре распакованною до препохабной наготы, тихо плача, она слушала, как плещется под полом натекающая извне вода, та самая вешняя вода, которая и подвела их к близости, благословила и устроила брачный союз, чрез который пришла на свет новая людская ветвь – род Тураевых, идущий от дворянина Николая Николаевича и крестьянки Анисьи.
И одна из почек этой ветви, Глеб Тураев, сейчас стоит на крыльце егерской избы и причаливает лодку за мокрую верёвку к столбу, подпирающему навес над входом в избу. Он думает: в голову мне приходят _не мои_ мысли, грудь волнуют полузабытые воспоминания, хотя то, что предстает моему внутреннему взору, и слова, что слышу в тишине своей сосредоточенности, не могут быть связаны с _моим_ жизненным опытом. Подступив к самому крыльцу лесного кордона, вода замерла, как бы в нерешительности и задумчивости, пытаясь понять, что же она такое и откуда все эти щепки, мелкие веточки, пух и мусор леса, принесённые ею к подножию деревянного крыльца… Ах, разве не забыл таким же образом и я все собственные прежние воплощения? Ведь я же огонь, я же и вода, я лес и прах лесной – всем этим был, а теперь вместе с Артюхой Власьевым вылезаю из лодки и, проходя вслед за егерем мимо колодца с журавлем, кричу ему громко в непроизвольной радости избавления (могли бы долго носиться по водам, пленённые стихией, на лодке без весел, с заглохшим мотором, да помог счастливый случай: прибило нас к кустам, в ветвях которых мотались, зацепившись, пучки соломы, клочья пены, палки и обломки досок; и двумя кусками сырых горбылин мы кое-как догреблись до кордона):
– Артем, не зальёт колодец?
– Зальёт обязательно, – ответил Артюха, не оборачиваясь; зашлёпал через проточину, глубоко вдавшуюся во двор, и, обогнув угол, поднялся на крыльцо, оставляя на серых досках ступеней узорчатые мокрые следы от резиновых сапог.
Он зашёл в избу, а я остался на крыльце и, не чувствуя в себе того же равнодушия и беспечности, что у егеря, стал тревожно оглядываться вокруг. Странный, невиданный доселе пейзаж открывался моему взору. Вся поляна, посреди которой я выстроил свои хоромы, превратилась в живописное серебряное озеро. Но берегов этого озера нельзя было увидеть: вода уходила под тёмные своды окружающего леса; идущая от Колина Дома неширокая дорога сейчас, сверкая меж елей, представляла собою вид живописного канала. Оттуда и выплыла стая белых гусей, которых я показал Анисье, и она, азартно округлив глаза, с хищным видом проследила за ними, а затем и предложила: «Возьми ружьё, Миколай Миколаич, и сшиби их…»
Я смотрел на этот новоявленный лесной канал, по которому Артюха поплывёт на лодке к деревне, поедет один, без меня, потому что в том деле, за которым он и отправится в деревню, я ему не помощник. Дело в том, что уже не существует для Артюхи Власьева ни широчайшего, буйного разлива Оки, ни тяжёлого ночного пути через разыгравшуюся стихию, ни небес, ни хлябей, ни бездны – а если и существует всё это для него, то лишь где-то на периферии сознания. А в упор перед двадцатисемилетним парнем дыбится и в страшной наготе своей белеет распластанное женское тело. И в устремлении к нему не остановит его не только разлив вешних вод, но и сам всемирный потоп.
И я думаю о том, почему, каким образом холодное серое половодье разжигает столь могучую похоть в маленьких человеческих существах. Рыженькая Анисья словно с ума сошла и веселилась так буйно, с топотом бегая по всему дому, что я даже начал беспокоиться, не заболеет ли она, не простудится ли, то и дело босиком выскакивая на крыльцо, вплоть до второй нижней ступени окружённой водою. Егерь же Артюха ни одной ночи не мог оставаться дома и, не замечая опасностей и тягот, каждый вечер уплывал на плохонькой моторке за семь километров в деревню – пользуясь образовавшимся водным путём, по которому летом обычно топал пешочком или трясся по корням на велосипеде… Столь же безоглядно-беспечно к разыгравшейся вокруг стихии отнеслась и Анисья, молодая солдатка, недавно нанятая в кухарки к барину Тураеву: отведав его яростной ласки прямо на полу, под которым плескалась вода, бедная бабёнка словно с цепи сорвалась, целовалась и миловалась без устали, без присущей деревенским женщинам стыдливости, шумела, и вопила, и звенела, звенела своим звонким голоском, видать, безмерно довольная тем, что высокая вода затопила всё окрест, перекрыла все дороги, преградила доступ к дому в лесу, где была она заточена вдвоём с барином надолго и надёжно.
Половодье в моей душе вызвало какие-то глубинные небывалые смущения, которые и вынесли на поверхность моего бытия счастье особенного рода. И восприятие действительности настало такое, что нельзя было уже понять, в чём состояло всё прошлое несчастье моей жизни. В этом прошлом ни одна линия, строящая мысленный дом моей судьбы, не казалась прямой и надёжно доведённой до своего логического соединения с другими. Я каждый день, проснувшись, с утра ощущал как бы удушье, как бы некую нехватку в самом процессе дыхания – не хватало чего-то единственно правильного, самого необходимого. И ощущение того, что ежедневная жизнь катится, несётся куда-то без преосуществления самого главного, ради чего я рождён на свет, мучило меня и душило постоянно… Но половодье прочь унесло всю эту гнетущую тоску-вину-хворь душевную, я словно проснулся и узрел подлинную реальность бытия. И она заключалась в том, что я существую не в тех удушливых, скверных облаках и туманах головных измышлений, в которых обретаемся мы от раннего детства до старости, а нахожусь в равном положении с другими существами, предметами и явлениями природы, – в равенстве и сопричастии к деревьям, стоящим по пояс в воде, к соломенной трухе и щепкам, плывущим по течению, в родстве и дружбе с полыхающей над ночным разливом луною… В равенстве и единении с Анисьей, женщиной молодой и прекрасной, дарующей и берущей такую яркую радость любви чувственной, что оно преобразилось в любовь самую возвышенную, близкую богам, – и Анисья была жрицею Афродиты и Деметры.
Отрезанные от всего остального мира людей, питаясь грубой пищей – салом да хлебом, они прожили две недели так, как надо бы проживать людям всю жизнь. Какое согласие чувств и взаимное понимание во всех самых тонких изворотах желаний! Не было интеллигентного барина, дворянина, и его деревенской кухарки, а были, как говаривал Дж. Боккаччо, славные ступа да пестик да неустанная усердная рука, совершающая эту весьма угодную Богу работёнку – но ведь бывает и тут незадачка! Кто бы мог подумать, что крепкий жилистый парень, с виду весьма простоватый, но симпатичный, словно Емеля-дурачок, егерь Артюха Власьев был неспособным и, выходит, напрасно ездил по ночам через хляби развёрстые в деревню к некой Ларисе. Она приехала откуда-то в совхоз работать портнихой в Доме быта – всё очень просто и обыденно, – однако оказалась настолько странной, что согласна была выйти замуж за лесного жителя, за Артюху Власьева, и жить с ним вдвоём полной отщепенкой на кордоне, без своего Дома быта, клуба и даже без телевизора. И молодой егерь, впервые в жизни обретший сказочную возможность, совершенно потерял голову, и результатом его страшного волнения явилась полная неспособность соединиться в едином восторге ему с Ларисою. А она ждала этого каждую ночь, горячо его поощряла во всём, однако ничего не могла поделать с поникающей вялостью Артюхиной воли. Какая-то очень тонкая, дьявольская стена отделяла бушующее море его страстей от холодной пустоты бессилия, и Артем снова и снова летел на моторке в сторону деревни по чёрному каналу залитой дороги, чтобы проломить проклятую стену, и каждый раз бесславно возвращался под утро на кордон. Для житейского объяснения и оправдания своих отлучек он порой наведывался в дом матери и привозил оттуда полмешка картошки, пласт сала, связку луку или чеснока.
Неимоверные душевные муки Артюхи Власьева были скрыты в нём, а вовне проявлялись самые невыразительные признаки: то и дело зевал до потолка, был вялым и неразговорчивым, иногда жаловался, что ломит в паху. И я, мысленно сличая его зверскую неутолённость с розовой, влажной, ликующей насыщенностью Анисьи, в глубоких неконтролируемых изворотах сознания толкал их друг к другу в объятия. Разумеется помочь друг другу они никак не могли, ибо жили в разные времена. Но уж очень жаль было добродушного егеря! О, я отдал бы их во власть друг друга без всяких мелочных соображении бренной морали! Как было бы это замечательно, если посреди бескрайнего разлива под блеском горящей луны в маленьком домике егеря осуществилось бы то могучее желание, что напружинилось и вспыхнуло огненным жаром под его плоским животом, сжалось, словно звезда в печальном пространстве Космоса. Какая мощь творческого рвения пропадала даром в эти странные ночи, наполненные полупрозрачным зеленоватым бредом луны, плеском бескрайнего, как море, разлива! И я, не вынося больше вида столь тяжкого несчастья, решил вмешаться в это дело живых, в эту тщету самовозникающих и уходящих в пустоту страстей, – дать разумный совет Артюхе Власьеву насчёт того, как ему совершить то, что требуется женщине.
Ещё в кадетские годы Николаю Тураеву пришлось испытать боязнь и безволие такого рода, когда приятели затащили его в один из домов на Трубной, и там, увидев вблизи себя, наедине, чудовищное существо с пухлым загривком, отвислыми грудями и мокрым ртом, он испытал гадливость почти на грани потрясения и впал в совершенно, казалось бы, полную несостоятельность, из которой всё же это чудище вывело прикосновонием одного лишь пальца к определённому месту юношеского тела. Так неужели этот опыт, послуживший во благо печали и позора, не мог бы явиться спасительным действием в начинании добром и безгрешном? Но прежде всего нужно было убедиться, что в егере нет непоправимого телесного порока, с тем я и попросил его приспустить штаны и показать артиллерию, с помощью которой он и собирался рушить стену… Пушка была крупного калибра, и боезапасов Артюха к двадцати семи годам своим накопил изрядное количество, так что всё выглядело надёжно, и пришлось только дать ему необходимый совет. Добрый молодец выслушал его и тут же, не дождавшись вечера, полетел на веслах, даже не соизволив посмотреть, в чём заключалась неисправность двигателя моторной лодки.
И я, таким образом, вдруг на несколько дней остался совершенно один на кордоне, как когда-то оставался на две недели в осаждённом половодьем доме вдвоём с Анисьей, испытав при этом состояние той наивысшей свободы, о которой мечтают все умствующие на этой земле замечательные люди. К концу второй недели подобной жизни и свободы мне стало совершенна ясно, что не эта свобода нужна была мне. Её достаточно содержалось в любой форме человеческого самоотчуждения, будь оно замкнуто в ощущении его смертности или заключено в раскалённую ненависть ко всему людскому миру. Даже просто лечь и умереть означало достижение подобной свободы, понимаемой как освобождение человека от всех и всяческих пут, привязывающих его к глупостям жизни. Не знаю, к каким ещё выводам привела бы обретённая благодаря разливу внутренняя раскрепощённость, но мне было так радостно, сладко жить – и никогда ещё отчаяние моё не взмётывалось на такую высоту, пытаясь перехлестнуть через стену моей тюрьмы-жизни… И вдруг совершенно неожиданно прибыл, приплыл ко мне на плоскодонке брат Андрей.
Он к тому времени уже был женат, всерьёз занимался хозяйством, земской политикой, выдвинул себя в мировые судьи, но его забаллотировали, и он собирался в скором будущем вновь выставить себя кандидатом куда-то… Андрею невозможно было объяснить ни насчёт бесполезности высшей свободы, ни об отношениях с Анисьей: «свободу» старший брат считал столь же священной и неподвластной сомнениям, как и «прогресс», к тому и другому считал необходимым устремляться всему человечеству и каждому индивиду, так что никаких сомнений у Андрея насчёт этого но имелось. А что касается Анисьи – видел он в наметившемся сожительстве Николая с его кухаркой одно лишь барское сластоблудие и очень стыдился за брата, в первые минуты даже не смотрел на него, отводил в сторону глаза.
Приезд брата был той внезапной радостью, о которой ещё и не предполагаешь за минуту до встречи с нею, – ты живёшь и не знаешь ещё, что однажды, увидев знакомое родное лицо, знакомую улыбку, услышав голос брата, вдруг вскрикнешь и бросишься навстречу ему с такой отчаянной силою радости и ликования, словно он несёт тебе ни много ни мало как весть о твоём помиловании… Андрей подплыл к дому с той его стороны, которая была обращена к реке, привязал лодку к наличнику и влез в дом через подоконник, потому что ворота, залитые на полвысоты свои, были заперты и въехать во двор было невозможно. Когда его кудлатая, без шляпы, очкастая голова с козлиной бородкою появилась в окне, покачиваясь вверх-вниз, я, сидевший в своём кабинете над бумагами, так и подскочил от удивления и радости – вода в тот разлив стояла гораздо выше, она покрывала завалинки амбара и цоколь дома, полностью залила колодец вместе со срубом. (А теперь же она дошла только до крыльца, колодезный сруб виден четырёхугольником верхних колодин, над которым задумчиво склонился «журавль» с помятым цинковым ведром, висящим на конце длинного шеста.)
Когда приехал Андрей, я отослал на кухню Анисью (егерь же сам исчез на три дня, навёрстывая, должно быть, упущенное), и мне с братом никто не мешал разговаривать, предаваться радостям общения на этом чудесном белом свете, посреди бескрайнего весеннего разлива, затопившего леса и долы, в близком присутствии воды, стоящей в погребе под досками пола. Наш разговор, как бы обрамлённый многодневным моим молчанием и странный уже тем, что звучит, хотя его попросту не было никогда, – разговор этот наполняет собою всё пространство разлива, которое только доступно моему воображению.
Ты понимаешь ли, говорил я брату, твои усилия на земском поприще, деятельный дворянский либерализм и учительство твоей жены не видны, равно как и мои отшельнические экзерсисы, – совершенно неразличимы на той цветной фотографии, которую заснял с искусственного спутника один мой знакомый космонавт. На этой фотографии гористая земная поверхность выглядит как окаменевшая шкура какого-то доисторического животного, или можно подумать, что это шероховатая поверхность плоского камня, бурого с синеватыми размывами, кое-где тронутого тёмными извилинами трещин. Эти трещины – реки, а некие расплывчатые кляксы по камню – может, так выглядит материальный след наших страстей и надежд, противоречий и взаимных несовместимостей в убеждениях? О боже, Андрей, – всего лишь голубовато-зеленоватый крап на бугорчатой растресканной шкуре окаменевшего носорога, невнятной формы пятна… Наше мышление, философские сложности, понятие «дэ» и понятие «дао», мир как воля и представление, непротивление злу насилием, отчуждение гностиков и экзистенциалистов – всего-навсего отсутствие наше в чём бы то ни было, когда бы то ни было и где бы то ни было, Андрюша, – а вместе с тем это поистине сумасшедшее желание быть везде, всюду и всегда!








