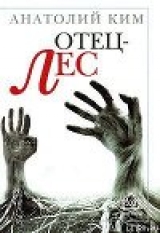
Текст книги "Отец-лес"
Автор книги: Анатолий Ким
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
III
Ехала Царь-баба на первом возу, вслед за нею правила пёстрым мерином её постоянная товарка по извозу, кареглазая молодка Марина; когда дорога шла в гору или сваливалась в грязную низину, извозчицы соскакивали с телег и ходили своими двоими. И тогда Марина смотрела как зачарованная на передвигавшиеся Царь-бабовы лапти, как они неспешно перелётывают с места на место по жидкой грязи, чап да чап, в то же время как шаги самой Марины нашлёпывали втрое быстрее: чап-чап-чап! чап-чап-чап! Молча идут бабы, грустно и терпеливо перемогают длинную дорогу, долгий дневной перегон от дома до постоялого двора, а там ночёвка – и на другое утро ещё полдня пути.
Конец двадцатых годов, лето. Скоро, совсем скоро в округу придёт пора, когда начнётся невиданное – будут разводить крестьянина с Деметрой. Она, бедная, навсегда лишится того, кто в интимности глубокой страсти вторгался в её лоно, беспокоил и, в сущности, терзал и разрушал его своим вторжением, но и не могла она в ответ на это не затяжелеть благостным зачатием. И Бог был зерном, бросаемым рукою бородатого сеятеля в рыхленую землю, и Бог в зерне умирал, чтобы явить себя в ростке. Вернее – Он исчезал в растении, как исчезает человек, затворившийся в доме, и этих домов, зелёных, гибких, наполненных благоуханием соков, в великом множестве появлялось на полях Деметры. И она была как носительница неисчислимых городов, а лохматый мужик, стало быть, являлся строителем божьего града. Священный брак их, как и любой брачный союз, требовал целомудрия, искренности и глубокой интимности чувств, которая возникает только между двумя любящими и не допускает вмешательства кого бы то ни было ещё. Но готовилось чрезвычайной важности государственное решение, по которому крестьянство обобществлялось и его единобрачие с Деметрой, таким образом, отменялось.
Я ведь сам нахожусь с нею в браке, Деметра многолика – она и одна-единственная Мать-земля, и в то же время её столько же, вернее – их, Деметр, столько же, сколько найдётся на этом земном шаре работящих женихов, готовых вторгнуться в земное земляное отзывчивое лоно. Она никому не может отказать, даже нелюбимому, чьи руки грубы и оскорбительны, – у неё тот, кто посеет, всегда пожнёт; и всё же, несмотря на такое любвеобилие, она, как и всякая женщина, неукоснительно требует лишь одного: чтобы её искренне желали, ревниво любили. Для крестьянина «моя земля» – это что «моя жена», в этом нравственная крепость его, он её и балует, и целует, а может и в небрежении держать впроголодь – но никогда он не изменит ей в душе, не предаст глумлению, не покинет ради другой, пусть даже заморской красавицы. И филиппинский негоциант, родом из мещерских крестьян, что выстроил себе русские хоромы на своём пальмовом ранчо, умирал в великой тоске, медленно сходя с ума от ностальгии по клочку заболоченной серой земельки на краю берёзового леса. И в миг последний, сверхтяжкий, он призвал к себе то, что в нём могло преодолевать любые пространства, и видеть, и слышать, и внимать, и это пришло – упругой стеною гнущихся под ветром берёзовых вершин, ропотом ветра в тяжёлых шелках листвы, – и оно, глянув весело на высокую, уже мутно-зелёную наливную рожь в поле, рассмеялось пронзительно и ширококрылым чибисом взмыло над землёй: чьи вы? чьи вы?
Но вот Марина, бредущая с вожжами в руках по залитой немилостивой дороге, потупленным взором уставясь на огромные, как лыковые кузова, лапти Царь-бабы, на перелёты-перескоки этих лаптей через бурые жидкие глины, Марина, следуя за своим пёстрым меринком Хомкой, вслушивается в отчётливые крики чибисов и думает с детства привычным образом: «Пивики кричат, пивики деток потеряли; детки по траве разбежались». И невдомёк ей, что это не пивик жалобно молит о милосердии, а душа умирающего филиппинского дядюшки её в последний миг облетает родной край – того самого дядюшки, который уехал в заморские страны ещё до её появления на свет, передав свою землицу младшему брату, отцу Марины…
Неизвестно ей и то, сколько раз ещё по этой же дороге проедет она и пройдёт по воле доброго или злого случая. Вот с больной рукою на перевязи, сгорбившись, еле тащится она по обочине, ей уже тридцать пять лет, дома брошены двое малых детей – дождутся ли они мамки, вернётся ли родимая назад? Пивики кричат, жалуются… А вот и зажила свищеватая рана на руке, которая осталась, правда, кривою – уже ею не поправить на голове платка и волос не причесать, – едет Марина в кузове грузовика, сидя на доске-скамье в обнимку с Михаилом, соседом, а по другую его сторону сидит в обнимку же с ним жена Михайлова, Надёжка – едут, трясутся на ухабах и поют-заливаются на всю округу про то, как конь гулял на воде… Да, да, поют песню, кричат чибисы, мелькают громадные лапти Царь-бабы над жидкой хлябью растасканной дождями земляной дороги. То, что умирающий филиппинский богач в последнее мгновение вернул своё сердце клочку тощей серой земли, и то, как Марина несла свою горячую стонущую руку на платке, прижатою к груди, имело общим началом жалобный крик чибиса, перелетевший через океан в угасающее сознание русского филиппинца и неимоверно жгучей печалью плеснувшей на сердце Марины: пивик деток кличет, они дома остались, ждут её, а муж-то не вернулся с большака, остался там в чужой деревне с другой женщиной. Птица с длинным хохолком на голове летала над лугом, человек умирал, тяжко хрипя и клокоча горлом, Царь-баба неспешно переставляла свои громадные лапти, и Марине, ещё молодой девке, хотелось крикнуть: «Тётка Олёнка! Давай шаволи ногами-ти! А-то я, глядя на тебя, чуть не усну, ей-богу!» И вправду, медленные движения громадной Царь-бабы завораживают: глядишь на неё – и вроде бы тебя в сон клонит, руки-ноги твои тоже замедляются и ты спотыкаешься на ровном месте.
Невдомёк было Марине, сказавшей тогда Царь-бабе: «Ни за что, тётка Олёнка, ня выду за постылова-нямилова», – что выйдет замуж именно за немилого и, подобно Деметре, покорно и грустно претерпит чуждые касания неродных рук, распластается телом пред началом далёким, как облако, дальше облака – лишь два раза за совместную жизнь Марина не сдержит сердца и с силою оттолкнёт мужа, на что тот обидится да так и не сможет забыть той обиды. Деметре же подобного нетерпения проявлять не приходилось никогда – ведь покорно зачинать в себе новую жизнь от брошенного семени гораздо для неё важнее, чем выбор по любви и предпочтению души. В этом безразличии, от кого зачать, и в великом внимании к самому зачатию и состояло учение Деметры для всех на земле, кто относился к плодоносящему женскому началу. И Марина это учение постигла, как и могучая Царь-баба, как и всякая женщина на Руси, выходившая замуж не по любви, а по необходимости. Олёна Дмитриевна сказала ей на привале, когда лошадь не смогла выдернуть телегу из топкой низины и Царь-баба плечом выпихнула оттуда груженый воз вместе с лошадкою одним могучим толчком, а после, на взгорке, телеги затормозили, а лошадям дали отдохнуть: «А где милова найдёшь, девка, а кто его нам даст, Господи ж ты мой, спаси и помилуй. Мил уехал на войну, в Порт-Артуре отписался, я письмо то берягу, коб со смертью не спознался, так-то в песне поётся, Маринка». – «Нет, нет, тётка Олёнка, сказано как отрезано».
Но что бы ни было ею сказано, а пришлось идти за того, кого выбрали старшие, а мил дружок вечером на улице расшумелся и, пьяный, у колодца рвал у себя на груди рубаху, а парни подошли и крепко ухватили его за руки. С того дня в ней поселился мудрёный червячок, породитель всех её страшных бед, который ползал ио нежным, беззащитным кровам её внутренней жизни и пожирал всё самое благоуханное и то затаённое, нежное, как роза, насквозь просвечиваемая солнцем, яркое и чудесное, что пришло к ней в пору девичества.
Исполнив закон Деметры (по-русски зовётся Мать сыра земля), женщина не обеспечила себя защитою от червя живогрызущего. А могучей защитою от него является радость женская и то чувство счастья, которое наполняет всё её существо после горячего ливня и падения в бездну, яростного телесного борения с фавном нападающим, превесело толкающим и с воплем проникающим. Если этой радости нет в жизни, то женщина на земле быстро чахнет в угнетении злостной червоточины и вскоре оказывается с какой-нибудь зловещей болезнью в теле. У Марины червяк её впился в кости руки, которые начали заживо гнить, из свища незаживающей ранки на локте потекла зловонная сукровица – к тому времени баба уже имела двоих детей, а мужик, наскучившись возле потухшей, чахлой, нечистой жены, поехал работать на большак и там нашёл здоровую, весьма пригодную для себя другую дочь Деметры, с которою и остался, бросив своих детей с несчастной их матерью.
Но до этого было ещё не скоро, ещё далеко, и бойкая кареглазая девка Марина допытывалась у великанши Царь-бабы, любила ли та кого-нибудь в жизни, кроме своего покойного мужа, на что услыхала в ответ: «Такого, девка, не ведаю, не знаю. Да и когда любить, коли замуж выдали в шашнадцать, а в осьмнадцать расти зачала, зипуны на мне ажник затрещали. Мужа напополам, почай, переросла, пупок мой впору цаловать стало, куда ему любить орясину такую. Уже начал он серчать, бить меня: разбежится, подпрыгнет и кулачком-то хватанет по виску. Я его и допрежь терпеть не могла: козлом он вонял и зубы гнилые, а тут уж, девка, край могилы меня загнал, совсем замучал. Не начнись вскоре ерьманская, заклевал бы он меня до смерти – и то головушка моя клонилась всё ниже и ниже, как у курицы белой, кою клюёт курица чёрная».
Итак, в покорстве Деметры и её равнодушии к добру или злу содержится то самое тёмное начало, «курица чёрная», что и подводит женскую суть к одной из самых больших бед жизни – к удушающей тоске немилого созидания, к творчеству без радости, к плодоношению наспех, к ослаблению устоявшихся родовых черт в приплоде, а у самой роженицы – к ощущению в душе той вселенской пустоты, которою и занято почти всё пространство космоса. Эта пустота затягивает в себя все жизненные желания несчастной послушницы Деметры, и подступает к душе ничем не приостановимая тяга к самоистреблению, подобная сладострастию. Не миновать бы Марине этакого искушения, да помог страшный чудесный случай.
Сидела она однажды в тёмном углу сеней на мешке с отрубями, сидела в полном одиночестве, в еле зримой полумгле, но всё равно, чтобы не видеть ничегошеньки сидела, стянув платок ниже глаз и скорчившись, тоскливо убаюкивая ноющую руку. Что-то нарастало, путаное и холодное в сумеречных мыслях, – что-то похожее на громадные паучьи ножки, но гораздо страшнее и гаже их, шевелилось в её душе. И вдруг с треском открылась сенная дверь, просунулась внутрь косматая голова чужого старика. Он швырнул ей под ноги кусок несмотанной верёвки и гаркнул во всю здоровенную глотку: «Чаво? Повеситься хочешь? На, вешайся!» С тем и вновь захлопнул дверь, исчез навсегда. Но его появление так сильно напугало Марину, что она и думать больше не могла о том, чтобы сделать над собою чего-нибудь, и верёвку ту бесовскую, с того света ей присланную, она изрубила топором на мелкие кусочки и зарыла подалее от деревни, словно убитую змею.
Но к этому жизнь ещё подведёт, а теперь Марина сидит на корявой лесине рядом с Царь-бабой, прижавшись головою к её плечу, и уверяет великаншу:
– Ня выду за постылова, за нямилова…
– А где милова найдёшь, девка, а кто его нам даст? – отвечает Олёна Дмитриевна, которая уже грузна не по-молодому, с сединою на висках, с глубокими морщинами на лбу.
– А любила ли ты, тётка Олёна, кого-либо, не мужика своего? – спрашивала неугомонная Марина.
– Такого, девка, не ведаю, не знаю, – с достоинством в голосе, в глазах, во всей осанке отвечала самая могучая из дочерей Деметры. – Блядством николи не занималась.
Солнышко означилось меж лохматыми серыми тучами, на минуту осветило прокисшую от дождей землю, погрело двух баб, одну громадную как гора, другую рядом с нею маленькую словно мышь, они покивали сами себе, поклевали носами, погружаясь в дремоту, – и тяжко зеленела вокруг них полевая земля, покрытая мокрой рожью, и дремала Деметра, судьбою своею похожая на любую из этих русских баб, чья доля любви была скудна, а труд земной, жизнетворящий, огромен и тяжек. И не знала ещё Мать сыра земля, что суженого её, пахаря, хотят государственным решением отъять от неё – об этом и заговорили две женщины, очнувшись от внезапной дремоты:
– Слыхала ль, нет, тётка Олёна, скоро землю у христьян всю заберут и она уже будет не чейная-нибудь, а общая, – скороговоркою сообщила Марина.
– Как общая? – не понимала Царь-баба. – Земля не бывает общая, она всегда-нибудь чейная.
– А вот станет общая, Олёна Дмитриевна.
– Не может тоё быть, потому как мужик на чужой земле работать не будет.
– Так земля колехтивная, тётка Олёна! Нетральная землица станет.
– Таково не бывает, девка. Земля догляд любит, что твоя скотина. А за нутральную землю мужик труда не положит, он свою землицу любит, а не нутральную.
– На общей земле поля будут больши-ие, трахтора зачнут бегать, пахать и сеять, машины такие на колёсах.
– Не будет общей земли, омман это, Маринка. Коли земля не твоя или не моя, значит, она ничья. А на ничейной земле, как у ничейной бабы, ничего путного не родится, одне только ублюдки непутёвы.
– Работа тоже общая будет, – не сдавалась Марина, – и делёжка весёлая, поровну всем.
– Как поровну? – заволновалась Царь-баба. – Общая работа, пёс с ней, пусть будя. А ты отдай мне моё наработанное! А то как же? Я стану ломить, как лошадь, а ты, пигалица, как котеток, а нам с тобой на делёж поровну?
– Поровну, поровну, тётка Олёнка, на весах с гирьками по одинаковому куску отмерять…
– Эх, опять омман будет! – всплеснув белыми, как новые деревянные лопаты, огромными руками, воскликнула Царь-баба. – Посмотреть бы я хотела на тои кусоцки. Допрежь чем эти кусоцки нарежут, всяк уворует целый кусище. Потому как не моё, не моими руками наработанное, в амбары-сундуки сложенное.
– А скоро, тётка Олёнка, слышь, ничего «моего» не будет, всё будет «наше», – просвещала Марина пожилую великаншу. – Твоя жана – моя жана, твой муж – мой муж, а спать будем под одним ба-альшим одеялом.
– Сляпой сказал: посмотрим, – улыбнувшись, отвечала Царь-баба, смахивая с лица и засовывая пальцем под платок выбившуюся прядь волос.
Эту улыбку покойной Олёны Дмитриевны вспоминала Марина в сентябре сорок восьмого года, когда шла с больной рукою, прижатой к груди, в сторону большака, и пролысая до розовой глины дорожка вывела сквозь душный сосняк на край убранного картофельного поля. А там и деревня завиднелась: ряды прясел, острые верха серых крыш, маленький сруб отдельно стоящей бани. И какая-то повязанная по самые глаза в белую сарпиночную тряпь баба согребала в кучи отброшенную на межу картофельную ботву. Когда Марина поравнялась с бабой, та, светло, внимательно взглянув в глаза путнице, улыбнулась – и Марина тоже улыбнулась в ответ, как улыбалась когда-то Олене Дмитриевне, глядя в её добрые малоподвижные очи. Решив немного отдохнуть, Марина опустилась на край межи, привычными движениями бережно пристраивая больную руку на коленях. К тому времени баба, увязав веревкой ворох сухой ботвы, присела, взгромоздила поноску на спину и потащила через пыльное поле, низко пригибаясь к земле.
Марина смотрела ей вслед, подумала, далеко же бедной тащить свою ношу, и вдруг закрыла глаза и увидела меня, и сразу же в сонном сознании своём признала в моем облике несомненные черты своего Господа, которому молилась каждый день. Мы встретились с нею в лесу, оба были с корзинами, старушка беспокойно заозиралась в мою сторону и, повернувшись, быстрехонько двинулась прочь от меня, так что я вынужден был крикнуть ей: «Стой, бабуля, куда же ты убегаешь? Не бойся, не съем тебя». – «Ня боюсь я, – последовал ответ, – никуды ня убегаю». – «А чего же рванула галопом в сторону?» – «Ничаво ня рванула, а так, коб не помешать вам, подумала». Когда я подошёл и мы стояли напротив, я заметил, что волнение старушкино ещё не улеглось. «А я вас во сне видала, – вдруг сообщила она и улыбнулась мне, как будто подала общечеловеческий знак дружелюбия и мира. – В сентябре сорок восьмого года, считай, тридцать лет с хвостиком прошло с тех пор». – «Как же так?..» – «А вот так. Уснула на меже, и сон приснился. Я тогда ещё во сне приняла вас за Спасителя». – «Меня? За Спасителя? Как же это может быть, бабуля?» – «Я и то подумала тогда: с чего он некрасивый такой-то, носатенький. Но говорю ему с низким поклоном, стою на кукуручках: за что наказание моё, Господи? Болела тогда я, рукою болела, косточка гнить зачала в руке-ти. А он мне в ответ: мол, не наказана ты, Марина, а испорчена. И порцию ту наслали на тебя за хорошим столом, тебе и твоему милу дружку. („А и вправду, – говорила она мне впоследствии, – ведь была у меня нечаянная встреча в одном дому за столом с человеком, который любил меня в парнях. Я тогда замуж за другого пошла, так он хотел топиться в колодце, рубаху рвал на груди… И поди ж ты – он тоже, слышала я, болел костью и уже помер к тому времени, когда сон снился“.) Так доколе же испытание моё продлится, Господи, спрашиваю, сколь же мучиться мне предстоит? А он в ответ: всю жизнь, Марина. (И точно сказал – всю жизнь свою мучаюсь и страдаю!) Встань, говорит, с кукуручек и ступай вперёд, тебе скажут, как руку вылечить». – «И сказали?» – «Сказали. Ты слушай. Будто иду я далее, а там зелёный-зелёный лужок, а посреди лужка сруб стоит, ни окон, ни дверей. Внизу, под нижним венцом, вроде продуха оставлены. Голоса из сруба слышны, мужики разговаривают, наши. Я, знать, нагибаюсь вниз и кричу им: эй, мол, чего вы туда забрались. А в ответ мужики сначала попримолкли, а потом говорят промеж себя: это святая пришла. Да какая ещё вам святая, кричу, дядя Алдаким (узнала его голос-ти, помер он годом раньше), это же я, Маринка Жукова, али ты меня не признал? Помолчали они, а потом говорят: всё равно, мол, святая. Тут и проснулась».
Она сидела на меже, как и прежде, загробные мужики из сруба озадачили её, назвав святою, а меня, увиденного в облике Спасителя, ей предстояло вновь встретить спустя тридцать лет. И всё ещё шла к деревне баба с большим ворохом картофельной ботвы на спине – не успела даже добраться до края поля. Занудливо, как напоминание о смерти, тянула боль в руке, но какая-то надежда появилась в оробелой душе Марины. Идущая с ношею баба выбралась-таки наконец к зелёному прогону на задах деревни, остановилась вдруг и, полуобернувшись, замахала из-под спуда рукою: мол, следуй за мной. Марина послушно встала и пошла, я родился в тот же день и час, вернее, тот человек родился, которого она, уже старушкою, встретила в грибном лесу тридцать лет спустя. Спасителю вольно принимать любой облик, если ему захочется явиться на глаза какому-нибудь человеку, – я родился в сентябре сорок восьмого года, вернее, родился Тураев Глеб Степанович, и это произошло в той же больнице, куда сейчас направлялась Марина: когда она войдёт в бревенчатое здание в сосновом лесу, где располагалась сельская больница, то первым делом услышит мой новоявленный, требовательный, отчаянный крик.
А в сентябре 78-го года Глеб приезжал к живому ещё отцу на Колин Дом в лес, это оказалось их последним совместным бытьем. Тогда он вышел в отпуск, но это был не отпуск скорее, а тайная творческая командировка, ибо он тогда делал работу для секретного предприятия, но вдохновение вдруг покинуло, его математический ум забуксовал, и в отчаянии он попросил у начальства отпуск и разрешение работать в лесной избушке отца, – отпуск ему дали, а что-либо писать вне стен учреждения категорически запретили. И в те дни, выполняя строжайшее государственное предписание, он страдал от жестокого умственного безделья, целыми днями бродил по лесам, а вечерами начал читать книгу Нового завета, которую нашёл под застрехою в дубовом сарае – забытую там Николаем Николаевичем книгу в старинном синем коленкоровом переплёте с золотым тиснением.
Тогда и открылся для него Он, точнее – чуть приоткрылся, а ещё точнее – просто однажды явил Себя, и это было не умозрительное, не умственное, как он раньше предполагал, а чувство – простое, подлинное и сильное.
Однажды вечером, отложив Книгу на лавку, он сидел у печки и смотрел на остывающее в ковше только что вскипячённое молоко – высыхающая плёночка на его белой поверхности морщилась прямыми складочками, косыми лучиками, и молоко как бы мерцало в полумгле вечерней избы. Охваченный внезапным сильнейшим волнением, он замер – и вдруг почувствовал Его. Новое ощущение прекрасного было совсем не таким, как вся эта душная, разглагольствующая суетливо нелепая гнетущая тяжесть разговорной религии. Нет. Новое ощущение, обладая радостной природой, было в то же время таким же подавляющим, как предчувствие смерти, и столь же грозным, как оно. Но совершенно убедительными во сравнении чувств оказывались абсолютно превышающая энергия и значимость нового чувства над всем остальным, что испытывал он в своей жизни. Этот внезапный ввод души в иное бытие был почти невыносимым, Глеб закричал бы, но за дощатой перегородкой спал отец, улёгшийся по-крестьянски рано, и тогда он схватил с плиты ковш за горячую ручку и плеснул вскипяченное молоко – всё одним махом себе на грудь. И не обжёгся молоком, – оно шелковистой прохладой скользнуло вниз по обнажённому горлу, по взмокшей рубахе.
В тот день, когда ему встретилась в лесу Марина, он шёл по высокому сосняку, где могучие деревья с красноватыми стволами медленно обступали его толпою молчаливых великанов, шагал с той радостью неспешной ходьбы по утреннему лесу, которая была ему особенно дорога и в былых городских воспоминаниях, и теперь, въявь. Его дед Николай Николаевич в молодые годы также любил ранние прогулки по лесу, и в том было недолгое счастье его – когда дом его находился в самом живом, нетронутом, дремучем средоточии лесных духов и сил. Марине же утренний выход в лес на малиновой зорьке также был дорог – как причащение к тому в жизни, что являлось никому не ведомым, совершаемым наедине, чистым и светлым счастьем её человеческого существования.
В это утро, подходя к Колину Дому, старенькая Марина вспоминала далёкую, в её детстве происшедшую встречу с молодым барином на лесной дорожке: шёл тот и постукивал точёной палочкой по голенищу блестящего сапога. Марина загляделась на золотую цепочку от часов, выпущенную из нагрудного кармана барского сюртука, это внезапное сверкание золота в глухом лесу, на шестом часу утра, поразило особенным, сильным впечатлением её душу, и память через шестьдесят лет мгновенно воскресила яркую вспышку в полумраке леса, где, в сущности, ещё царила ночная сыроватая мгла. Шедший навстречу девочке Николай Николаевич подумал: ранняя пташка, какое прелестное дитя, и до чего же прекрасен вид юных девушек, когда с грибной корзиною через руку идут они под высокими этими деревьями.
То же самое подумал и его внук, Глеб, встретив старушку в лесу близ Колина Дома: вид женщины в светлом платочке, с корзиною в руке идущей по лесу, под высокими деревьями, почему-то всегда прекрасен. Марине же, тринадцатилетней девочке, сказавшей робко, потупляя голову: «Здравствуй, барин Миколай Миколаич», – и Марине-старушке, встретившей не узнанного ею внука того барина, было страшновато в столь безлюдную рань, в час беззащитной обнажённости своих самых сокровенных чувств, вдруг столкнуться в лесной чаще с задумчивым, чем-то воодушевлённым, непонятным человеком. Марина-девочка забеспокоилась, что зашла, должно быть, в какие-то барские заповедные места, раз здесь он гуляет с тросточкой, при часах на пузе, а Марина-старушка подумала: где-то я видела этого человека? когда? и почему душеньке моей так хорошо было когда-то встретить его и почему даже и нонче боюсь его глаз, боюсь смотреть прямо ему в глаза? Застучало, застучало сердчишко у девочки, старушка же остановилась, вдруг вся вспыхнув, чувствуя, как закололо в корнях волос: Марина отчётливо вспомнила свой сон тридцатилетней давности.
Идёт она будто по коридору единственной на округу бревенчатой больницы, полы все перекошенные, половицы вытерты ногами больных, стоит нехороший запах по всем углам и палатам этой народной больницы: не то переводины в подполье гниют, не то дух убогости и бедняцких болезней имеет столь омерзительный запах; идёт, чикиляет она по неровным половицам – и вдруг навстречу этот человек, который встретится ей в лесу лет тридцать спустя, – идёт и строго глядит на неё внимательными маленькими глазами, а волосы у него тёмные. Необыкновенное чувство доверия и нежного притяжения души испытала она, и, став посреди коридора на колени, она в ноги поклонилась ему.
А он, глядя на неё, живую и старую, дивился совпадению этой встречи с тем необыкновенным в своей жизни и великим откровением, которое пришло к нему минутою раньше. Он в какое-то совсем незаметное и непринуждённое мгновение лесного утра вдруг постиг, что справедливость, доброта, милосердие, светлая надежда и высочайшая радость жизни – всё это и есть Спаситель, но всё это есть и космический Закон, пронизывающий страшные пустоты Вселенной. Эти качества, носимые людьми, совершенно независимы от их несчастий и злодеяний, потому что не являются производными их организмов, а несут в себе огонь и дух неба. Для того чтобы Глебу Тураеву постичь это и ощутить живую, но невидимую субстанцию вселенской доброты, ему, как и всякому человеку на Земле, необходимо было получить представление о каком-то мирообъемлющем Отце, в сердце которого и происходит связь между видимым и невидимым. Глеб Тураев внезапно обрёл возможность общения с таким Отцом, и это было столь же ясным и конкретным, как прогулка по утреннему лесу.
Удивительно, что Глеб Тураев пришёл к этому через книжное чтение Нового завета и в минуту, когда встретился в лесу с Мариной, думал обо мне как о возможном брате Сына Человеческого. Марине же в облике заурядного человека представился Он времён её самых тоскливых тягот. Он, единственно утешительный – любимей отца с матерью, которые вымерли от возраста и болезней – по слабости человеческой, – а Ему не грозила эта усыпляющая и всепоглощающая слабость. Из всех увиденных ею человеческих лиц, отражающих чувства, лишь эти два лица, деда и внука Тураевых, омытые влагой лесной утренней тишины, светились незаурядной силой и вдохновением, остальные лица людские были скучны ей пересказом общих чувств, мелких по глубине. И для неё Господь представлялся прежде всего человеком с необыкновенным выражением лица, она никогда за свою жизнь не читала Евангелия, но, не вгрызаясь в словесную ткань учения, именно такие из деревьев моего Леса, как Марина, держали его чистый плод в в своих простёртых руках. Марина брела вслед за несущей ворох сухой ботвы на спине незнакомой бабой из придорожной деревни – их вдоль большака было десятки, одна возле другой, смыкаясь почти впритык, – баба добралась к своему двору, свалила ношу в большую кучу уже набранной картофельной ботвы, вытянула из вороха верёвку и, сматывая её на ходу, живо направилась встречь Марине. Подбежав впопыхах, незнакомая баба без обиняков указала на больную руку Марины пальцем и молвила: «Хошь, научу, как руку вылечить?» – «И-и, каких только дохторов не было, ня вылечили», – привычно заныла Марина. «А ты докторов побоку, ты меня послушай, – морща в улыбке сухие щёки, улыбалась баба. – Я давно про тебя прослышана, про твою бяду, даже на Илью хотела сходить к тебе в Немятово, да вот поросёнок заболел, пришлось забить его на мясной налог – сорок пять кил мяса нынче сдать нужно было». – «А по мою душу тридцать кил. И фунт шерсти. И полсотни яиц. Ишшо картошечки сто девяносто восемь кил. Где ж я всё это возьму, Господи, с больной-то рукою? Поросёнка давно не держу, овец свела, одни куры, восемь штук осталося…» – «Видать, милая, тебя Господь сам ко мне прислал, а то ведь хотела к тебе идтить на Илью… Бабка наша, мачка старая, так-то вот лечила. Ну, так слушай. Соберёшь на дороге сухого конского навозу. Нарубишь, напаришь-ти его в чугунке. Как вынешь из печки – тут и накладай горячий навоз на гноище и закутай платком…» И, слушая скоропалительный говор незнакомой бабы, Марина вдруг радостно, ясно почувствовала, что вот оно и пришло, избавление, как Он и объявил только что во сне, когда она спала птичьим сном, сидя на жаркой меже.
Николай Тураев к Богу шёл, как бы философически усмехаясь про себя, но был один случай, когда совершенно утратил эту усмешку. Было ему сорок два года, он уже облысел, троих детей народила ему Анисья, и настала полная для него ясность, что ничего не вышло из его жизни – ничего даже приблизительного к тому, что мечталось, предощущалось в годы молодости. Человек, оказывается, ничего не мог сам – словно муха в патоке, он увязал в обстоятельствах своего исторического времени, а в какое время ему родиться, на то воля Божия. И Николай Тураев начал сознательный бунт против Бога – то есть он обвинил Его в ложности тех идеалов, которые насылает в души несчастных доверчивых людей, и решил в своём индивидуальном случае отвергнуть эти идеалы. Он решил забыть всё, что было наработано умом за многие годы учёбы и самозабвенного чтения, забыть и никогда не вспоминать всех философов, китайский язык, картины любимого когда-то А. Иванова, музыку Баха. Он перестал пользоваться одеколоном, выбросил в болото английский стек и, ранее ежедневно требовавший от Анисьи чистых носовых платков, враз перестал ими пользоваться – к величайшему удовлетворению своей жены-кухарки. Он решил и от неё освободиться, оставить её жить и хозяйничать на своей усадьбе, а самому, вырубив можжевеловую палку, навсегда уйти из дома, бросить свою предыдущую, такую глупую, жизнь и, как это сделал китайский мудрец Лао-цзы, навсегда уйти в безвестность. Но в тот день, когда Николай Тураев решил тайком покинуть дом, вдруг заболели рожей Анисья и старший сын Никита, и хозяину пришлось, поставив в угол паломнический посох, запрягать гнедого и ехать в Гусь Железный за доктором.
А когда жена и мальчик стали выздоравливать, свалился с той же болезнью и сам Николай Николаевич – выкарабкиваясь из бреда и жара к действительности, сознание его впервые с удивлением стало замечать, что между химерической кошмарностью удивительных видений и многообразием не менее удивительных картин земли нет, в сущности, никакой разницы. И, слабый после болезни, устающий даже долго сидеть, он в те дни окончательно капитулировал перед понятием «Бог» и решил никогда, ни за что, ни в коем случае не пытаться идти в эту сторону – он утратил для себя это слово.








