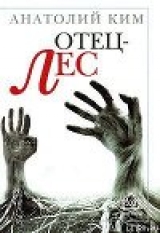
Текст книги "Отец-лес"
Автор книги: Анатолий Ким
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
Принялись быстро в несколько лопат закидывать землёю яму, и ещё не совсем мёртвый Гришка увидел из-за плеча упавшей на него женщины следующее: ему показалось, что между его глазами и небом поставлено не очень-то прозрачное старое стекло с радужными разводьями, на это стекло кто-то наляпывает крупными кляксами алую кровь, которая почему-то никак не стекает по стеклу. За кровавыми розетками видно в небе большое странное существо с длинной змеиной шеей и собачьим туловищем, на котором имеются большие кожаные крылья, чем зверь могуче, плавно месит воздух.
Впоследствии, возродившись не очень крупным свиловатым дубком, душа Гришкина всё человеческое прошлое забыла, и в шелесте дубовой листвы не было никаких отзвуков былых страстей и следов неисповедимых мучений, – но об одном разлапистый нескладный дубок не мог забыть всю свою жизнь. Так и стояла и нескончаемо длилась пред внутренним взором дерева та последняя картина неба, которая промелькнула в смертный миг человека перед заливаемыми кровью глазами. И, встрепенувшись как-нибудь среди глубокой, тишайшей ночи, дуб принимался уже в тысячу первый раз рассказывать своим соседям про летящего по небу дракона, и взволнованное бормотание его будило сонные деревья окрест. И они, недовольно бунтуя против него, начинали угрожающе раскачиваться и роптать листвою. Но, невзирая на мирское недовольство, корявый дубок весь вскипал новым трепетом восторга и тщетно пытался передать раздражённым соседям своё волнующее бессмертное впечатление.
Первая мировая война и вслед за тем разбушевавшаяся по стране революция и несколько лет безвременья, когда никакой власти, посчитай, не было в лесной округе, вскрыли неслыханные дотоле свойства и бездны человеческой души. Мой лесной народ, молчаливо наблюдавший за событиями, происходившими в домах и на полях своих младших братьев, дивился той величайшей решительности, с которою человек мог пойти на жестокость. Умножая её на силу изобретённых ими приборов и машин, люди, в пределах земных, стали недосягаемы в искусстве насильственного умерщвления друг друга. И в глубине лесных теснин неумолчный шёл ропот: обсуждалось деревьями, существами, неспособными самим пролить кровь, бывало ли хоть когда-либо на Земле, чтобы жил человек, неспособный к убиению ближнего? Устанавливали, добираясь до затаённой памяти каждой сосенки, дубка, осины или даже можжевелового кустика, помнит ли кто по родству своему хотя бы одного из своих представителей в людском племени, чтобы тот не мог или не хотел бы убить кого-нибудь из себе подобных.
И вспомнила одна ель возле Охремова болота, что она родом от того выворотня, в ямине которого жил отшельник, всю жизнь произносивший про себя одну и ту же коротенькую молитву: «Господи, Иисусе Христе, прости меня и помилуй, убийцу грешного», – и никто, кроме деревьев, не слышал этой молитвы, ибо лесной монах с людьми не общался и по данному в молодости обету не отверзал уст для разговора. Ель сообщила, что, пожалуй, этот человек был готов к тому, чтобы не посягнуть на жизнь своего ближнего. Но ей возразили папоротники, помнившие на своих узорчатых листьях, тех, что истлели сотни лет назад, несколько капель густой разбойничьей крови.
Тогда-то, во времена оны, богобоязненный инок Ефремий шёл много дней в глубину Мещеры, чтобы в нехоженых дебрях среди болот уединиться от мирской молвы и устроить пустынное житьё – с благословения своего наставника, преподобного отца Корнилия. И на берегу лесной речонки, недалеко от деревеньки Ушор повстречался ему лохматый разбойник Пахом Куря, одичавший и злой, как медведь-шатун. Уже много дней подряд Куря не видел человеческой пищи. Сверкнув чёрными и сырыми, как мокрые уголья, глубокими глазами, разбойник с невнятным урчанием двинулся навстречу оробевшему монашку, по пути давя размочаленными лаптями грибы, густо растущие на лесной дороге. Монах же совершенно остолбенел от полонившего душу его ужаса, наблюдая за небывало откровенной мерзостью в выражении человеческого лица, которое, заросшее чёрной шерстью бороды и волос, радостно светилось в предвкушении близкого удовольствия.
– Нябось, цёра,[2]2
Цёра – парень (эрьзя-мокшанское).
[Закрыть] – почти ласково прогудел разбойник, останавливаясь перед иноком, и из чёрной руки Пахома выпала и закачалась на сыромятном ремне тяжёлая железная гирька. – Нябось. Брось пешу-то, – мотнув косматой бородою, указал он на страннический посох в руке Ефрема.
Иноку надо было немедля что-то сделать или сказать могучее правое слово, способное пресечь дикую волю привычного душегуба… Монах часто слышал по пути разговоры о том, что вблизи Касимовской купеческой дороги пошаливают лихие лесовики, но он упорно шёл вперёд, помня о своём грядущем подвиге, о защите Господней, молитвенной, и о благословении старца Корнилия, разрешившего наконец-то, после упорных просьб Ефрема, отшельническое житьё своему послушнику…
Было какое-то глубокое сомнение в наставнике относительно своего ученика – почему Корнилий и столь неохотно выслушивал на протяжении многих лет пылкие речи инока о его желании самого тяжкого и строгого подвига во имя Господне. И в минуту смертного страха вспомнил Ефрем недовольную морщину на высоком залысом лбу дорогого ему старца. «Брат Ефремий, – в последний раз говорил он, провожая ученика, – словно бы не своей волею отпускаю тебя; но сия воля, которую чую душой, сильнее моей воли и слабого ума моего. Иди… Но помни всегда, что, даже питаясь кореньями и акридами, ходя босиком по каменьям и снегам, не угодишь ты Господу нашему, коли не одолеешь в душе своей лукавства и гордыни. Уже семой год, как ты пришёл в мою пустынь из Кириллова Белозёрского, и скажу не погреша, что изо всех братии, кто являлся спасаться со мною, ты усерднее прочих в молитвах и радив во трудах тяжких. Братия, знай, уже давно роптать зачала, мол, Ефремий бесу гордыни предался и хочет всех превзойти в подвиге пустынном. Я же всех увещевал, пенял, что они сами предалися соблазну и слово их есть завиство да мелкая суета сует. Нам ли завидовать друг другу, братия? Чего же ради мы удалились от мира, от князей, бояр да татар да среди блат и мхов диких себя похоронили? Словно светильник, отгороженный рукою от ветра окаянного, должны мы беречь в наших душах Христово пламя. Коли в миру людском царят алчба да злоба, а князи казнят боле, чем даже ордынцы, бояре за-ради прокорма своего грабят малых смердов, словно тати лихие, – то пущай мы унесём, каждый с собою, хоть малый светильник Господень в глухомать лесную, и там сбережётся дух наш в молитвах и кротком житии, в смирении великом.
И скажи мне, брат Ефремий, чего ради ты рвёшься в отход? Али братии ропчущих простить не желаешь? Али сам завидуешь славе подвижников, молчунов на древожитии? Только ведь, Ефремий, знать бы ты должен: кто торопится, тот, значит, не готов. Святость истинная приходит нехотя, незвано, когда и думать не думаешь об этом, приняв все муки на путях страстоприимных. А ты, младе, рвёшься к святости, аки медведь к овсу, и торопливо хочешь воздвигнуть свою пустынку. Ох, не знаю, льзя ли… Иди, коли решил. Держать тебя неволею подле себя не могу по совести; иди. Но помни, Ефремий: истинно силён в вере лишь тот, кто смерти аки комара не боится и в тугу смертную молится не за себя, а за-ради грешных мира сего. Иди и не думай о себе, тогда и спасёшься». – Слабой рукою пустынник дряхлый подтолкнул в спину ученика, и тот с ликующими глазами направился вперёд. Но вдруг приостановился он, и, потупившись, постоял на месте, и робко обернулся – и вдруг бегом возвернулся назад и с рыданиями припал к ногам учителя…
Инок Ефрем мгновенно всё это вновь пережил, глядя то на кистень в руке разбойника, то в лицо ему, – и в глазах Кури, с болотными чёрными зрачками, плясала безумная радость мучителя, получившего лёгкий доступ к жертве. Постигнув звериную ясность намерений косматого мужика, всё существо монаха воспротивилось близкому насилию, а тело его само по себе, быстрее сознания, решилось на действие: стремительно повернулось на одной ноге и, оставив душу цепенеть под взглядом разбойника, оно испуганным зайцем кинулись прочь, виляя меж кустами. Душа-то нескоро сообразила, что действовать надобно именно так – набирать быстротою бега пространство меж собой и опасностью, а уж ноги монаха с неистовой силой месили мшистую землю и саженями отбрасывали её назад. Длинный посох в руке мешал, цепляясь за ветки, и Ефрем отбросил его на бегу; не смея оглянуться назад, инок чувствовал, однако, до последней пяди всё то расстояние меж собою и преследователем, которое вначале быстро увеличивалось, затем какое-то время оставалось неизменным, а после стало неотвратимо сокращаться. И, со стоном вбирая сквозь набухшее горло воздуху в грудь, беглец оглянулся и совсем недалече увидел преследователя, который нёсся следом, словно вепрь, легко перепрыгивая через лохматые круглые кочки. Об одну из них сам монах-то споткнулся и кувыркнулся на землю, вытянув вперед руки, – и успел ещё привскочить на колени да с неимоверным проворством пробежать вперёд на четвереньках, беспамятно вскрикивая: «Господи! Господи! Господи!» Тут его и настиг Куря – подняв ногу, с разбега ткнул в крестец монаху лыковой подошвой лаптя. Ефрем далее покатился по серому мху, глубоко погружая скрюченные пальцы в его влажный ворс и выдирая моховые кочки вместе с чёрной землёю на корнях. Этими клочьями мха инок и стал бросать в лицо подступавшему к нему разбойнику.
– Изыди! Изыди, душегуб! – торопливо выкрикивал монах дрожащим, жалобным голосом. – Не тронь божьего странника, тебе грех великий будет!
– Нябось, – уговаривал его Пахом Куря, шумно, радостно дыша сквозь широкие дырки ноздрей, и взмахивал железным окованчиком на ремне.
– Нету деньги! Ничего нету… Не губи душу зря, дядя. Прочь! Сгинь! С нами крёстная сила, – лепетал инок, стоя на коленях перед разбойником и продолжая бросать в него ошмётки мха с землёю.
– Ну! Цяво каваргасишь,[3]3
Каваргасить – безобразничать (местн., куршанское).
[Закрыть] цёра, – увещевал Куря, внимательно кружась вокруг поверженного наземь. – Вот ужо озорник, прям бяда, – бормотал косматый мужик, выбирая удобное мгновение для нанесения удара.
И тут Ефрем вспомнил прощальное наставление старца – молиться в час смертной туги за всех грешных и заблудших. Мгновенно он сложил руки на груди и закрыл глаза, готовясь приступить к молитве. Тем временем Пахом спокойно примерился и, раскрутив кистень, свистящим косым ударом поверг монаха наземь. Железный окованчик угодил тому не в голову, не в висок, как метил напавший, а по мягкой части шеи, белевшей меж воротом вретища и подрезанными волосами инока. Он лёг на мох и ещё вздрагивал, дёргая на сторону головою, когда косматый чернобородый увалень уже обшаривал его, нагнувшись, переворачивая тело, будто медведь валежину. Грабитель сорвал с него оловянный крестик, сунул себе за пазуху, потом, оставив тело, обратился к дорожной суме инока, ловкими пальцами развязал вервии и, потянув за торчавшее из котомки топорище, вынул железный топор, осмотрел его и бережно, как уже своё имущество, положил боком на землю. Затем поднёс разверстую суму к лицу и стал заглядывать в её пустое вместилище, мирно сопя и внимательно хмуря брови.
В это время очнувшийся монах приподнялся и, держась за шею одной рукою, другою взял топор. Несильно взмахнув им, монах вонзил остро наточенное лезвие в согнутую спину разбойника. Тот крякнул, выпрямился и, не сумев подняться на ноги, повалился с корточек долой и лёг рядом с иноком. Они возлежали на серебристом мху, кое-где пробитом кругами и узорами зелёного, – словно на пышном ковре два уснувших королевича. И были разбросаны по нарядному ковру малиновые кубки – стояли во мху развёрнутые грибы-сыроежки. А вокруг высился, застыв в безмолвии, частый молодой сосняк с красновато-бурой тесниной стволья, будто напирали со всех сторон, окружив поляну, солдаты иных времён в мундирах с золотым шитьём, с зелёными знаменами, за которыми не видно было неба. Ни лучика солнца не пробивалось сверху сквозь плотную хвою – оно бушевало где-то высоко над прохладными пещерами леса: головы воинства древесного были на жаре, а ноги в прохладе.
Я никогда не мог ощутить, где кончаются пределы моего времени и начинается другое – без меня и вне меня, я всегда был и пребуду вечно в своём чувстве времени, и меня не трогает зрелище чьей-нибудь смерти – она не убедительна для моего сознания. Ибо умирающие деревья – это всего лишь частичное отмирание: выпадение волоса, отскок чешуйки от ствола, летящий с вершины дерева лист, – необходимое для лесного обновления действие. А то нескончаемое, к чему приобщена душа моя, не знает смерти и никогда не узнает её. То, что умрёт вместе с моим телом, достойно погибели. Но если я внутри Бога, а не вне Его, то я всё равно бессмертен – так же как и любой умерший на моих глазах и смешавшийся с землёю лесной гигант. Поэтому лес, представший как сомкнутый вокруг поляны тесный строй солдат в мундирах с золотым шитьём, протянувший прохладные зелёные пещеры, наполненные погребным духом грибов, – Лес это я. Я, неуловимый для чьей-нибудь одной любви, я, любящий все времена и эпохи земные, – могу спокойно смотреть на то, как лежат рядом на полянке два человека, попытавшиеся убить один другого, и кровь льётся от кого-то из них на примятый его спиною узорчатый лист папортника.
Я, многократно горевший и возрождавшийся зелёный зверь на сотни вёрст вдоль и поперёк, сплетённый под землёю общими корнями, не знающими вымирания, испятнанный по зелёно-бурой шкуре своей чёрными пятнами торфяников, словно безобразными следами чьих-то укусов, – я приютил, не дал пропасть одной человеческой душе, подвёл её к вывороченной громадной ели, что валялась на земле, задрав плоское коренье своё в виде вздыбленной земляной стены… Возле болота, где семьсот лет спустя начнут добывать торф, поселился инок Ефрем, устроив небольшую келью: привалив жерди к вывороченной корнями земляной лепёхе, сверху обложив шалаш корьем. Рядышком с кельей, под той же стенкой выворотня, Ефрем поселил в могилу убитого им разбойника Пахома Курина. Инок поставил над ним берёзовый крест, смастерив его с помощью того же топора, которым он и зарубил Курю.
Я уж не могу сосчитать, сколько снегов падало на этот крест, сколько осенних ветров хлестало по его перекладинам длинными струями мокрого ветра, сколько паводков подмывало лесную могилу, пока крест не стал тёмным, как чернёное серебро, и не покосился вниз на одну сторону, словно в изнеможении пытаясь опереться о землю своей длинной перекладиной… Потомками Курина были Сысой, Хлудя и Мишага, от Хлуди пошли: Артемий, Савл, Кондрат, Липонтий, от последнего Силантий, от него Аркашка, от Аркашки Сергей, затем Кипреян, отец Агапён, который бил железным шкворнем Гришку-вора.
Крестьянский народ, просочившийся вслед за отшельником в эти леса и с помощью огня выпаливший пространные пашни, назвал болото у выворотня Охремовой пустынью. Первые пахари, поселившиеся верстах в трёх от кельи, ещё лет двадцать видали в лесу старца, который был почти наг, бос, но не выходил к людям и на слова их, обращённые к нему, ничего не отвечал. Остановив для себя время, он прожил жизнь, твердя над могилою разбойника одну и ту же коротенькую молитву. Была ли какая радость ему в этой жизни? Воссияло ли когда-нибудь перед ним зарево Славы Господней? Или всё долгое время, за которое крохотная сосенка вымахала в двадцатиаршинную детину, и ёлка, выросшая от шишечки той самой палой ели, что дала приют отшельнику, сама тоже упала от тяжести своих густых лап, не удержавшись на зыбкой почве, – всё это время человек был совершенно одинок, безумен и несчастен хуже всякого животного? Я ничего не могу сказать, потому что забыл – выпало у меня из памяти, не то проспал я десяток-другой лет густым лесным сном, когда, проснувшись, не понимают, как это умудрился на месте ржавого болота выбежать на простор беленький тонкоствольный березник?
Но к концу жизни отшельника уединение его было нарушено: появился в скиту и рядом с лачугою Ефремовой построил добротную землянку румяный инок Никиток, убежавший из Сийского монастыря. Он стал считать себя послушником старца и его учеником; но, верный обету молчания, пустынник не сказал деловитому юноше до самого часа своей смерти ни слова, угрюмо косился на него и поскорее отворачивался при встрече. И лишь на смертном одре, когда Никиток вошёл в келью и поставил за головою старца свечу, тот, открыв глаза, заговорил просевшим замогильным голосом:
– Что, али плох я совсем? – и покосился на шаткое вытянутое пламя свечи.
– Должно, отойдёшь сегодня, – обрадованно ответил Никиток и повалился на колени у кучи хвороста, на которой лежал старец. – Благослови меня, отче.
– Бог благословит. Ужели сдохну наконец, – хрипло молвил старый отшельник и шумно перемог удушье. – Он… Вот он, – ясным голосом проговорил затем.
– Кто? – удивлённо округлил рот Никиток.
– Куря.
– Какой куря, дедушка? Где ему быть-то? – испугавшись чего-то, спрашивал молоденький инок.
– Да вот же он лежит, али не видишь, дурей, – говорил, задыхаясь и подкатывая глаза, старик и томился, видимо, сильно. – Ишшо лапоточки мокрые…
Сырые, разбитые лапти, сбоку одного торчит из дырки грязный конец онуча; на коленях лежащего белеют заплаты, поновее серых портков; борода лохматая задрана к вершинам деревьев; сквозь оскаленные зубы Пахома вырываются тихие стоны… Инок Ефрем сидел рядом с ним, одной рукою зажимая размозженное железкою место на своей шее, а в другой всё ещё сжимая топор, оружие, единственно с которым и направился в дремучие леса Мещеры, чтобы устроить там уединённую пустынку… Но дьявол оказался проворнее – настиг его в пути и в роковой миг сунул в руку топор – тот самый, который впоследствии столь много посёк дерева, что стал куцым в лезвии и, перейдя после Ефрема к его преемнику Никите, был забыт однажды им на берегу речки Ушор.
– А-а… Хлебца бы мне, – вдруг сквозь стоны пробормотал раненый-умирающий и громко заскрежетал зубами.
– Живой? – встрепенулся монах и, отбросив топор, на коленях подполз к лежащему. – Брат, не помирай! Ради Бога живи, не помирай, – лепетал Ефрем, криво держа голову, отчаянными глазами уставясь в лицо раскинувшемуся навзничь разбойнику.
– Ня муташись…[4]4
Муташить – шуметь, устраивать беспорядок (куршанское).
[Закрыть] Дай-ко, пожалуй, хлеба… – тихо попросил тот.
– Щас! Я щас аржаного… Подали в окошко хрестьяне в деревеньке Кальное, – торопливо бормотал монах и копался слепыми пальцами в котомке. – Щас, брат, хлебушка тебе достану.
– Уж цего-то хлебца захотелось пожевать… перед смертушкой, – открывая глаза, слабым голосом произнёс Пахом. – Бяда.
– Нет уж, брат, не помирай, – испуганно возражал ему инок. – На, поешь хлебца и восстани, аки муромский Илия с печи.
Отломив горбушку от тёмной краюхи, монах бережно сунул хлеб в раскрывшуюся скважину чужого рта. Пахом долго держал корку во рту, затем выплюнул хлеб на грудь.
– Коравый больно, – с немалым усилием произнёс он. – Ня примает душа.
– Погоди, окаянный! Вор! Тать нощной! Живи вопреки смерти, проклятый мещерянин! – запричитал монах, дёргая на одну сторону головою.
– Уми… уми-раю, цёра… Помяни, божий целовек, в молитвах Курю… Пахома Курина. Ня бось, что руку помарал об меня… Сам я резал, губил… никого не жалел… Кровушки невинной сколь пролито, бяда. Бог не примает таперя. Вон, гля, – у вороты бесы купыряются, словно шошкуята[5]5
Шошкуята – местное, куршанское, обозначает дети.
[Закрыть] малые, друг дружке говном морды мажут… А-а… ах! – только и ахнул разбойник, вздрогнул напоследок, посучил ногами, затем вздохнул глубоко, опал и плоско вытянулся на земле.
И было странно и страшно видеть иноку, что только что дышавшее тело больше не дышит и не корчится при этом в муках удушья. Ефрем сидел возле трупа на мягком мху, нахохлившись, как больной грач, и с нежностью смотрел на быстро меняющееся обросшее шерстью лицо разбойника; заметил крохотную слезинку, прилипшую к подглазию усопшего, хотел вытереть её пальцем, да отвлёкся на то, как заметались вокруг тени и как, перешагнув через его ноги, отрок Никита двинулся к выходу – закрывать распахнувшуюся от ветра тяжёлую дверь, обитую из вытесанных плах.
Но не ветер это ворвался в хижину отшельника, а вошла Ефремова смерть, и была она не в белой хламиде, с железной косою, а в голубом джинсовом костюме, с грибной корзиною в руке. И повела смерть такой разговор:
– Уже неделю меня мучает бессонница, я не сплю по ночам, а днём хожу по лесу, и мозг мой производит самые странные фантазии, и вижу я удивительные вещи – вот тебя, например, в час твоей кончины, инок Ефрем, или Охрем, как говорят местные крестьяне, и я есть твоя смерть. Ты ярко видишься мне в пределах трёх измерений, но тебя нет, потому что есть я. И это моё грубое пространственно-временное существование делает тебя призрачным, я и есть смерть твоя, делающая тебя призраком, ибо далёкий мой потомок, что явится и ко мне, сделает меня таким же призраком – в соотношении со своей грубой реальностью. Отшельник! Я пришёл к тебе из будущего в минуту для тебя самую страстную, пришёл возвестить, что Бог простит твоё прегрешение убийства ближнего своего, что будешь ты свят в народной молве, как хотелось тебе от младых дней, и твоим именем назовут пустынный деревянный монастырёк, построенный расторопным Никитком – отцом Пафнутием в сане. А впоследствии, когда Лес переменит много поколений своих жителей, когда уж и следов монастыря не останется на обомшелой земле, жители этих мест будут называть большое торфяное болото твоим именем – Охремово болото.
Мы оставили где-то далеко внизу и в стороне промелькнувшего инока Никитка, будущего отца Пафнутия, основателя монастыря, и побрели вперёд лесной дорогою. Я вёл за собой долговязую робкую тень только что умершего пустынника и, порой оглядываясь на него, ободряюще и призывно взмахивал рукою, а сам крепко недоумевал про себя: куда это веду его? Почему вдруг взял на себя роль вожатого, если и сам никогда не знал и не знаю, куда ведут умерших после смерти? Может, поэтому и отправился в путь – встречать и сопровождать Ефремову тень, чтобы узреть истинный конец бытия, как путешественники, идущие вниз по реке, увидят в конце впадение её в океан.
Приблизившись ко мне на близкое расстояние, Ефрем (старец? юноша? Никак не разобрать. Облик его уже неземной, то есть такой, что не отражает никакого возраста, подобно тому, как вид облаков или бег реки ничего, ничего не говорит о времени!), или Охрем по-крестьянски, несмело молвил:
– В словах твоих я чую милосердие, и тоё не может быть от воли бесовской. Поведай мне, чудное видение, не ангел ли ты божий явиша предо мною с небес?
– Да, я для тебя ангел, посланец из будущего. И я хочу сказать тебе, чтобы ты не отчаивался больше из-за этого убийства, которое совершил ты невольно, скорее в конвульсии безмерного ужаса, нежели по воле сознания. Ты прощён даже не за то тяжкое бремя покаяния, которое наложил на себя и пронёс через всю жизнь. Просто в сравнении с тем, что сделали другие, в последующие времена, твой проступок перед богом твоим выглядит почти что невинным.
Ефрем! Я знаю и могу привести столько свидетельств чудовищных проявлений людского зла и позора! Но знания мои – как затхлая вода в колодце, застойная и отравная, не утолит она ничьей жажды. _ «Не пейте моей воды»_ – нужно написать на таком колодце или лучше всего – завалить, засыпать его холодной, мудрой, всепрощающей глиной! Горестный, бессмысленный родник ночной тоски и тягучей бессонницы.
– Не-ет, ты не ангел! – грозя длинным пальцем, говорит Ефремова тень. – Ты есть моего предсмертного сна утомлённое видение.
– Что ж, Ефрем, ты тоже моего предсмертного сна утомлённое видение. Мы с тобою, выходит, в равной степени не причастны к миру громкой человеческой молвы, к тем живым человекам, которые сейчас так истово – так неистово творят свою трагическую историю.
И куда же я веду тебя? Коли я всё же не ангел? К богу твоему я не знаю дороги, и, наверное, никогда не буду знать, и по-прежнему я остаюсь с уверенностью в полной безысходности плена жизни, и в смерти не вижу никакого избавления. По-прежнему смерть для меня – Гора гниения, соштабелёванная из неисчислимого количества фрагментов тел человеческих, отторгнутых конечностей, сочленений и поруганных органов размножения, и всех этих кошмарных форм внутренностей, выдавленных наружу из лопнувших животов, и блеск сукровичной жижи, зловещей и смертоносной, как мёртвая вода. Поведу ли тебя мимо этой горы – и прямо сквозь неё по ненадёжному, оползающему пластами распада, смрадному тоннелю, на бегу отбрасывая ударами локтей и коленей падающие с потолка пещеры куски осклизлого мяса. О тошнота! Ты благословеннейшее и приятнейшее чувство в сравнении с тем омерзением, которое познаёт суть человеческая на близких подступах к смерти. И несчастный человек, проживший на земле в наиболее отвратительных условиях, познавший наибольшие мучения и самое тяжкое гноище, – тот и в смертной страде испытает наивысшее омерзение, переплывёт на пути своём не одно фекальное озеро. Так по каким же путям высшей справедливости и всеблагой разрешённости поведу я тебя, новопреставленный раб божий? Лучше всего было бы, чтобы тебя никогда не было, а меня и подавно – не встречать, не провожать. Но нас никогда и не было и не будет, и ничего нет вместо произнесённых слов, да и слова-то, собственно, никто не произносил, время, которое превращается в ничто, не было отпущено нам. Потому что мы с тобою, отшельник Ефрем, пригрезились на рассвете влажному Отцу-лесу, когда он, сгоняя взмахом руки липкий туман с лица, уже собирался пробудиться.
И вот он проснулся, и открыл глаза, и увидел над собою обклеенный страницами «Нивы» потолок, весь в пятнышках мушиных испражнений, и ему пятьдесят восемь лет, и всё уже окончательно потеряно. Жена-кухарка Анисья народила ему пятерых детей, все они выросли и разлетелись кто куда, остался с родителями только младшенький Степан, и живут они теперь в обшарпанной барачной комнате с печкою, а служит он в районной ветеринарной лечебнице и проснулся для того, чтобы встать, умыться, позавтракать и идти на эту службу. Всё вроде бы так и было на самом деле – вот и Анисья, сверкая белым телом на том месте, где в домашней блузке, у подмышки, была прореха, суетится возле стола, поднимая и опуская на какую-то гладильную тряпку тяжёлый утюг, наполненный раскалёнными углями. Вот и угли пахнут угарно, возбуждающе, и блестит сморщенный лобик у Анисьи от пота, и сын Степан, сидевший за столом (кусочек его ноги в серых шароварах из «чёртовой кожи»), виднеется сквозь входной проём перегородки – вроде бы жизнь это, и он, Николай Тураев, сейчас встанет и пойдёт на работу в ветеринарную лечебницу.
Но так ли это, размышляет Николай Николаевич, поднимаясь с постели, имеется ли на самом деле это самое – жизнь? Николай Тураев хотел решить загадку бытия в единственном своём числе, точнее же – он хотел понять ясным разумом, в чем высшее предназначение его единичной жизни, а никакого предназначения не оказалось и не могло быть, потому что ОН был всего лишь деревцем в ЛЕСУ, а какой смысл может быть в жизни дерева, которое срублено, или сгорело, или засохло и рухнуло на землю лет двести назад?
Но сегодня за утренним чаем он почувствовал всей глубиною души, что есть некий точный смысл его единичного существования, и оно совершенно уверенно противостоит всему мирозданию и вневременному бытию Леса. Он, человек, есть творец особого мира. Мир внешний, разумеется, существует и без него. Но это никакой мир. Существую и я несомненный. И каков я, таков и мир, через меня воспринятый и познанный. И так как я исчезну, то и миру особенному исчезнуть – тому самому, который я сейчас знаю, вижу, ношу в себе. Таким образом, я живу в обречённом мире, как и сам я обречён, из этого положения нет никакого выхода. Осознание «Я» ведёт лишь к нулевому результату существования. Уничтожение нуля есть обретение бесконечного – вечнозелёных сеней Отца-леса, райских кущ, Елисейских полей.
Он шёл по высокой набережной вдоль Оки и ни о чём в особенности не старался думать, думалось незаметно, само собою по накатанному кругу привычных размышлений, уже давно перешедших из словесного ряда в состояние устойчивого чувства жизни, своего рода привычную боль бытия. Разминулся с длинной угольной фурой, груженной саженными мешками, уложенными вдоль кузова надёжно и умело, запряженной в пару крутогрудых тёмно-гнедых битюгов; хотел переходить улицу, чтобы направиться к проулку, ведущему некруто вверх, к другой улице, как встретился с нею, со старухой Козулиной, в девичестве Ходаревой.
Девять лет прожил Николай Николаевич в Касимове после того, как сожгли его дом в лесу. Одним из первых местных дворян он пошёл на службу новой власти, стал выбраковщиком мобилизованных для армии ремонтных лошадей, и уже привычной была для бывшего барина жизнь мелкого уездного совслужащего, и он был привычен для жителей нескольких улиц, по которым только и ходил в городе, – и никогда, ни разу не встречал её, да и не предполагал подобной встречи. Уверен был Тураев, что где-то далеко по заграницам разъезжает богатая и красивая купчиха, – а она, оказывается, все эти годы жила на том же краю города, быстро превращалась из гордой женщины в оборванную старуху и ни разу не встретилась ему. Перед самой революцией Вера Кузьминична добилась развода с мужем, и он положил ей приличное содержание, полагая за собою вину в том, что сошёлся с другой женщиной (в надежде на то, что она родит ему наследника – жена не могла рожать), но произошла революция, купец исчез, и получившая свободу Вера Кузьминична вдруг оказалась совершенно безо всяких средств. По гордости своей она ушла из дома мужа только с тем, с чем пришла когда-то, и поселилась у одной знакомой, пожилой огородницы Шуры; но через два года она из квартирантки стала работницей, батрачкой за харчи и угол, и была из просторной горницы выселена в тёмную пристройку с железной буржуйкой на зиму. Николай Николаевич пошёл навстречу ей и, остановившись, ещё издали поклонился, почему-то заговорив по-французски:
– Осмелюсь, мадам, напомнить вам, что мы когда-то были знакомы.
Вера Кузьминична, по осеннему времени замотанная в большой грубый платок, в сапогах с калошами, без перчаток на красных, покрытых трещинами руках, удивлённо взглянула на него. Усмехаясь тому, что в пыльном проулке, заросшем бурьяном, прозвучала столь благозвучная фраза на хорошем французском, Козулина ответила, приостановившись напротив чудака:
– Что это вы, батюшка мой, язык-то вспомнили? Сейчас уж не говорят на нём и приличные люди. Хотя приличных-то людей не осталось вовсе.








