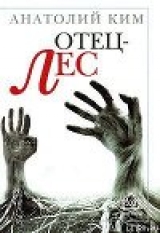
Текст книги "Отец-лес"
Автор книги: Анатолий Ким
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
Когда побежали по полю, а затем взлетели над ним журавли, Николай Николаевич ещё полагал, что детерминированная основа всечеловеческого счастья столь же неоспорима, как и ему неизвестная, но существующая причина того, почему журавли полетели вправо от деревни, а не влево. Тогда Николаю Тураеву не было ещё тридцати лет, в славном лесном доме стала вести хозяйство молодая солдатка Анисья, двадцатый век только ещё начинался, и впереди были зима и весна, когда разольётся недальняя Ока синим морем и половодье запрёт барина с кухаркою на островке. Вера философа в возможность постижения через отдельное человеческое «я» причинности сущего мира опиралась, стало быть, на молодость мыслителя и на крепость и свежесть цветущих бёдер его кухарки. Банальные основания для метафизического оптимизма! И это уже за порогом века, в котором крупно выявится главная несостоятельность человечества как одухотворённой материи: отсутствие всякого объяснения той уверенности, с которою оно поставит собственное благополучие конечной целью движения всех вселенских систем, да и самой материи в её глубинных элементарных началах.
С теми качествами нравственной чудовищности, в которых осуществляются самые высшие притязания человеческой цивилизации, люди, эти невидимые микробы на поверхности земного шара, не имеют поля дальнейшего существования во времени, и таковое представление перспектив человеческого феномена есть нечто совершенное, нежели метафизический идеализм и китаедаосийский романтизм деда Тураева, который начал в лесном углу, впоследствии названном его именем, свою новую жизнь – с тем лишь, к сожалению, чтобы впоследствии там покончил со своей жизнью его далёкий внук. Дедушка мыслит так, что его личные постижения эзотерического механизма Вселенной явятся духовным достояниям Единого Человечества, поэтому он и может отстоять в стороне да смотреть свысока на многочисленное движение народников и социалистов, активное в дни его молодости. Но проходит примерно восемьдесят земных лет, и оказывается, что новой качественностью Единого Человечества является не космический морализм неогуманистов, а изобретение нового Оружия, которое может истреблять массу человеческих микробов через их общее психополе. Между метафизическим идеализмом деда и суицидальным эсхатологизмом внука светится во тьме Моря Одиночества крошечный огонёк в избушке лесника, и я думаю тяжёлыми, как дубовые колоды, непроизносимыми словами Степановой мысли: _зачем я жил и детей наплодил, если видел тех, которых в печи сжигали, если сам ворочал трупы, работал у печи, выполнял приказы тех, которые велели сжигать не совсем мёртвых, потому что новый газ «Орхидея» оказался плохим и все валялись в зелёной блевотине_.
Дедушкина мысль: через меня откроется Божество и человечество Обожествится – сгорела от замкнутости на себя и во внуке отозвалась холодным пеплом математического отчаяния: в 10^38 раз бог живых слабее бога мёртвых. А в Степановом безбожном мозгу прозвучала так: _если то, что я видел в войну и в концлагерях, правда, а не приснилось мне, то всему будет хана и ничего не поможет_. Неоднократно и в самых различных видах и обличьях возникла эта мысль во мне – в словах и понятиях самых разных деревьев моего Леса. И выходит, что надо – так уж надо мне выяснить, в какой мере человеческое брение содержит в себе божественную ответственность и насколько важно для существующего вокруг мира проникновение людей в его главные закономерности… Но, задавая самому себе подобные вопросы, я мог получать такой же ответ, какой получал каждый из проживших свою грешную жизнь людей от самого себя. Проходят тысячи лет, а я всё продолжаю эту тоскливую игру, задаю себе вопросы, зная наперёд, что никакого ответа не получу. Я лишь могу знать, что существую, а почему существую и кто я… Уже одного сожгли за то, что он объявил себя Богом, другого распяли на деревянном кресте – вот результаты моей игры. Но как только начнёт в каком-нибудь новом человеческом варианте набухать зародыш сей метафизической опухоли, как я тут же принимаюсь с настойчивостью, достойной лучшего применения, лелеять и растить новую человеческую беду.
– В каждом человеке проявлен Бог, – нехотя молвил Николай Николаевич Тураев в холодной полутьме подвала, расположенного под заброшенным домом какого-то ведомства на Второй Мещанской улице в Москве.
Сентенция Николая Тураева вышла диковатою в той обстановке, в которой прозвучала: человек десять самых серьёзных бродяг и люмпенов собралось в подвале, убежав от слякоти тающего на грязных улицах городского снега. И хотя подвал не спасал во время оттепельной сырости, там над жидким хлюпающим полом проходили тёплые трубы, и возле них расположились, сидя или лёжа, случайные и постоянные обитатели подвала бездомных. Среде последних и принадлежал Николай Николаевич с напуганной спутницей своей Верой Кузьминичной, с которой он вовсе и не разговаривал, на которую даже и не смотрел – словно бы и не любил её всю жизнь любовью великого отчаяния, безнадёжности и постоянства. Они кормились совместным трудом – мыли стеклянную посуду для аптек, входя в артель специализированных в таком деле московских бродяг. Помои аптечные собирались, делились и употреблялись данной публикою как сильнодействующее наркотическое средство – но Козулина и Никто всегда отказывались от своей доли, довольствуясь только теми копейками, что платили им за их труд.
Слова, которые произнёс Николай Тураев, были обращены своим смыслом к человеку с плоской лысиной на лобастой голове – при мелькающем свете, падающем из дырки в каменном цоколе, эта голова то вспыхивала своим верхним макушечным бликом, то выставлялась из тьмы жёлтым кругляком скулы, освещённой керосиновой лампой. Эту лампу лысый человек, уголовник Гриня, поставил на пол хлюпающего и капающего подвала, а сам сел над нею с широко разведёнными коленками, стараясь своим туловищем защитить стекло лампы от опасных для него капель со всех сторон падающей воды. Он только что, не отходя от лампы, выбрал из носа в глотку комок слизи и с силою харкнул в лицо какому-то бродяжке в каракулевой шапке, на которой почти не было меха: этот морщинистый человечек сунулся было, урча мирными звуками, посидеть вблизи керосинового огня. В ответ на плевок ему в лицо и прозвучали в подвале негромкие слова бывшего Николая Николаевича, который теперь был Никто.
– Чего проявлен? – сомневаясь, слышал ли он что-нибудь вообще, спросил Гриня, завсегдатай подвала, которому после выхода из тюрьмы пока негде было жить, – он спросил не у того, кто произнёс возвышенную фразу, а у того же шаромыжника, которому подарил свой плевок в рожу.
Старая женщина, в девичестве Ходарева, которая время одной жизни назад впервые предстала глазами Николая Тураева в доме на Разгуляе, теперь красной морщинистой рукою тронула плечо рядом сидящего бородатого старика и боязливо прошептала:
– Не надо, Николя…
Но, не внимая ни словам, ни предостерегающему прикосновению верной руки, Николай Тураев, считающий, что он теперь Никто, ровным голосом продолжал:
– В человеке явлен Бог, и всё, что происходит с человеком, то происходит в Боге, а значит вся…
Осторожно наклонившись и при этом с наслаждением вдохнув тёплого керосинового чаду, Гриня подвернул коптящий фитиль, убавляя зубчатое пламя на нём: по сторонам длинного подвала вдруг засопело, заколыхалось и враз закашляло несколько засоренных простудными плёнками дыхалок; Николая Никто самовластно коснулось совершенно никчемное воспоминание, и он умолк на полуслове.
– Тя-ак, тяк-тяк! – растягивая свои известные всем в подвале «тяки», со значением произнёс Гриня. – То всё молчал, бильдюга, а то заговорил? Боженька, говоришь? Тя-ак! Посмотрим.
Николай Никто с закрытыми глазами присутствовал в благоухающей чем-то хорошим и свежим большой комнате помещичьего дома, сухо овеянной печным теплом, в оранжевых обоях; открылась дверь, и вошла нестарая женщина с бледным красивым лицом, с грустными глазами; Никто увидел, как она подошла к высокому буфету, и открыла его, привстав на цыпочки, и достала с верхней полки перламутровую раковину с блюдо шириною; поднеся тяжёлую раковину к уху женщина с грустными глазами принялась слушать морской шум. Кто была она? Покойная матушка? Или помещица Лариса Зайончковская?
– И давно так думаешь, старенькая вошь?
В доме Ларисы Петровны собирались интересные молодые люди из Касимова, Владимира, иногда даже из Москвы. Однажды была там и Вера Ходарева, тогда ещё близкая подруга Лиды Тураевой – вместе заехали к Ларисе Петровне на легковых санках Андрея Николаевича. На вечернем розовом свету снег сугробов вокруг дома и в саду был столь живым и трепетным, что девица Ходарева, не объясняя никому, зачем это делает, выбежала из дома на мороз без шубы и платка, кудряво-простоволосая, светящаяся молодой красотой. Проваливаясь башмачками в снегу, заметая длинным подолом рыхлый снег, побежала она по двору далеко-далеко, к замёрзшему фонтану, где темнела укутанная в рогожи одинокая пальма, – и никто не остановил её, все весело смеялись, глядя на Верочку из окон.
– А у этой морды – как? Тоже за пазухой Бог?
Между тем подвальный молодчик Гриня повалил на грязный пол какого-то жалкого старикашку и уселся на него верхом, чуть ли не на самое лицо ему. Бывшая когда-то девицей Ходаревой, ныне бездомная старуха Козулина громко вскрикнула и, задвинувшись меж трубами, спрятала там свою голову. Она не помнила – никогда так и не вспомнила больше, как в тот же самый вечер приехали к Зайончковской их соседи, Сергей Марин и его сестра Настя, маленькая черноглазая красавица, к тому же и отменная певица, лирическое сопрано. И как же они с Лидой Тураевой пели дуэты и романсы Гурилева! Тогда казалось, что из розового снега, Настенькиных загнутых ресничек, красоты Гурилева, добрых улыбок двух молодых симпатичных людей с бородками, их умных и славных разговоров и пирожных Ларисы Петровны составилось такое замечательное счастье, которому не будет предела и окончания. Однако всё это истаяло легче дыма, и старуха Козулина сучила ногами от ужаса, чувствуя себя за осклизлыми канализационными трубами подвала совсем беспомощной и незащищённой.
– Говори, старенькая вошь, чего с ним сделать, – спрашивал Гриня, обращаясь к Николаю Никто, за спиною которого скорчилась старуха в шляпке из чёрной соломки. – Хошь, убью его как кролика? – продолжал Гриня, одной рукою слегка удушая за горло подмятого под себя человека, другой держа керосиновую лампу.
– Гриня, чево минжуисси? Тоже хочет дышать, – раздалось из тьмы подвала, – а ты ему воздух перекрываешь, волчара.
Гриня аккуратно положил на слякотный пол лампу, не выпуская, однако, из грязных пальцев шею поверженного нищего старичка; освободившейся от лампы рукою быстро пролез под голенище сапога и вынул ярко сверкнувший нож.
– Тяк, тя-ак, бильдюги, – молвил он, слегка покачав в воздухе лезвием, в середке которого чернела канавка кровотока. – Хошь сейчас прирежу твоего Боженьку, старик?
– Ты этого сделать не сможешь, – спокойным голосом отвечал старик Никто, не глядя на возившихся у его ног. – Ты не существуешь.
– А ты существуешь? – вроде бы обиделся Гриня.
– Я также не существую, – был ответ. – С тех пор как я постиг это, меня больше нет. И никого из вас нет, что бы вы тут ни делали. Вы никто, так же как и я.
– Тяк-тяк, понятно, – поднеся близко к глазам лезвие финки и озабоченно осмотрев его с двух сторон, говорил Гриня. – Мы Боженьку любим. А хошь этого? – И он приблизил острие ножа к сморщенному кадыку нищего старика.
– Круг человеческих интересов перестал для меня существовать, – равнодушно молвил Николай Николаевич Никто.
Он отвернулся и не видел того, как грязный беспомощный старик, настолько дряхлый, что уже и говорить разучился, вдруг с силою прогнулся телом, едва не сбросив с себя насильника и, с широко перерезанным горлом, стал извиваться на полу и бить ногами. Но лампа была опрокинута и свет потух, в темноте стало слышно, как вначале разнообразно затопала ногами подвальная шантрапа, разбегаясь по городу. Затем невидимый Гриня вздохнул, сплюнул, громко испортил воздух, вытер нож о штаны и тоже исчез. Остались в подвале Николай Никто, насупившийся в чёрной мгле, старуха Козулина за его спиною, потерявшая сознание, да на полу уже вяло шевелился нищий, из рассечённой глотки которого с плеском вытекала кровь. Дыра в кирпичном цоколе всё так же светилась, и, когда улицей проходили тела, на стенке подвала обозначались их длинные перевёрнутые вверх ногами тени.
И предстала взору неподвижного Никто крапленная огненными брызгами ночь в лесу, где он сел на мягкий мох, прислонясь спиною к невидимому дереву, поднял взор кверху – и сквозь густые ветки, исчеркавшие каменную синеву ночных небес, увидел бесшумный лёт по горней орбите Славы Господней. Словно поверяя в последний раз перед парадом посты своих радостных часовых, с нетерпеньем ждущих наступления торжеств, круглый сияющий корабль облетал небесные созвездия, следуя строго вдоль Млечного Пути. И Никто, которому выдалось узреть приуготовленный к торжествам мир, утаённый в глубокой ночи и как бы секретно накрытый тяжёлым синим платком в миллионах блестков, одним из первых нечаянно увидел и понял, какое безграничное во времени и пространстве ожидается празднество Отца со своими детьми – какое великолепие!
Я тихо сидел под деревом, глядя на летящий корабль, хотя никакого не испытывал страха, решил затаиться, не объявлять себя из сокрытия лесной мглы: моей душе было весело и дорого то самообольщение, что сей миг я единственный в мире таюсь в ночи с неспящим сознанием и созерцаю яркие радости и секреты грядущей всесветной иллюминации.
Я заблудился во время грибной охоты, был серенький несмелый день, таящий в себе лишь малые радости отдельных белых грибов при множестве тоскливых валуёв на всех полянах, с будничным выходом скисших старых подберёзовиков на лесные дорожки, прямо под ноги, и с глухим провинциальным существованием о край моховых болот нелепых громадных сыроежек с алыми шляпками, столь похожими на тугие атласные подушки без наволочек. Не помню, кем я был, чьё грустное сердце билось в моей груди и от какого исторического времени удалось мне на время сбежать в лес за грибами, – но было скучноватое грибное межвременье, когда внезапно взметнувшийся вал белых грибов быстро пролетел по лесам и столь же внезапно сошёл, оставив догнивать на моховых буграх громадные недобытые перестарки.
Пробираясь по сосновым красным просторам и берёзовым белым раздольям, всюду на лесной почве видел я скудное житие всякой серой грибной сволочи вместо ядрёных боровиков с толстыми ножками. По моховым хвостам разбегались побуревшие лисички, на открытых взору палестинках, достойных самых благородных грибов, повылезали вонючие мухоморы и опять же пустопорожние валуи с обрыхлевшими и продранными, как старые соломенные крыши, унылыми шляпками. Под сенью кустов торчали здоровенные грибы-зонты, с пышными лохмотьями нищих, выставленными на всеобщее обозрение безо всякого смущения, – была пора, когда грибное благородство отошло и выродилось, столь обветшало и выгнило, что подлинная серость нищеты единственно выглядела здоровой и полнокровной. Я проходил целые поляны с побуревшими червивыми моховиками, словно проезжал через заглохшие деревни с испорченным народом, способным только на пьянство да незамысловатое воровство. В тёмных ельниках сшибал ногами затаившиеся в глухомани колонии свинушек, каждая из которых также была насквозь побита тёмным пороком червоточины.
По каким местам, в какое время года и в какой час дня пробирался я знакомым лесом – и чьё грустное сердце билось в моей груди? И где-то ведь не то ожидает, не то уже свершилось злодейское, глумливое убийство беспомощного старца-нищего – только лишь за то, что было высказано предположение: се человек, в нём явлен Бог. Что это за милосердная энергия, которая даётся человеку для преодоления тоскливых пространств безвремения, когда Лес отечества наполнен таким спудом серого мусора и жалкого гнилья, когда чистым телом сверкнёт в траве лишь бледная поганка в чулке, то бишь во влагалище собственной ядовитости – кто ведёт тебя, путник, сквозь такой скучный Лес к затаённой ночи созерцания Славы Отца?
Не зная того, что ожидает меня впереди, целый день тогда я проблуждал по лесу, добыв всего десятка два не очень крепких белых грибов, и вся радость от этого сбора не стоила даже выхода в лес. Так растравлял я себе душу, подавленную неудачей, в предвечерний час леса – время, самое безнадёжное для грибного охотника, если корзина уже не полна отборными грибами. Но к тому же, оглядевшись вокруг, я увидел совершенно незнакомый лесной угол и только тут понял, что давно уже заблудился, ведомый по неизвестным местам глухим раздражением безысходной усталости.
Смутную душу резало тонкой и жесткой как скрученная струна, непокорной мыслью о неудаче как о закономерности некоторых судеб, равно и как о закономерности некоторых исторических эпох, которые сплошь являются неудачными – вместе с государствами, народонаселением, богатствами техники и духовной культуры, с религиями и философиями, войнами, битвами и завоеваниями. Упругая петля разорванной струны возвращалась вновь и вновь, сколько бы раз ни отталкивал я эту мыслишку – неудача заложена в моём характере как фатальный материал, и ни при чём тут лес, набитый одними трухлявыми грибами. Таково, стало быть, время, содержащее в себе взращенные в нём самодействующие реактивы, которые… Но вечер всё явственнее проявлялся в сгущении лесного света, в тревоге молча пролетающих над деревьями птиц, и надо было выбираться из леса на какую-то дорогу, ведущую хоть куда-нибудь. Однако дороги никакой не попадалось – я как бы переходил из жгучих комариных объятий в другие – придурковатые, бесовские, сырые и тёмные, обещающие мне хорошую трясину для вечного успокоения.
Сколько раз бывало, что, пробираясь усталыми шагами путника через немилые времена моих лесов, я подбадривал самого себя самыми фантастическими и несбыточными картинами счастья, я воображал себя вовсе не тем человеческим существом, в ком зародились преходящие мечтания, а неким совершенным существом, который прожил въявь своё счастье и ничего не помнит о каких-то днях и годах томительного хождения сквозь время и воздух бездарной эпохи. И в самый невыносимый предвечерний час, когда уже ясно обозначалась беда и все ложные надежды рассеивались, я оказывался один перед тёмным захламленным лесом, в котором не было никаких чудес, никакой иной жизни, кроме древесной, грибной, комариной, хищной и травоядной, грибной и болотной, гнилой и ядовитой. Как хотелось тогда встречи с кем-нибудь – пусть и самым последним отщепенцем человеческого мира, с лесным разбойником, со слабоумным, с глухонемым или даже с прокажённым с отвалившейся рукою – всё равно с кем, лишь бы он был с духом человеческим. Человеческое! – вот что было самым главным для меня взамен всех утрат и неразрешённости дня. Но было совершенно очевидным, что никакого человека я не встречу в лесу – будет только так и нет никаких кривотолков в прочтении того приговора, какой я услышал в чёрством шелесте надвигающейся ночи.
Пора было примириться с несчастной очевидностью своего существования и с убийственной мыслью, что не какой-то лесной туманной душе принадлежит подобная судьба, а тебе, тебе с бесславной грибной корзиною в руке, тебе с сапогами, с потрохами, со вставными зубами – тебе надо думать о наступающей темноте ты должен решать, идти ли дальше, доверившись отчаянию и надежде, или останавливаться на ночлег в лесу. Но принять такое решение не в силах оробевшая душа – на неё из всех помрачневших нор, пещер, щелей и ущелий лесных надвигается нечто почти осязаемое, как ветер, как липкий туман, – страх лесного Пана, его белоглазая забава на самой окраине умирающего дня, в той размытой кайме света, где она уже безысходно напиталась мутными красками тьмы. Страшно не только ночевать одному в лесу – страшно принять это как неизбежность. И хотя земли уже почти не видать под ногами, они торопливо несут вперёд, спотыкаясь и подламываясь от усталости: без надежды, без мысли и воли, ноги несут тебя сквозь темнеющую угрозу всех смертей, мимо вздыхающих болот такой непомерной глубины, что дна в них нет – дно разверзается в бархатную черноту неизвестного космоса, где горят далёкие огни звёзд, ни одну из которых не видели глаза человека.
Умирание души от страха происходит в момент слияния её с безысходностью, подобно тому, как живой атом теряет себя, отчаянно бросив во тьму Пустой Вселенной последнюю вспышку ядерного света, затем навсегда исчезая в том, что неизмеримо больше него. Бывало и так, что умирала какая-нибудь душа среди множества тех, посредством которых совершалась из века в век моя долгая прогулка по лесным дебрям. Среди смертей человеческих погибель от ужаса перед надвигающейся ночью в лесу является, пожалуй, самой милостивой – в миг остановки сердца под напором чёрной крови, в которой уже нет жизни, ты не испытываешь никаких мучений – и падаешь на мягкую землю. Лишь однажды, кажется, я умирал в мучениях – когда нёсся дикими прыжками в темноте через ельник и, споткнувшись, с размаху наскочил горлом на острый сук, так что конец мой настигал меня по двум роковым путям: через разорванную плоть кровавой раны и по грохочущему туннелю лесного ужаса.
Но вот благая неведомая сила осеняет бедную испуганную душу минутой странного спокойствия – словно среди грохотавшей бури внезапно разверзается пауза тишины, когда раскачанные ветром деревья ещё пьяно шатаются из стороны в сторону и ураганом подброшенные к небу крыши домов ещё не успели упасть на землю, а согнанные к одному берегу озера волны ещё колотятся диким стадом и вскакивают на дыбы, прыгая друг другу на спины. Чудесная тишина смиряет смятение, вдруг ты наполняешься покоем, останавливаешься средь бега и, отойдя в сторону, тихонько усаживаешься под деревом. О сколько я знаю странных случаев в малых судьбах тех, кто гуляет по лесам, когда средь жестокости, придури и душной дикости существования вдруг выпадает ничуть не сомнительное счастье, по которому я мог судить, что люди, обладающие дарованной Богом свободой, сумели бы устроить себе совсем иную жизнь, чем та, к которой они привыкли.
Однажды был я заблудившимся в лесу конторщиком Баташовского завода из Гуся Железного, день, ночь и ещё целый день до вечера проплутал я по мещерским дебрям, кружил меж гибельных болот, пересекал одни и те же лесные угрюмые углы, отчаялся совсем и при мысли о наступлении следующей ночи почувствовал себя на грани погибели. И вот уже на вечерней заре вышел на какую-то едва заметную тропу, поплёлся по ней, и вскоре она вывела в просторный березняк, весь пронизанный полосами розового света. Пересекая их поперёк, пока они не истаяли незаметно, шёл Мефодий Замилов, гусевской конторщик, позабывший, кто он такой, еле жив по неведомой дороге. И привела она к кирпичному дому с розовой черепицей на крыше, к подворью лесной фермы помещицы Тураевой. Он вошёл в калитку, едва держась на ногах, – и упал посреди двора, как приблудший пьяный мужик, косматый, оборванный, без картуза. Хозяйка в это время пила вечерний чай со сливками и свежим земляничным вареньем, рассеянно смотрела сквозь стекло двустворчатого окна на то, как упавшего поднимают с земли под руки кухарка Евласия и скотница Катерина, ведут его к дому, и лохматая голова того, которого ведут, низко свисает и качается из стороны в сторону. Заинтересованная, почему Евласия с Катериной тащат человека к главному входу, Лидия Николаевна Тураева оставила недопитую чашку и встала из-за стола. Ей бы знать, что от этого человека родится её младшенькая, единственная дочь Даша – так пошла бы к двери побыстрее, наверное.
За ту минуту, которую она промедлила, работницы уложили на чистые доски крыльца Мефодия Замилова, расстегнули на нём рубаху, откинули кудри с лица – и перед вышедшей из дома хозяйкой оказался беспамятный измученный красавец конторщик, которому вчера вздумалось пойти одному в лес за грибами. Даже бессильно раскинутые руки и крупная шея, исцарапанная в кровь, выставлялись из рукавов и ворота одежды во всей убедительности мужской мощи. Евласия с Катериной узнали известного в Гусе Железном человека, громко раскудахтались на крыльце – Лидия же Николаевна видела Замилова впервые, с быстрым вниманием осмотрела его и велела бабам занести человека в комнаты. Барыня следила за тем, как вносят женщины в дом беспамятного человека, и ревниво, почти хищно стерегла те их движения, в которых проявлялась простодушная чувственность двух здоровых баб, ненароком причастных к телу беспомощного перед ними чужого красавца.
Для очнувшегося Мефодия Павловича было подобно воскресению в другом мире – когда он раскрыл глаза, осмотрелся и увидел себя в белоснежной постели, под высоким пологом из сарпинки, чтобы не кусали мошки и комары. За полупрозрачной дымкой ткани текла расплавленным золотом далёкая лампа, а в её свету слабым намёком сияния возвышалась женщина, держащая в высоко поднятой руке что-то светлое. Ему вспомнилось, как тяжело было ночью в лесу нести корзину с грибами, то и дело цепляясь ею за торчащие на пути невидимые сучья – и он, как бы опомнившись, понял всю нелепость своих стараний и с размаху зашвырнул корзину куда-то в затрещавшую тьму; теперь вроде бы несла из тьмы на свет неизвестная женщина эту корзину. Она повесила высокую круглую шляпу на изогнутую деревянную вешалку-трость и, вскинув руки, сбросила с плеч какую-то незамысловатую лёгкую одежду. Потом подошла к зеркалу, пригнулась, осмотрела своё лицо – я проверяю себя, так ли всё было, – почему столь обычная явь, как женщина, устраивающая на ночь свою любимую шляпу, могла произвести столь великое впечатление на человека?
Я уже не знал былой усталости, ночь страха в лесу мгновенно забылась – чей это дом, где я очутился, и кто эта женщина, повернувшаяся от зеркала лицом ко мне? Я переживал человеческую любовь во множестве, не о той любви говорю, которая у них остаётся по большей части на бумаге, в книгах, песнях, – я испытал то, о чём не говорят, не пишут в стихах и романах, а что творят с полным чувством правоты и истины. В каждом таком случае не два тела соединяется, а словно извергается один вулкан, не радость и сладкий мёд достают двое из глубокой тайной пещеры, а, изогнувшись одинаково, ловят и отбрасывают прочь летящую на них молнию. Было так, что, увидев больного совершенно выздоровевшим, зрелая и нерастраченная женщина осталась со мною под сарпиночным балдахином, не зная жалости ни к себе, ни к своей нежданной добыче. Наутро, поднявшись раньше меня, Лидия Николаевна ничуть не была смущена тем, как поступила, лишь ласково улыбнулась румяным лицом, нежными, сдержанными глазами – сидя на краю постели и положив мне на грудь свою мягкую большую руку. Не надо было ничего говорить – ведь ни слова ещё и не бьшо сказано! – и это свойство Деметры меня больше всего восхищало в ней. Она могла раскрыть через своё безмолвие, насколько происшедшее значительнее всего, что может принести за собою произнесение слов.
Это была женщина, способная серьёзно внимать повелениям животворящего начала и без моральной мелочности спокойно исполнять их, чего не поняли многие знавшие её мужчины, среди них и Гостев Сергей Никанорович, дважды с негодованием отвергнувший её устремление к себе – в первый раз в Москве на Разгуляе, когда она оставалась у него на ночь, – и это после долгих насмешек над ним из-за романа «Гарденины», который он любил, а она презирала за безыдейность; и второй раз к концу его жизни, в городе Боровске, когда он на санках вёз от реки Протвы воду, упал на обледенелом взгорке, никак не мог подняться, беспомощно мотая в воздухе ногами, и к нему подбежала молодая женщина, отцепившись от какого-то немецкого вояки, с которым шла по улице: «Дедушка, дай помогу», – протянула ему руку, зачем-то сняв с неё белую пушистую варежку – была она совершенно вылитая Лидочка Тураева в молодости. Те же густые брови, и глаза, и налитые сочные губы, и широкая улыбка с блеском белых влажных зубов. «Пошла, пошла, блядюга!» – хрипло кашляя, обложил старик эту Лиду, затем от бессилия уткнулся лицом в снег. Через два дня он должен был без мучений замёрзнуть в своём домике, сейчас же ему было столь тяжко, что он с трудом понимал всё происходящее во внешнем мире, забыл даже, что идёт война и враг захватил город, – не продажную девку, отдавшуюся немцам, отгонял он от себя, будируя свои патриотические чувства, а вновь оттолкнул Лиду Тураеву, которую он всю жизнь не мог забыть и ядовито презирал: все женщины, считал он, были такими, как она.
Впрочем, и конторщик Мефодий Павлович также не понял бедную Лидочку, когда, пробыв у неё в спальне в качестве больного (или пленного) три дня и три ночи испытав с нею то, чего он потом всю долгую жизнь никогда не мог забыть, также посчитал поведение женщины предосудительным и больше к ней не заявлялся. Его дочь Дарья, о существовании которой Замилов знал, но признавать её не хотел, потому что по слухам она была похожа как две капли на прасола Авдея Когина, с кем давно путалась помещица, – Дарья никогда ему так и не встретилась. Мефодий Павлович плыл однажды на пароходе в заграничную командировку и в каюте развернул газетный свёрток с окороком, положенным женою в сумку с дорожными припасами, – и увидел напечатанную в газете «Гудок» фотографию Даши, молодой связистки Миусского телефонного узла, которая после окончания техникума недавно начала работать и уже стала хорошим спецом – Дарья Мефодиевна Тураева, двадцатидвухлетняя ударница труда. Газету, покрытую тёмными пятнами жира, Мефодий Павлович хранил до самого прибытия в Англию, по после командировки, благополучно вернувшись домой, и в течение всех последующих лет жизни больше он о Даше не вспоминал, но о грешной Лидии Тураевой, хозяйке лесного поместья, грустил вплоть до своей смерти на даче в Красновидово.
От самой же помещицы к этому времени даже могилы не осталось – похоронена была на деревенском кладбище, могила её, самая заурядная, с деревянным крестом, недолго существовала на земле – крест лет через десять накренился, затем и вовсе упал, его куда-то уволокли, и безымянный холм ещё лет десять был заметен, но постепенно её затоптали ногами живых, проходивших к другим могилам. А через семьдесят лет на месте захоронения Лидии Николаевны появилась странная могила. Она была за железной оградой, украшена внушительным памятником из чёрного гранита, заметно выдающимся среди окружающих траурных каменьев, старых крестов и железных пирамидок. На плите способом точечной насечки был осуществлён парный портрет: некий пожилой лысоватый солидняк во френче, упитанной комплекции, и склонённая к его лысине в жесте унылой дочерней признательности молодая курчавая девица. Выбитая по цоколю памятника надпись сообщала, что имярек и его любимая дочь такая-то родились тогда-то (цифры исторических дат были выбиты с помощью острых, твёрдых инструментов), а дальше пошла сплошная хитрость. Было написано не «умерли», «скончались» или «погибли», как пишется на могильных памятниках, а – «жили до» – и дальше опять были изображения каких-то дат, но едва процарапанных на шлифованной поверхности гранита, к тому же ещё и замазанных сверху полосками коричневой масляной краски. Однако выразительнее этих экзерсисов было то, что за оградою у памятника земля лежала ровная, поросшая зелёной травкою – и никаких могильных холмиков. Это означало, что предприимчивый солидняк заранее до смерти обеспечил себя и любимую дочь солидным местом на кладбище, для чего установил вечный памятник из чёрного гранита и, чтобы объегорить всех на свете, да и самого Господа Бога, сочинил вышеозначенный текст. Имя солидняку было: Савостьян Кондратьевич Ротанков.








