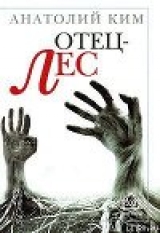
Текст книги "Отец-лес"
Автор книги: Анатолий Ким
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
Внучатый племянник поповского работника с подозрительностью отнёсся к правнучке попа, имевшей судимость за убийство, но затем признанной невменяемою, – душевнобольным же, законно полагал Емельянов потомок, недвижимым имуществом владеть не полагается и право унаследования их юридически не касается. Но она предъявила справку, где на пишущей машинке была отпечатана документация о полном её выздоровлении и поставлена гербовая печать, которой не верить было нельзя. Но оставался всё же факт убийства этой женщиной одного человека, что в своё время широко обсуждала вся округа. Убит был дядя женщины, один из Грачинских, чей родитель не был священником, и родитель этого родителя не был священником, а был либералом, социалистом, большим приятелем Николаю Илларионовичу Тураеву и землемером при уездном земельном управлении. Это он однажды совершенно потряс старика Тураева, народовольца, своим предположением, что впервые социализм будет именно в России. Сын этого Грачинского уже пожилым чахоточным человеком объявился однажды в доме своего родственника, гонимый за какие-то провинности властями, на что отец Венедикт Грачинскнй молвил сакраментальное «яблоко от яблони недалеко падает», однако приют родичу дал.
Когда Николаю Илларионовичу Тураеву сообщили, что в его России будет социализм, он просто ахнул: не может этого быть, неправда всё это, да за что же нам такая честь? – на что хилявый Грачинский, дед убитого, выпятил грудь и молвил: «Неправды не мог бы сказать, даже чтобы выжить, для спасения жизни-с». И сын его умер чахоткою в двадцатом году в доме священника, тогда же Пульхерия, дочь отца Венедикта, вдова священника тож, родила девочку, которая впоследствии зарубила пожилого родственника, настигнув его в бане.
Он сводил её с ума постоянными нашёптываниями об отсутствии демократии в стране и о том, что настали времена, когда для того, чтобы выжить, надо говорить неправду, неправду и только неправду. Девушке же в те дни было столь лихорадочно и нестерпимо на душе, что она каждый день к вечеру чувствовала, как у неё вскипает кровь в голове и мурашки бегут в щеках, внутри кожи. Ночами к ней в спальню пробирался домовой, он шептал при этом: «Это я, домовой», – и несло табачной затхлостью из его рта, точно такою же, как от дяди. Но то, что в темноте делал с нею домовой, то не могло исходить от грязного и слабого родственника, который жил в их доме, сколько она помнила себя. К тому же дядя открыто сожительствовал с её матерью, и к этому давно привыкли в посёлке: он появился там вскоре после смерти чахоточного Грачинского, оказался его младшим братом, тоже гонимым властями, на этот раз новыми, за что-то, и его со столь же непонятным великодушием принял к себе отец Венедикт. А со времени ареста старого священника Грачинского в тридцатом году брат чахоточного стал в доме подлинным хозяином, и росла рядом молчаливая красивая девочка, которая в скором будущем познает сладострастие ночного домового. Но однажды днём, не дослушав нудных речей дяди о загубленном большевиками социализме, она выбежит в сени и вернётся назад с топором в руке.
Этот человек, младший сын землемера Грачинского, возрос в семье, где забота о социальном равенстве и постоянные слова об установлении справедливого строя в России звучали с утра до вечера, причём по зимним временам холодина в доме землемера стояла собачья, и, кроме жидкого чая, гости там не могли рассчитывать на особое угощение, а домашние таки привыкли существовать впроголодь. Землемерша попивала, но была добродушным существом, двух своих сыновей никогда не бранила, как и не баловала, и они с самого юного возраста привыкли сами варить щи, жарить говядину, потому что прислуги у них никогда не было. Мать же обычно спала до часу дня, потом вставала и долго упражнялась на фортепиано, проливая при этом мелкие слёзки, отец же пропадал на службе или где-то по людям. Разница в возрасте у мальчиков была в девять лет, так что особенной дружбы между ними не было, разве что старший брат, умерший впоследствии от чахотки, очень заботился о младшем в его беспомощные годы, от двух лет до семи, лечил лишаи и золотуху на нём, научил читать-писать.
А в дальнейшем и младший вынужден был овладеть всеми необходимыми навыками для выживания. Когда ему исполнилось шестнадцать лет, матушка его скончалась – в том же самом халате, который был на ней всю жизнь, седая и растрёпанная, – однажды свалилась на пол, головою в угол, и была готова. Младший же сын только что пришёл из училища и, не видя ничего с уличного света, споткнулся об её тело и чуть не упал: это он почему-то со всей отчётливостью вспомнил в последние минуты жизни, когда, нанеся первый неумелый удар топором по его плечу, племянница на миг замешкалась, перестраиваясь, а он воспользовался заминкой и выскочил из дома. И пока бежал через весь огород к бане, он, задыхаясь, широко раскрыв рот, отчаянно желая спастись, – непроизвольно, с неотвязной пристальностью вспоминал то, как он пригляделся в полутёмной комнате и увидел толстые ноги в серых шерстяных вязаных носках, затем облезлый знакомый халат… руку, лежавшую полураскрытой ладонью вверх… своё желание молча, на цыпочках выйти из дома и убежать куда-нибудь подальше. Он так и поступил тогда: ушёл из дома, и забежал во двор к своему приятелю Ипполитову, и сел возле Ипполитова на траву, и даже закурил папироску – тут, словно выбивая эту папиросу изо рта, хлестнула его по губам колючая яблоневая ветвь, пробегая под которой он не успел нагнуть голову. Желая вытереть кровь во рту, он хотел поднять правую руку, но она не слушалась, подрубленная у плеча косым ударом топора, тогда он утёрся левой. Забежав в баню, он нашарил запор и попытался задвинуть его, но уже сил на это не хватило – дверь дрогнула от удара снаружи, затем с неимоверной силою была отброшена в сторону.
Итак, два духовных потока развели род Грачинских – православие и социализм, и на протяжении трёх поколений в одном родовом потоке были сплошь священники, в другом – поборники социальной справедливости и общественной собственности на средства производства. В одном рукаве рода Грачинских накапливалось кое-какое поповское имущество, из другого рукава всё вываливалось – и вот в сороковом году, когда оба эти рукава смиренно были сведены воедино в столетнем доме потомственных священнослужителей, последняя в роду сиих зарубила топором последнего из представителей либерал-социалистического направления рода Грачинских, очевидно угадав в нём ночного домового. Во времена февральской революции он был рьяным эсером, состоял даже в правительстве какого-то южного уезда, но затем, бежав от войны, переселился в дремучие леса Мещеры, стал жить в доме священника.
И вот сверху вниз обрушила через порог бани топор на склонённую голову дяди кимовка тридцатых годов, тщательно скрывавшая в Рязани, на новом поприще работницы кирпичного завода, своё социальное происхождение. Но въедливый и проницательный юноша Флютин, сам скрывавший своё происхождение от рода богатых подрядчиков ольфрейной росписи в Москве, с помощью двух свидетелей изобличил поповну, внучку арестованного и сосланного за вредную деятельность попа, которая и не была вовсе поповной, а происходила от матери поповны и отца-социалиста, гонимого властями. Пришлось девушке бросить свою карьеру на кирпичном заводе, в формовочном цехе, и вернуться потихоньку на родину, где её ждал ночной домовой. Дневной дядя много лет просвещал двух женщин, свою усталую сожительницу, доставшуюся ему по смерти старшего брата, и её юную дочь в том, что новая власть действительно дала всё её руководящему составу и отняла всё у трудящихся, в особенности лихо разделалась с их правом самим распоряжаться своим трудом и результатами этого труда. И вот, не достигнув шестидесяти лет, последний из социалистов Грачинских навсегда потерял возможность пылить в углу на новую власть, которая обошлась и без него, а его прекратительница, души его закрывательница, никчемности его уничтожительница спустя четыре десятилетия после этого пришла в Совет посёлка с паспортами в сумочке, своим и материнским – Пульхерия Бенедиктовна умерла недавно в глубокой старости, насыщенная жизнью, в возрасте девяноста шести лет.
Самой же девушке, исключённой из рядов союза КИМ за сокрытие своего социального происхождения, теперь минуло пятьдесят шесть лет, и она ходила в местный исполком Совета, чтобы установить права унаследования родовым домом. Однако для начала получила от секретаря отказ – потомок слуги словно мстил внучке господина за то, что когда-то оный хотел застрелить своего работника из карандаша. Ей сказано было, что если она тридцать лет пробыла в сумасшедшем доме, то никакая справка не докажет, что она теперь нормальная, но она возразила, напомнив, что последние десять лет провела там не как больная, а в качестве обслуживающего персонала, работала санитаркой и за это получала даже благодарные листы. Секретарь велел принести эти грамотки, а заодно выписку из трудовой книжки, и после этого Совет подумает, как решить, потому что даже невооружённым глазом видно, признался он, что клиентка с большим приветом. И вручать ей во владение домище с мезонином, под железной крышею, помещение пятидесятипроцентного износа – вряд ли кто возьмёт на себя такую ответственность: ещё подожжёшь дом, а заодно спалишь и соседние строения. Тогда она резко напомнила, что село, где она живёт, уже не существует, люди разъехались и дома посвозили, а недавно и церковь сгорела, и вот её-то действительно подожгли, и ему-то, конечно, известно, кто поджёг, потому что недаром он приезжал накануне пожара с какими-то двумя на машине, и они всё крутились возле церкви, которая давно была заброшена, разворована, загажена и в ней отдыхала скотина в жаркие дни… Он отвечал: ты понапрасну клевету не возводи, а докажи, попробуй; насчёт же того, как ты говоришь, что вернулась из психбольницы допокаивать мать престарелого возраста и что, как ты заявляешь, вы вместе прожили ещё восемь лет, так это и есть, понимаешь ли, доказательство тому, что обе вы были ненормальные: какой же нормальный останется жить один на краю кладбища, в чистом поле, можно сказать, в доме, где даже электричество отрезано?
Она вышла за пределы посёлка и направилась по пустынной дороге, ведущей к шести деревням вдоль реки Оки, где во всех шести не было ни одного жителя, который не умирал бы, скоро или постепенно, от величайшей тоски бытия, иногда даже и не подозревая, что он не живёт, а умирает. Беспамятство народной жизни, которое выражалось в том, что люди жили только реальностью пищи и умножения имущества, создавало фантастические обстоятельства на стезях действительности, которые мало чем отличались от тех ахиней, что возникали в несуществующем мире сумасшедших, возле их скорбных несчастных головушек. Она свернула с этой дороги направо и со старинною дамской сумочкою в руке зашагала через лес по глубоко задумавшейся извилистой дороге.
Есть весьма странные уголки в моих притаившихся на исходе дня лесах, где лишь разум таких, что прошли через сумасшедшие испытания нашего века, может обрести свои пространственные координаты. Женщина-путница, одинокая Деметра, ни разу не побывавшая беременною, спокойно приближалась к одному из таких мест: засветились впереди, на фоне темнеющего леса, длинные кирпичные стены, когда-то давно беленные известью, а нынче омытые дождями так, словно кто-то мощно помочился на них сверху; высокие ворота из двух кованных железом створок были раз и навсегда широко раздвинуты и несимметрично расположились в замусоренной и утоптанной чёрной земле. У ворот стоял в белом халате, с непокрытой головою, юный и стройный дежурный врач Александр Сергеевич Марин, курил сигарету, это он с огромною связкою ключей в руке проходил ночью по коридорам отделений, заглядывал в палаты, а в подвалах с буйными поверял посты санитарных стражников. Женщина-путница подошла к нему, бросила свою сумочку на землю, выдернула из юбки полы блузки, задрала вверх – и подступила к молоденькому врачу с высоко поднятою штапельной блузкою, из-под которой, нацеленные прямо в лицо доктору, высгавились белые груди с тёмными кружками сосков. Но прижать к своему телу молочные губы юноши ей не удалось, вместо этого она прошла, как сквозь воздух, через толщу крепостных стен старинного монастыря и оказалась в келье-палате, где когда-то находилось трое монахов, а теперь человек десять умалишённых женщин.
Совсем в другом краю, вдали от этого Леса, вблизи города С. был построен и просуществовал благополучно более пяти веков некий монастырь. Он действовал вплоть до революции, после чего был закрыт по распоряжению волостного исполкомовца Баранова, который позже был переведён в Радовицкий Мох заведовать всеми сетями уездного коммунального хозяйства. А в горних палатах, трапезной, келарной, в подвалах, во флигелях гостиниц и прочих помещениях монастырского ансамбля через несколько лет разместились процедурные кабинеты, приёмный покой, палаты и камеры психиатрической лечебницы, для специфических нужд которой старинный монастырь подходил удивительным образом хорошо. Ничего не пришлось перестраивать, даже убирать толстые решётки из подвалов брата-интенданта, где раньше хранились прославленное монастырское вино и разнообразные наливки, а теперь запирались связанные и зарубашеченные больные с самым диким, сверхъестественным буйством. Было здесь на что посмотреть – но я проник вслед за одинокой путницей, бесстрашно проследовавшей вечером через мой лес, сквозь толстые монастырские стены в палату, где находились раньше три монаха, а теперь располагалось десять человек умалишённых женщин. Быстренько переодевшись в ночную рубаху с чёрным штампом сзади на вороте, женщина со вздохом облегчения возвратилась из своего двадцатилетнего будущего в родную палату и с тихой радостью легла в казённую постель.
Уже закрыта дверь палаты на задвижку снаружи, и не видно громадной ноги со вздутыми узлами вен, принадлежащей дежурной санитарке Лине, сутки караулящей у входа, а потом двое суток отдыхающей у себя дома. Санитарки на ночь собираются в закутке сестры-хозяйки, где штабелями высятся старые ночные горшки с тёмными блямбами железа там, где скололась эмаль; под молчаливыми горшками за крашеным белым столиком дюжие санитарки пьют чай в своё удовольствие, соорудив складчину из принесённых с собою домашних съедоб; среди них и Акулина-Лина в круглых очках, сползающих ей на кончик потного носа. Это очень добрая женщина – за небольшую плату, всего за десяток крашеных яиц, принесённых на пасху матерью Серафимы Грачинской, санитарка позволяет больной делать то, чего ей делать запрещено. Но доброта существует на свете – Акулина и сама когда-то любила, был у неё муж, который, правда, бросил её ради одной воровки – вора сама, воры вся её семья, расстреляли их на краю леса у деревни Мотяшово…
Уже пять лет, как перевели её в эту палату для спокойных, из них года три она дружит с Линой-Акулинои – но об этих сроках сама Грачинская ничего не знает, потому что перестало для неё существовать измерение времени. Её уже не печалит такая значимая для большинства живущих на земле утрата, как бесполезно истраченная жизнь, представляющая из себя одну сплошную ошибку. Ей почти ничего не известно, кто такая была девочка Сима, подросток Симочка, девушка Серафима, член КИМ и ворошиловский стрелок, мечтающая к тому же совершить прыжок с парашютом. Она даже не помнит о ночном госте в её спальню, домовом, которого надо было зарубить. Прошлое от неё было отсечено ударом топора, а далее ничего не накапливалось, чтобы в свою очередь стать прошлым, – она знала лишь своё имя, которое не менялось во времени, и не узнавала даже свою старую мать, которая приезжала раз в год, под пасху, привозила ей куличик и крашеные яйца.
Даже не было памяти о том холодном и вонючем времени, когда несколько лет она прожила в буйном отделении как животное, за железной решёткою, на грязном полу среди своих испражнений. Голая, лохматая, чудовищно сильная, как дикая обезьяна, она рычала и выла, сотрясая прутья решётки, и оравшие по соседству буйные сумасшедшие примолкали на то время, когда расходилась она. Это ревущее в дикой ярости и тоске страдание, в сущности, беспомощное и беззащитное, как младенчество, уже придвинулось к самому краю своего существования, оставалось ещё какое-то мгновение боли и ненависти, ещё две-три вспышки – и жизнь свалилась бы в яму смерти. Но протянулась из тьмы невидимая рука.
Один из дежурных буйного отделения, возрастом уже старик, состоял на службе недавно, и ему нестерпимы были ночные часы, когда не положено спать и он оставался один в длинном, как туннель, подвальном проходе. Он придумал таскать с собою на службу ящик патефона с пластинками, и в ночное время, когда начальство отсутствовало, страж заводил машинную музыку. Это обнаружил один из дежуривших в ночь врачей, Александр Сергеевич Марин, который не только не запретил нововведения, но и вместе с санитаром стал слушать музыку. И однажды тонко залилась какая-то крохотная женщина, совсем игрушечная, однако такая уверенная и сильная, пылкая и неудержимая. Её поющий голос вполне независимо пронзал звериные вопли безумцев, исторгаемые из таких глубоких шахт ада, что могучая сила диких криков угасала на протяжении пустоты, которая лежала между бездной и жизнью.
Маленькая женщина в своей патефонной комнатке пела, опираясь руками на резной столик карельской берёзы, и вход в её жилище начинался с той железной ямки, которая темнела у задней стороны патефонного ящика. Об этом ясно вспомнила лохматая, опухшая обезьяна, которая в подвале орала более грозно и громко, чем все остальные существа, тоже мало чем напоминающие людей. Она вспомнила и туалетный столик карельской берёзы, в столешнице которой было светленькое пятно, очень похожее на кудрявого младенца. Вспомнив эти две вещи: столик и железный провал сзади патефона, она как бы включила некий слабый ниточный свет в своей голове.
Никому не дала знать, что услышала пение крохотной женщины из патефона, просто замерла, лежа ничком на полу, покрытом бугорками засохшего кала, – и в таком положении неподвижно, совершенно перестав кричать, она пролежала долго, несколько месяцев, – но для неё это было и не долго, и не месяцы, – было просто ожиданием. Тем временем старичок уволился, не выдержав условий новой службы, и патефон свой унёс, но она не знала этого и ждала, притаившись на полу. И в этом ожидании стали возвращаться в её сознание отдельные разрозненные предметы, удивительные частички от чего-нибудь цельного, вроде белой щербины на переносице деда Венедикта Грачинского или одинокого облачка над крышею дровяного сарая. Она села на полу и огляделась. И увидела, среди какого ужаса и безобразия находится, осознала, что совершенно нагая сидит перед множеством прыгающих за решётками существ, и эти страшные звери не что иное, как голые мужчины. Прошлое стало потихоньку оживать в её испорченном сознании, значит, человек – это прошлое, которого уже нет, но оно всегда есть и никогда не перестанет быть, если в нём хоть одну минуту побывал Отец.
Каждая эпоха Леса человеческого содержит некое достоверное очарование для его молодёжи. Это собольи шапочки и парчовый наряд, или государевы ассамблеи, хождение в народ, а может быть, и выщипывание скрученной ниткою бровей, синкопы чарльстона, мотоциклы, Жерар Филипп или, наоборот, Бельмондо – быстротечные и лёгкие, бессмысленные и обольстительные, нужны эти чары для молодости как блеск волшебного зеркальца, в котором всего на мгновение, но так весело и ярко отразится смеющийся лик целого человеческого поколения. Ночной домовой и разоблачение Флютина лишили Серафиму Грачинскую, красивую и сильную девушку, щедро оснащённую для любви и счастья, возможности выступить в живой пирамиде «Серп и молот», где она дерзнула бы стоять самой верхней единицей пирамиды, подняв в руке картонный серп; не пришлось ей и прыгнуть с парашютом. Грачинская вынуждена была вернуться назад в поповский дом всего лишь со значком «Ворошиловский стрелок» на груди. В дальнейшем вся изумительная эпоха предвоенного энтузиазма молодёжи пронеслась мимо неё, как проходит огромный корабль мимо выпавшего за борт и никем не замеченного человека.
Но всего этого не возникло в замерцавшей слабым светом прошлого памяти Симы Грачинской – бывшей Симы Грачинской, которой теперь было что-то около тридцати двух – тридцати трёх лет, но и об этом она не знала. В глубокой задумчивости своей, прикрывшись скрещенными на груди руками, она просидела в углу своей клетки ещё целый год, пока врачи не заметили резко изменившегося характера её болезни. И какое-то время ещё понаблюдав за нею, было решено перевести её в общую палату для женщин.
Одна из них была чайником, другая помещицей, третья набитая тараканами, четвёртая вспышкою ехидного смеха, который прятался у неё под кроватью, пятая Совнаркомом, и ей подчинялся сам товарищ Фролов… и т. д. до девятой. Серафима стала десятой, ждущей маленькую женщину из патефона, – однако об этом никому не говорила, она просто ждала, затаившись, когда опять раздастся этот голос:
Не пробуждай воспоминаний
Минувших дней… минувших дней.
И однажды явилось то, что никогда не умирало, ей исполнилось двенадцать лет, стояли жаркие дни июля с розовыми густыми вечерами, когда она гуляла по опустевшим дорогам, затем сворачивала на луга и одна далеко уходила от дома, наблюдая, как постепенно смуглеет и загорается сено в копнах и свеженамётанных стогах наливается светящейся зеленью тёмный лес за полем, а колокольня и купола храма, тонко и стройно приподнятые надо всем земным вокруг, струятся расплавленными золотыми потоками. Она, гуляя по полям и дорогам одна, задыхалась от благодарного волнения, глядя окрест широко раскрытыми глазами, прижимая к твёрдым и нежным персям раннего девичества бесполезные васильки. Не разумом, а всем пробудившимся существом Деметры понимала она, как чудесен дар этого мира, жизни и её присутствия в этой жизни. И уже не девочка, не женщина, не просто человек – а душа неизмеримая, неопалимая, приникала она к ласковым рукам Отца, который трогал её лицо и волосы. И с подобным приуготовлением в душе подошла девочка к какому-то дому в незнакомом селении, куда выбрела случайно из лугов. Ещё издали услышала она звуки пения рояля и чистого женского голоса, такого же красивого и прекрасного, как золото лугов и тёплое дыхание Отца в небесах. Она перекрестилась, улыбнулась и скорее побежала к дому, чтобы увидеть ту, которая поёт, и вручить ей собранные в полях васильки.
На этом обрывалось то прошлое, что было возвращено ей, а остальное умерло и пока не воскресло, и Серафима Грачинская не знала всего, что последовало за этим июльским вечером и почему она оказалась в палате больницы, на скрипучей узкой железной койке. Ей неизвестно было, что маленькую женщину из патефона, которую она ждала, звали Анастасией Мариной, – это ей подарила васильки незнакомая красивая девочка с удивительными пепельно-золотистыми волосами, внезапно появившись откуда-то у рояля и столь же внезапно убежавшая из дома – в дверь, через двор и через всё выкошенное травяное поле, оборачиваясь на бегу и прощально махая высоко воздетой рукою. И все гости Мариных, и сама взволнованная Настенька стояли у распахнутого окна террасы и, растроганно улыбаясь, махали платочками вслед убегающей загадочной девочке. Теперь она лежала под страшным вытертым одеялом на железной кровати – страшным той бездушностью, которая видна на всяких предметах, употребляемых в человеческих местах, где не бывает любви.
Ей неизвестным осталось и то, что племянник певицы, Александр Сергеевич Марин, подарил пластинку с голосом своей тётки дежурному санитару, когда во время ночного обхода обнаружил того сидящим на табуретке в дальнем углу подвала, где орали буйные, и слушающим патефон. Александр Сергеевич остановился в полутьме и, повесив на пояс халата связку ключей, закурил; под вопли идиотов старина услаждался пением Карузо. Явно любитель вокала, – улыбнулся Александр Сергеевич и докурив, пошёл далее, а к следующему дежурству принёс старику тётушкину пластинку с двумя русскими романсами. И под вой и рёв буйнопомешанных они вместе прослушали нежное исполнение Анастасии Мариной. Так маленькая женщина пришла из того золотистого летнего вечера в полуразрушенную душу Серафимы Грачинской.
Она не открыла в докторе Марине что-либо относящееся к духу чудного пения, но, впервые увидев его, то есть в первый раз обратив на него внимание как на нечто особенное, существующее отдельно и самостоятельно от всех этих горшков, клизм, смирительных рубашек, уколов в зад, санитарок и врачей в халатах – выделив его из ряда ужасной обыденности, почувствовала вдруг пронзительный импульс любви. Внезапно – ведь раньше он не раз на осмотрах подходил к её кровати, но она не видела его, а тут совершенно внезапно: лицо его и серые глаза как бы впервые возникли в пространстве, где находились не только горшки, койки, мухи и страшные санитарки с широкими спинами.
К Серафиме Грачинской каким-то образом вернулась женская хитрость, с помощью которой она принялась потихоньку действовать, чтобы иметь возможность приблизиться к доктору Марину. Когда соседке по койке, чайнику, приходило в голову вскипать слишком часто, врач лишний раз приходил к ней, чтобы осмотреть её, а после увести в процедурный кабинет. Учтя это, Серафима тоже стала мочиться под себя, сидя на матрасе, но её поколотила санитарка, а врач так и не пришёл. И тогда она, совершенно убеждённая, что женщина из патефона находится у врача дома, решила как-нибудь выйти из на латы и сходить к нему в гости. В её разбитом сознании, где постоянно продолжало возникать что-нибудь по отдельности из прошлого, исподволь стали складываться системы понятий, которые в конечном итоге превращались в зачатки мыслей – все устремлённые на поиск выхода из палаты.
Так она обратила внимание на толстую ногу в буграх и верёвках синих вен, перегораживающую дверной проём – это была Акулина. Для Грачинской Акулина была всего лишь ногой, закрывающей выход, – и пришло из прошлого смутное понимание, что если нога очень толстая и её нельзя одолеть, то надо чем-нибудь её расположить к себе. И Грачинская впервые самостоятельно вылезла из-под одеяла, встала с койки. Пошла, озираясь вокруг себя, по палате, и её провожали внимательными взглядами помещица, Совнарком, проснувшаяся чайник и та, чей злорадный смех прятался под её кроватью. Когда Серафима Грачинская почти благополучно добралась до выхода, вскочила помещица и, стоя на кровати, протянув указующий перст к беглянке, приказала: замучить в бане, накрыть половиками и поливать сверху кипятком. Приказ прозвучал слабеньким голосом, но палата словно мгновенно взорвалась: кто-то в углу зарыдал от ужаса, и сразу же тонкий и покатливый, как горошек, смех выскочил из-под кровати и забился в горле седой тощей женщины. Совнарком вскрикнула хриплым голосом: «Фролов! Вызывай команду!», а чайник, воспользовавшись суматохой, мигом совершила своё дело, о чём возвестила ликующим возгласом, хлопая в ладошки: «Вскипятила! Вскипятила!»
Акулина просунула в дверь своё круглое очкастое лицо, наткнулась близоруким взглядом на Грачинскую и спросила у неё ласковым голосом: «Тебе чего, девуля?» Но тут же посоображала и велико удивилась: «Да никак ты сама гулять пошла? Милая ты моя! Ну-ко, иди сюда, иди сюда!» И она вывела Грачинскую из палаты в коридор и усадила её на стул рядом. Так началась их дружба, которая продолжалась несколько лет, но для Грачинской это было не долго и не коротко, санитарка же с добродушной ухмылкой хвалилась за чаем в комнате сестры-хозяйки: «Вот ведь как её приручила! Водю землячку за собою, как собачку какую. Говорить понемногу учу. Я ведь знавала её деда, поп был красивый, и мать её знаю, которая бывает здесь». Серафима же только тем была озабочена, как бы расположить толстую ногу к себе получше, для того чтобы однажды незамеченною юркнуть в дверь, куда обычно скрывался доктор.
И чтобы это сделать, она ждала, когда придёт на дежурство Акулина, встречала её, стоя у двери, затем целыми днями находилась рядом с нею, изредка посматривая на желанную дверь. Покорная своей идее, Грачинская всё, что исходило от Акулины, воспринимала с бесконечным терпением, стала даже заново учиться говорить, хотя этого ей не хотелось. Какая-то неимоверная тоска грубо схватывала её сердце, когда она вдруг произносила какое-нибудь слово, которое словно воскресало на её глазах из мёртвых. Акулина, приходя домой, рассказывала своему брату Савостьяну Кондратьевичу, небольшому, сытому мужчине, который приехал из Москвы навестить сестру: «А сегодня, слышь-ка, Савося, моя-то повторила за мною слово в слово: мол, Валентина Сидоровна сама кусок домой унесла. Сказала всё это и заплакала…» На что Савостьян Кондратьевич, следя за тем, как Акулина режет хлеб некультурными толстыми ломтями, буркнул сестре через стол: «Нашла себе забаву, Лина. Лучше бы поросёнка завела».
…Минувших дней… минувших дней…
Вместе со словами воскресало и прошлое, но только такое, где бывали радость и красота, мелькало присутствие Отца, и всё другое для возрождающейся жизни было мертво и не нужно. Таким образом, новое существование Серафимы Грачинской строилось из материала прошлого, которое равно могло быть отнесено к настоящему или к будущему. Кирпичи вновь возводимого здания были разбросаны по цветущим лугам и лесам всех времён существования – ведь каждая любовь строилась из того же весеннего тепла и цветения, из той же никому не принадлежащей, но присущей всякой душе надежды никем не постигаемой, но всему довлеющей. Ничего не зная о том, что эта надежда существует как океан, а любящие плавают в нём, как рачки или рыбы, скелетами своими устилающими толщу океанского дна, Серафима Грачинская вновь рождалась в мире, словно тот же рачок или рыбина, наполненная световыми импульсами любви.
Но, в отличие от первого, второе рождение души Серафимы Грачинской происходило не в красивой, сильной девочке с пепельно-серыми, с золотым отливом, блестящими волосами, а в неопрятной идиотке с волосами седыми, в мутной перхоти, и столь редкими, что сквозь них виднелась исцарапанная, в струпьях, кожа на черепе. Много лет никто из окружающих не знал о том грандиозном процессе возрождения человеческой души, который начался от единственного сохранившегося в её памяти атома прошлого: пения кукольной женщины, которая жила в своей патефонной комнате, вход куда начинался в железной ямке у задней стороны патефонного ящика. Но однажды врачи лечебницы увидели, среди них и Александр Сергеевич, что безнадёжная идиотка ходит по коридору в тапочках, придерживает отвороты халата на груди и свободно вступает в разговор с санитаркой Акулиной, которая самодовольно посмеивалась и хвасталась, что это она выдрессировала больную и научила её разговаривать.








