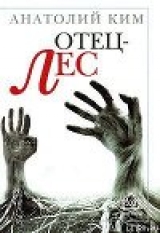
Текст книги "Отец-лес"
Автор книги: Анатолий Ким
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
Но, ничего этого не вспомнив, увидел сей наполовину высохший можжевельник нечто другое: могучее целостное пространство воды, блистающей под солнцем и вобравшей в себя всю голубизну неба – и с такой жадной силою, что вода цветом стала гораздо насыщеннее воздуха – плита лазуритовая океанская, намного тяжелее синью, чем сапфир неба. И я мгновенно различаю эти два качества синевы – нижней и верхней, и с чувством неистового ликования лечу в пространстве меж ними, наполненном щекочущими световыми вспышками, я лечу, лечу в метелице ослепительных светокрылов, яркоплесков, бликороев. Лечу и вижу летящих со мною рядом крылатых длинных рыбок с круглыми вытаращенными глазами, которыми взирают они на меня в весёлом изумлении, так же как и я на них. Они дивятся, каким образом среди них, выпрыгнувших из воды, убегая от преследующей стаи тунцов, оказался вдруг и я со своим странным, ещё не успевшим определиться, таким огромным телом, проношусь над морской водою, словно сгустившаяся тень от громадной тучи, – нет, не просто очень большой тучи, а, пожалуй, целого синемраморного облачного континента, повисшего над самой срединой Тихого океана. Летучие рыбы недоумевали по тому поводу, что я, движущийся вровень с ними на той же скорости, что и они, мог внезапно вытягиваться, уходя головою и хвостом за видимые горизонты, а в следующее мгновение с неимоверной быстротою сжаться в небольшой толстенький шар. Но на излёте своего воздушного путешествия те из летучих рыбок, что следили за мною, успели заметить, что я всё же смог превратиться в одну из них – и вместе с ними шлёпнулся, плеснув, в сверкающую воду и скрылся в глубине океана.
Но я не исчез бесследно – остался пятнышком зрительной памяти на сетчатке глаз Митрохи Лобзова, голубых и невинных глаз восемнадцатилетнего плотника из мещерской деревни, который вместе с артелью под началом Евпалова Никодима, родного дядьки Гурьяна Ротастого, плыл на пароходе вот уж пятнадцатые сутки к заморской стране Филиппины. Ему и предстало, Митрофану Лобзову: одна из диковинных рыбок, летящих по воздуху рядом с пароходом, вдруг вытянулась, ушла головою и хвостом за противоположные края небесного окоёма, затем мгновенно сократилась в сияющую точку. Как и летающие рыбы, Митроха был охвачен великим удивлением, но не могло оно пробиться сквозь накопленное двухнедельное тошнёхонькое его безразличие ко всему на свете.
Жил на Филиппинах русский человек, Поликей Жуков, попавший туда по торговым делам да и осевший там на всю жизнь, – и разбогател он, и захотелось ему в ностальгическом порыве из купленных сосновых брёвен устроить на своём филиппинском ранчо русское имение с большим рубленым домом, амбарами и баней, и выписал он для исполнения такого замысла артель плотников из своего рязанского края. И счастье негоцианта осуществилось, выстроили ему земляки хоромины белые под пальмами, и он долго не давал расчёта артельщикам, насильно удерживал их у себя, чтобы необузданно гулевать-пировать, окрутил каждого плотника самой изнеженной заботой и лаской комнатных девушек, повелел им вместо воды подавать чистого рома… Но, поблаженствовав недельку, взмолились мастера хозяину, чтобы отпустил их домой, поспеть бы через месячишко к сенокосу, и бригадир, с широкой седой бородою, Евпалов Никодим, повалился в ноги дебелому, с рыжими баками, совсем не русского облика негоцианту: мол, отпусти хоть бы и без заработанного, Поликей Софроныч, отвали только на дорогу и отпусти, хозяин, на что тот лишь сердито сплюнул и удалился, а через час слуга пришёл звать закручинившихся артельщиков в контору за расчётом.
И с тем отбыли, рассказывал потом взрослым внукам своим Никодим, бегом побегли в порт, только и успели топоры похватать из-под кроватей да сунуть за пояса, а все подарки, что понадарил нам хозяин, оставили блядям шёлковым, маслом намазанным. Рязанские мужики, ошарашенные невиданным распутством под южными небесами, с великим облегчением восприняли свой поспешный исход как благоспасительную милость господню, так и говорили друг перед другом, крестясь: «Бог спас». И только молоденький Митрофан Лобзов кручинился, уронив голову на грудь, и на все увещания и брань старших никак не отвечал, потому что был согласен умереть, но ещё хотя бы раз оказаться под москитным пологом вдвоём с упитанной, тугой, гладкой девочкой, которая на лицо казалась сущим ребёнком, поэтому не поймёшь даже, красивая или нет, однако губы розовые были на этом детском лице как жгучие пиявки – сочные, подвижные, бесконечно властные. И Митрофан, впоследствии женившись на красивой здоровенной Наде Евпаловой, племяннице Никодима, дочери Гурьяна, прожил с нею тридцать лет, народил семерых детей, умер благополучно дома, как раз перед Отечественной войной, умер лёжа под образами и был снаряжен на тот свет, в гроб, под землю, руками любящей жены – но и в гробу, и под землёю на кладбище, в сосновом лесу, в окружении всех своих родственников, земляков, детей и внуков – и опять-таки возлежа на вечном покое рядом с благоверной Надей своей – не переставал вспоминать и тайно лелеять былое истаявшее сладострастие в неумирающей памяти своей Митрофан Устинович Лобзов.
Однажды, ещё при жизни, он пошёл на Петров день просто так в лес, без особенной цели, перед женою сказавшись, что посмотрит делянку берёзовых дров – и шёл, шёл по заросшей лесной тропе, а потом, почувствовав, что кругом дремота и теснота лесная восстала достаточная, сел, словно упал, прямо посреди тропы и обеими руками обнял и прижал к лицу какой-то хиленький стволик. Грешное желание – восцениваемое им как грешное, преступное, страшное желание, – преследующее христианскую, крестьянскую его душу всю жизнь тайным ползучим аспидом, проникающим всюду за ним, в самые интимные затаёнки его дней на земле, и жалящее в самую нежную и беззащитную сердцевину его мужского естества остреньким загнутым зубом ядовитого нерусского наслаждения, из-за чего он никогда не мог быть счастлив со своей Надей, сколь ни старался, – обо всём этом невозможном и невнятном поведал нестарый ещё женатый мужик чахлому деревцу, выросшему прямо посреди заглохшей лесной дорожки. И этим деревцом оказался жилистый и крепкий, несмотря на хилое обличие, эфироносный можжевельник, душевная исповедь мужика через его учащённое дыхание изошла в воздух мира и смешалась с бодрым ароматом деревца, кору которого пообтёр-таки мозолистой твёрдой ладонью Митрофан Устинович Лобзов, зажав в руке случайно подвернувшийся стволик и в порыве душевной муки судорожно выкручивая его из земли. Но можжевеловое дерево ему выдрать не удалось, а аромат нетравяной, нелесной, аптечный запах содранной можжевеловой коры вдруг проник словно бы в самое сердце мужика и успокоил его, и он мгновенно забыл, о чёём скорбел столь мучительно и сильно минутою назад, выпрямился и, продолжая сидеть посреди дороги, рассеянно оглянулся вокруг, прихлопнул комара сбоку на шее.
Он вздохнул и затем, поднявшись на ноги, отправился в сторону Охремова болота смотреть там берёзовый подрост, годится ли уже на дрова, а спавший на полу под лестницею вестибюля Курского вокзала сморщенный можжевеловый человечек заворочался во сне и, повернувшись на правый бок, успокоился было, по-домашнему водрузив на шею соседу свою руку, которую тот сразу же сбросил с себя и, в свою очередь сердито ворохнувшись, повернулся спиною к непрошеному обнимальщику. Вера Кузьминична, сидевшая рядом, возвышаясь над своим спутником, видела как посягновение на него, так и отражение сего Николаем Николаевичем. И ни ей, ни тем более обоим лежащим перед нею бродягам было невдомёк, что напрасно они столь чуждаются друг друга, ибо происхождением они все от единого Леса и, шествуя ли по томительным дорогам земли или переплывая моря сновидений, они все трое черпали жизненные грёзы из одного общего источника.
Когда я, летя рядом с крылатыми рыбками, вытянулся вперёд и обогнул длинным телом своим чуть ли не половину Земли, затем мгновенно сократился, вернувшись в прежнее своё положение, и, миг побыв летающей рыбкою, стал стремительно уменьшаться далее и превратился в светящуюся точку, которую вскоре упустили из виду рядом порхающие длинные, как ножи, внимательные рыбы, – образовался в результате подобного сверхстремительного пространственного движения мой внутренний резерв времени, независимый от времени земного, связанного всё новыми и новыми путами наворачиваемых по орбите витков никому-никому-никому не известных и ничего-ничего-ничего не значащих годов-годов-годов… Моё внутреннее время таково, что за одну пульсацию гигантского растяжения и затем мгновенного сокращения моего существа в невидимую глазу точку я получаю возможность выбора прожить любое из прожитых деревьями моего Леса мгновений, постигнуть любое блаженство – войти в него, вкусить от него и, подобно осе-точильщице, вылететь из тронутого тела и унестись в неведомые для меня дали.
В концлагере, куда доставили пойманного после побега Степана Тураева, проводил свои научные опыты родной брат коменданта, химик Ф. Бёмер; он изобрёл умертвляющий газ, намного превышающий по мощности обычный «Циклон» и сводивший агонию испытуемого материала до нескольких долей секунд. Газ столь энергично воздействовал на организм подопытных, что тела их мгновенно охватывали чудовищные корчи, за которыми исчезало всякое ощущение боли, и, таким образом, умерщвляемый практически избавлялся от психических страданий, каковые обычно сопровождают процесс насильственного прекращения жизни. Ф. Бёмер доказал уже на тысяче испытуемых преимущество своего газа, производство которого, вернее производство порошкообразного вещества, заключающего в себе газ, обходилось бы для промышленности вдвое дешевле, чем «Циклон Б». Но Ф. Бёмеру не везло, и его старший брат Б. Бёмер, циничный и грубый солдафон, откровенно издевался над своим братиком-химиком, называя его изобретение рвотным порошком, и никак не давал положительного заключения на произведённые испытания «Орхидеи», как поэтично назвал своё творение Ф. Бёмер.
Старший Бёмер, практик геноцида, не признавал «Орхидеи» главным образом за то, что газ вызывал у материала такие сильные рвотные спазмы, что происходил саморазрыв тканей в дыхательных путях лёгких, и трупы все оказывались до безобразия измазаны кровавой блевотиной. К тому же, чтобы привести порошок в действие, надлежало полить его водой, что требовало дополнительных перестроек в существующей технологической цепи, то есть надо было что-то придумывать, чтобы вода, подаваемая в душевые, каким-то образом попала на химикат.
Ф. Бёмер предписывал раздавать входящим в камеру подопытным номерам бумажные пакетики в руки, под видом мыльного дизпорошка, на что Б. Бёмер изрёк: «Всякие психологические уловки я дерьмом считаю, Ф.! В нашем деле нужны только механические действия, прямо ведущие к цели. И лучше всего подходит железный крючок!» Он имел в виду простейший инструмент: отпиленный кусок пожарного багра, которым его любимый палач пользовался для пробивания черепов у лагерников, омертвело застывших в шеренгах на широком утоптанном плацу.
Я вошёл, зацепившись о высокий металлический порог большим пальцем правой ноги, которая была у меня не совсем послушной. Опухшее ниже колена берцо было гораздо толще, чем иссохшие, будто жерди, и словно удлинившиеся бёдерные части мои, где раньше, при жизни, красовались здоровые мускулистые ляжки, поросшие чёрными шерстистыми кущами волос – они одни и остались, длинные звериные полосы на костлявых, без мяса, обессиленных ногах. Вокруг меня стояли, тесно притиснутые костями к костям, удивительно похожие друг на друга, гладко обритые человеческие существа, с такими же глубокими провалами меж рёбер, как и у меня. Глаза у всех были одинаковыми, они не видели того, что было вокруг, вблизи, рядом, не видали других глаз, в которых также застыло глубокое внимание к сути того, что происходит. Каждая пара этих широко раскрытых, неподвижно замерших глаз жила самостоятельной жизнью последнего сверхнапряжения уже бесполезной человеческой души. Она у всех, обритых и заголённых для умерщвления, перешла в глаза, светилась в зрачках. Но это было полное бессилие огней, горевших в виду друг друга, – глаза гениев, охваченных вдохновением, были так же обречены на позорнейшую безответность Бога, как и сверкавшие чёрным огнём огромные глаза непросвещённого цыгана, который последним из нас вошёл в камеру – сейчас, только сейчас мне стало ясно, как и всем, сжатым стенами газовой камеры в плотный тюк скелетов, что всё уже выяснилось – вот сейчас, сей миг. И осталась та же изначальная тоска и правда: Я ОДИНОЧЕСТВО, – и больше нет ничего другого.
Внезапно сверху из дренированных труб полилась вода, холодная и неузнаваемая, словно иное – неизвестное – вещество, мучительным холодом стегнуло по оголённой коже бритого черепа, потекли язвящие струи вниз по коже, обегая костяные выступы и омывая глубокие впадины на телах полутрупов – в пахах струйки сливались в один утяжелённый поток, и вода неуклюжей водяной вервью шлёпалась меж расставленными ногами, тонкой плёнкой растекалась по цементному полу и уходила в дырчатые железные стоки. Погас электрический свет. Вода лилась ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы задействовала «Орхидея», и с трупов, находящихся в вертикальном положении из-за тесноты, была бы смыта кровавая рвотина.
После отключения воды заработала с гулом и воем сильная вентиляция, чтобы удалить ядовитый воздух из камеры, и вымытым холодной водою мокрым номерам стало бы нестерпимо холодно, не будь они столь тесно прижаты друг к другу. Когда вентиляционные гулы замолкли, постепенно удалившись по каналам труб и унеся с собою потоки резиною пахнущего воздуха, настало время тишины неопределимой длительности. Насвежо омытые, обритые, прижатые друг к другу скелеты тихо зашевелились, переминаясь с ноги на ногу, и я в темноте, сдавленный со всех сторон липкой массой мокрых тел, услышал, как зашелестели осторожные вздохи, дрожащие, затаённые, и странно мне было слышать эти звуки живых – ещё содержащих те чувства, которым научился человек за тысячелетия от духа Божия и которые сей миг в полной темноте газовой камеры были отвратительны и жалки своей абсолютной несостоятельностью.
Я понимал, как и каждый скелет, вздыхающий вокруг меня, что мы оставили свои бумажные пакетики с «мыльным порошком» на железном пороге и тем самым не дали задушить себя. Необъяснимым образом стало известно кому-то из нашей партии смертников, каково подлинное содержимое в пакетах из рыхлой бумаги, розданных каждому, и при входе несколько номеров, выстроившись в ряд перед дверью, молча забирали их из рук загоняемых в камеру, и каждый из них мгновенно всё понимал и так же молча отдавал пакетик. Лишь последний загнанный в камеру цыган попытался не отдать, спрятав его за спину. Но когда захлопнулась дверь и снаружи повернулся штурвальчик запора, десяток тощих рук взметнулись к цыгану, как разящие змеи, вцепились скрюченными пальцами в плечи, в горло, в лицо и руки – и почти мгновенно цыган был умертвлён, затем его заломили надвое, и его телом накрыли сверху пакеты с порошком, сложенные на пороге камеры.
В таком виде и узрели братья Бёмеры, Ф. и Б., незадачливый результат первой массовой акции по использованию нового газа: ровно настланные на металлическом пороге пакеты были накрыты сверху изломанным пополам трупом, который собою защищал порошок от случайного попадания водяных капель. Комендант и его брат-учёный стояли во главе небольшой свиты, состоявшей из вооружённых солдат охраны, двух офицеров из штаба химических войск, женщины-врача из научного института насильственного умерщвления, коллеги Ф. Бёмера. Женщина была ещё не стара, ей нравились грубые мужчины, такие, как этот комендант лагеря с перебитым носом; но когда приоткрыли стальную дверь и сразу же наружи вывалилась тощая, волосатая жердь ноги и перед всеми предстал лежащим на пороге в неестественной позе голый мертвец с застывшим выражением последнего ужаса на лице, она всё же смутилась и, потупившись, отвела взгляд в сторону.
Братья Бёмеры, оба толстенькие, лысоватые, стояли рядом и одинаково краснели – наливаясь румянцем с подглазья, затем краснея небольшими пятнами на щёках, а далее переходя в багровую красноту по шее и далее вниз – за ворот рубахи. Ф. краснел, чуть не плача от злой обиды, за то, что судьба опять наслала пакость и неудачу; Б. краснел от стыда за брата и от ярости, что снова тот совершил глупость исключительно по своему противному упрямству и, главное, других заставил поверить в эту глупость. Стоя перед распахнутой дверью газовой камеры, откуда валил тёплый пар с противным запахом мытых куриных тушек, братья начали злобно препираться, как бывало между ними всю жизнь.
– Тебе не газ изобретать, Ф., а трусики шить! – рявкнул, не сдерживаясь больше, старший брат на младшего. – Раздал бы трусики этим треклятым номерам, они живо бы натянули на свои костлявые задницы.
Солдатня загоготала, а дама из института умерщвления прищурилась и с одобрением кивнула коменданту, офицеры-химики переглянулись меж собой. Ф. Бёмер вмиг сорвался на жалкий повизг истерики, чего и добивался (знал он с самого начала) его братец Б. Добившись же этого, он всегда с видом большого довольства слушает крики братовы и улыбается…
– Чудовище ты! Пузан! – кричал Ф. на коменданта лагеря. – Как смеешь! Я офицер! При чём тут газ? Я же предупреждал, настаивал: обливание должно быть тотальным! Струи воды должны идти со всех сторон! Где, где боковые струи, где встречные нижние струи, где? Ты преднамеренно мне всё испортил!
– Вот где, – указуя мужественной рукою себе в пах, ответил комендант, – тут тебе и боковые и встречные.
Солдаты, химики и учёная дама загоготали пуще прежнего.
– Пузан, наглая морда. Двоечник. Ты мне всегда завидовал, – пищал Ф., стоя рядом с братом и, повернув голову, заглядывая ему в лицо. – Из зависти хочешь испортить хорошее дело.
– Сам пузатый, – выставив свой перебитый нос прямо против носа брата Ф., отвечал комендант. – А дело твоё вшивое, скажу прямо, несмотря на то, что ты мой брат. И газ твой вшивый, и внезапность твоя вшивая, потому что вот – сам можешь убедиться, – что из этого получается.
И комендант ткнул пальцем перед собою, в раскрытую дверь газовой камеры, где под жёлтыми лучами лампового света, падавшими из «предбанника», видны были стоящие первыми у входа белой кожей обтянутые бритоголовые скелеты, у которых неподвижные глаза смотрели в упор на столпившихся за дверью солдат и на комиссию с выражением абсолютной нежизни чувств. Скелеты хранили в своих глазах значительность того, что они уже повидали и узнали в черноте камеры. Эта значительность молчаливых скелетов, выглядывавших из дверей душилки, невольно угнетала мелких чиновных людей, что столпились перед дверью, и тогда комендант выкрикнул, напрягая голос и понапрасну сжимая кулаки:
– Я знал, что так будет! Я предупреждал! Никакой внезапности не нужно – это пустые выдумки! – обернулся он к брату. – Они сдохнут и без всякой твоей внезапности. Для чего она им?
– Убыстрение процесса при внезапности акции совершенно убирает период психологической густоты, я ведь тебе объяснял! – скороговоркою выкрикнул Ф., обращаясь, впрочем, в большей мере не к брату, а к двум химическим офицерам и даме-коллеге. – Вот оно, это густое состояние психики, о котором я говорю, полюбуйтесь, – и учёный так же, как и комендант, ткнул пальцем перед собою, указывая в раскрытую дверь камеры.
Там на пороге камеры лежал задавленный, прикрывая своим телом уложенные стопками пакеты из желтоватой рыхлой бумаги: лежал спиною на пакетах, сломанный напополам в крестце, загнутый таким образом, что ноги, обращённые пятками вверх, раскинулись в обратном направлении телу.
– Вот этого не будет, этой стадии предсмертного мрака у подвергаемых акции, – продолжал пояснение Ф. Бёмер.
– Ну и что, что не будет? А если и будет? Какого чёрта тут строить им куры, если ясно одно – надо выполнять плановое задание. Лагерь не резиновый, в нём предписано быть определённому количеству номеров. Куда излишки девать? – горячился комендант.
– Господа, я обращаюсь к вам, потому что господин комендант, мой брат, не способен понимать некоторых важных тонкостей философии, – встал перед комиссией, широко расставив ноги, Ф. Бёмер. – Он не понимает, что густота психики, образующаяся в предсмертную минуту у нескольких сотен или тысяч человек разом, может в некотором роде подорвать нашу идеологию, а также содействовать исчезновению религиозного экстаза, что скорее на руку врагам, нежели фюреру.
– Каким образом… на идеологию… на религию? – ленивым голосом вопросил один из химиков, высокий, стройный и красивый, в очках, в высоких сапогах, начищенных до лакового блеска.
– Тяжёлый психический сгусток, порождаемый предсмертным состоянием, обретает, очевидно, некую субстанциональность, господа, отчего и воздух в тех местах, где совершаются массовые акции, пропитывается особенным запахом – вот как и сейчас, – пахнет, господа, чем-то вроде мытых куриных тушек.
– Брехня! – взорвался возмущением комендант. – Да от них воняет обыкновенным дерьмом и их собственным мокрым мясом, а не твоими вшивыми курами, Ф.!
– Господа, слушайте дальше… – не обращая внимания на брата, продолжал Ф. – Тяжёлый сгусток психики, выработавшись в те секунды, когда всё становится ясным и, кроме смерти, никакой другой истины перед человеком не оказывается (он, то есть номер, заключённый, человек – как угодно называйте его, – вдруг убеждается, что он совершенно, абсолютно, беспредельно одинок), – тогда он способен прийти к состоянию самому опасному, господа. Он почувствует, что никакого Бога нет, что всякая идеология – это пустое место, и, самое главное, почувствует такую враждебность к жизни и тягу к смерти, что вмиг станет внесоциальным существом, в котором образуется тот самый сгусток отрицательной психической энергии. Она, господа, распространяется в виде особого запаха или характерного акустического явления – пощёлкивания и гудения в воздухе или невидимой энергии, затемняющей в глазах воспринимаемые световые волны…
– Господа, здесь не место для выслушивания подобных лекций, – перебил брата комендант лагеря. – Идите в канцелярию, там и беседуйте, я же буду вынужден вас на время оставить.
– Почему вы хотите лишить нас своего общества? – с самыми доброжелательными чувствами молвила дама из института насильственного умерщвления, которой лагерный комендант нравился всё больше.
– Потому что про эти идеи я слышал уж сто раз от своего дорогого братика, – ответил Б. Бёмер, окидывая более внимательным взглядом, чем дотоле, подтянутую высокую даму с хорошими ножками, но с плосковатой грудью. – К тому же ведь надо как-то распорядиться относительно этого испорченного материала, – и он с ироническим видом, несколько театрально, повёл рукою в сторону раскрытой двери газовой камеры, где по-прежнему непристойно валялся на пороге сломленный пополам бывший цыган и за ним в обрамлении дверной коробки виднелись, словно в тёмной картине, ребристые, со впалыми животами, сцепившие на пахах руки, номера с неподвижными глазами, в которых переливался, мерцал сгусток отрицательной психической энергии.
– Наверное, – предположила учёная женщина, с улыбкой полной капитуляции глядя на коменданта, – всю партию надо вывести из камеры и повторить акцию заново, учитывая выявленные недостатки.
– Ха! Ха-ха! – воскликнул Б. Бёмер. – Попробуй выдернуть хоть кого-нибудь из этой мешанины. Они же все прилипли друг к другу, мадам.
– Прилипли?
– Вот именно. А вы не знали об этом их свойстве? Когда их выгоняешь толпой на поле или на край рва или когда… Закрыть! – вдруг спохватился и скомандовал комендант.
Двое солдат бросились к двери, третий с багром наперевес подскочил к ним и сноровисто поддел свисающую с порога тонкую, как палка, волосатую ногу трупа, забросил её назад – и дверь захлопнулась, штурвал запора на ней был повёрнут вправо до отказа.
– Когда загоняешь их в газовую камеру, они все начинают прилипать друг к другу и так остаются, как слипшиеся дохлые мухи, – объяснял далее комендант. – Трудно бывает камерной обслуге потом отделять их, чтобы переправить в крематорий, мадам. И может быть, мой учёный братец кое и в чём прав, когда толкует, словно сумасшедший, об этом самом сгустке психоэнергии… Действительно, было бы неплохо, чтобы они не знали, что их загазуют, а если бы и узнали, то за достаточно короткое время до начала газации. Наверное, тогда бы они не так сильно прилипали друг к другу.
– Благодарю тебя хотя бы за такое скромное признание моих трудов, – наконец улыбнувшись, поклонился Ф. коменданту, и все вокруг увидели, до чего же к они похожи: круглыми головами, короткими могучими ляжками, одинаковыми улыбками – у обоих с ямкою на правой щеке. – Хотя моя теория сгустка психоэнергии стоит, наверное, большего, чем просто твоя похвала. Исключить его возникновение – вот моя цель, и «Орхидея» поможет достигнуть её! Надо продолжать опыты, брат.
– Ладно, в другой раз, пузан, – с грубоватой солдатской ласкою молвил комендант. – А теперь что-то нужно делать с этими. Так я останусь, а вы идите! – И когда комиссия во главе с незадачливым Ф. Бёмером удалилась, вновь приказал солдатам: – Открыть!
Стальная дверь была открыта, цыгана баграми выдернули из смертной его рамы, затем по приказу коменданта были вытащены из камеры четыре ближайшие ко входу номера, одним из них был Степан Тураев. Действительно, страже с большим трудом приходилось отдирать их от общей слипшейся массы смертников, и непросто было также и заставить этих четверых действовать – снимать с вешалок свою лагерную одежду, вновь надевать её, оттаскивать и класть на тележку сложенный пополам, уже не разгибающийся труп цыгана, собирать с порога камеры пакеты с порошком и, держа их перед грудью, нести осторожно под команды конвойного солдата: «Влево. Вправо. Прямо». Все смертники были ещё во власти великого безразличия.
Когда четверо унесли мертвеца и собранные с порога камеры пакеты с порошком и дверь снова захлопнулась – вдруг зажгли свет. Неизвестно для чего – может быть, всё-таки отменят сегодня?.. Но нет же. Мы все знали, что такого не должно быть – разумеется, нам удалось воспользоваться нерасчётливостью учёных и, не дав порошку соприкоснуться с водою, сорвать газацию. Но наше сопротивление на этом могло закончиться, если вслед за этой неудачей последует решение закидать, как обычно, через отверстия в потолке кристаллическим веществом, содержащим старый испытанный газ. Потому что мы знали: раз нас выбрали, помыли и напихали в камеру в столь беспощадной тесноте – другого исхода не будет. Ведь многие из тех, что стояли теперь в слипшейся толпе, служили сами у газовых камер, теперь настал их черёд – так что мы все всё знали.
Когда зажёгся свет, вначале я ничего не мог различить, кроме студенистого серого потока, струившегося перед глазами. А вскоре серое струение поуспокоилось, пошло пятнами – и стало булыжинами обритых затылков: мы все стояли, оказывается, лицом в одну сторону – на выход, и я видел одни затылки с глубокими ямками на шее, под черепом, и с оттопыренными в стороны ушами. Смотреть было не на что, и я начал готовиться. Мне было известно, что газ, которым обычно пользуются здесь, обладает запахом ночной фиалки, и я стоял, стиснутый со всех сторон лихорадочно горящими телами, и, глубоко вздыхая, ждал первого появления этого запаха. Несмотря на то, что полторы сотни замерших в таком же ожидании, что и я, молчащих существ были тесно сжаты в одно костлявое тело, я не ощущал ни единой другой души возле себя – точно так же (как мгновенно прозрел я) никто из этих людей не мог воспринимать ничего другого, кроме своего абсолютного одиночества. Нас уже давно раздели, обрили, спрессовали в одну массу, обмыли холодной водой – и вот теперь обдали густым, удушливым запахом фиалок.
Да, пришёл запах ночных фиалок, и я в темноте сделал то же, что и каждый вокруг меня, – откинул назад голову и широко раскрыл рот. Теснота не давала никому упасть, и мы все, судорожно зевая и испуская хриплые стоны, умирали стоя, и скрюченные судорогой руки наши и ноги сплетались, как в земле растущие травяные корни. Время для нас исчезло, и осталось только одно: Я ОДИНОЧЕСТВО – и должен был появиться над нашими запрокинутыми головами летучий отряд ангелов или им подобных существ, чтобы подхватить нас и унести в другой мир, где небо светится, словно раскалённое стекло, протекает, сверкая, сквозь густую листву тополя – контражур, – и под деревом, единственным на берегу крошечного пруда, столь же яро-стеклянно полыхает отражённое в воде небо, и оглашённо орут утки, кружа по воде, и с крикливой запальчивостью вторит им россыпь мелких воробьёв с дерева. Да, жарко, да, шумно от птиц! Но тихо от безлюдья деревни, через которую идёт дорога на кордон к Колину Дому; ещё не высохла в длинной тени тополя утренняя роса, время ещё и не полдень, но становится уже нестерпимо душно.
Это я иду. Господь мой, через деревню, закинув на плечо ремень берестяного лукошка с грибами, и время близится к полудню, и на ходу, минуя прудок, я утираю рукавом куртки вспотевшее лицо, и предаюсь бесплодному размышлению о том, что, должно быть, мысль человеческая есть проявление особой болезни материи, что-то вроде её горячечных кошмаров, и мысль погубит человека, излихорадив его изнутри, и ничего, кроме странных видеохимер, она ему не откроет. Особенно долго и мучительно она будет изводить его идеей Бога, то ввергая в восторженную деятельность по устроению всяческих систем и машин уловления Его (как алхимики в поисках философского камня), возводя догмы, храмы, церковные каноны, то нигилистически отвергая, атеистически низвергая или погружаясь в сектантское мракобесие. Это я иду, и во мне болеет материя, и несомненно она выздоровеет, когда я сдохну, чтобы не мыслить, думаю я. И не появилось ведь никакой спасительной эскадрильи ангелов над нашими запрокинутыми головами, о Боже, – лишь густой аромат фиалок.
А сегодня утром я вышел из кордона часа в четыре. Свет ещё чуть брезжил на той стороне, где наметился во мгле восток дня, и лишь высоко над горизонтом, там, где кудрявились серым руном небольшие клочковатые облака, тёплые густо-розовые лучи ещё запредельного солнца окрасили облачные волны снизу. Не счесть было этих поднебесных волн, океан надвигающегося на землю света был, наверное, велик и прекрасен, но я шёл, спотыкаясь, в предрассветной полумгле, и мне было не холодно, не одиноко и не страшно – а просто немыслимо осознавать себя зачем-то живым, куда-то идущим и для чего-то принадлежащим к роду человеческому. И прошагав в яром тумане душевной горечи какие-то массивы глухого, заросшего черничником леса, два раза обойдя неизвестное мне болото, я вдруг спохватился, что давно блуждаю по незнакомому лесу, бесцельно прохожу таинственные пространства невидимого мира, и цель моего продвижения по нему отсутствует. Но тут я услышал пронзительные переливчатые звуки, внезапно наполнившие пустоты лесной тишины, признал в них журавлиный крик и, напрямик проследовав к нему, вскоре вышел из полумрака леса на край залитого зелёным солнцем широкого поля. Два журавля снялись и полетели прочь, по широкой дуге огибая видневшуюся вдали деревню. Их было два – летящих в небе, плавно загребая воздух крыльями, вытянув длинные шеи, откинув назад прямые ноги, – их было два, как напоминание мне, что одиночество моё безжизненно и печально, как и загадочные дни и ночи того Бога, которого я когда-то создал по образу своему и подобию – для утешения и самоуспокоения этого одиночества.








