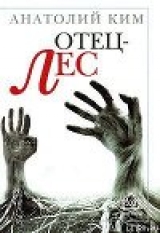
Текст книги "Отец-лес"
Автор книги: Анатолий Ким
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
Так у свежего, ещё белого колодца происходило то, что являлось новым ходом, очередной комбинацией среди неисчислимых замыслов Леса, который творил новую жизнь нехитрым способом, сводя воедино два начала: как бы брал в одну руку женщину, во вторую мужчину и тесно сближал их друг с другом, пока они не соединятся естественным образом в одно целое и не затеплится в недрах этого целого капля новой жизни. Когда рыжая Анисья в дебрях сосняка у речки Байдур искала корову, то уже забрезжила у Леса мысль-надежда, идея, что может появиться на свет младенец мужского пола, которого поп Грачинский, отец Венедикт, окрестит Стефаном в честь излюбленного своего святого апостола-мученика; а когда изжаждавшая баба пила из бадьи у колодца, щедро лия воду себе на грудь, мысль Леса окрепла и надежда его стала почти наполовину исполнимой. Окончательному торжеству замысла поспособствовали две войны, случившиеся у России: с Японией, во время которой под далёким Порт-Артуром был убит муж рыжей Анисьи, а она окончательно переселилась в Колин Дом, и первая мировая, на которую Николая Николаевича могли ещё призвать как отставного офицера и военного ветеринара, но тут отец Венедикт быстренько повенчал Николая Тураева с Анисьей и пожилой дворянин сразу же оказался семейным и многодетным, к тому же Анисья была уже с брюхом, и она не пошла к бабке Овдотье и не ковырнула, а решила для верности рожать ещё одного ребятёнка – так появился Степан, давно замышленный Лесом.
И, понимая наконец свою нерасторжимую связь с Лесом, вернувшийся живым со второй мировой войны Степан Николаевич Тураев расплакался от сложного чувства счастья, почали и бессилия, которое охватило его при виде разрушенного, обросшего колючей ежевикой колодца. Он в то же лето решил вновь отстроить колодец, взялся за топор и пилу, нарезал и натесал новых плах для колодца, благо менять в глубине его оказалось не нужным, ибо старый сруб был до самого дна сложен негниющими дубовыми колодами, – пришлось только четыре ряда спустить под землю, а над землёю поднять срубик в три венца. Но ворот сделать было невозможно: не достать железа на оковы, на рукоять, на ось, не достать и цепи. Степан выстроил и отладил славную систему – журавль с длинной тонкой жердью вместо цепи, с противовесом из дубового пня.
И вновь колодец стал давать чистую воду, которая с первой же пробы так понравилась Анисье, и уже после, привыкнув за долгие годы к ней, не могла она пить иной воды, а когда пришлось покинуть насиженное место, бросить всё и спасать жизнь на чужбине, Анисья на городском житье из всех чувств, связанных с утратами прошлого, сильнее всего ощущала тоску по воде из своего колодца. Оттого и Степану Тураеву, тысячу с лишним дней провёдшему на войне и в лагерях, в плену, не было дня из этой тысячи, когда б не померещилась хоть на миг сладкая прохлада родной колодезной воды.
Новой журавлиной жизнью колодца предполагалось быть временной, недолгой, но потекла вода из неё – и протекла на двадцать с лишним лет, он и забыл вначале, в первые годы на кордоне, что вернулся, собственно, умирать в родные места, а не жить дальше, и вспомнил об этом лишь двадцать лет спустя, когда его старшая дочь Ксения, приехав на каникулы из Рязани, где училась в педучилище, однажды ночью кинулась в колодец, и он проснулся от страшного гвалта двух своих лаек и фокстерьера Пипа, которые кружились в темноте вокруг колодца, дико сверкая глазами, вздыбив на загривках шерсть, и он луч электрического фонаря направил вниз, в черноту колодца, там что-то ворохнулось мокрое, облепленное блестящей тиной, и вдруг на поток света попали глаза Ксении – они сверкнули в темноте, как и у собак, и это звериное полыхание дочерних глаз почему-то больше всего поразило отца. Степан вмиг ослабел, фонарь запрыгал у него в руке, он крикнул, всхлипывая, в чёрный зев колодца: «Миленькая, потерпи! Я тебе щас ведро подам!» – и кинулся, воздев руки в темноте, ловить висевшее над колодцем ведро. В тот раз и переломилось длинное жердевое плечо журавля – когда вверху затрещало, Степан вмиг догадался, в чём дело, потому что во всё время бешеной, напряжённой суеты подсознательно боялся именно того, что старая жердь переломится, а когда это случилось, не стал даже кричать жене, которая тоже выскочила в ночной рубахе из дома и с воем повисла на противовесе журавля, – Степан лишь крепче вцепился в шест и осторожно, пошире расставив ноги, стал на весу выбирать тяжкий груз из колодца… Потом жена увела мычавшую в темноте, ляскавшую зубами дочь в избу, а Степан остался у журавля, сел на сруб и надолго поник головою.
И хотя вокруг была темень непроглядная – но тотчас в его глазах вспыхнуло яркое видение совсем иного света, не принадлежащее никакому времени из всей его прожитой жизни: он усидел пёстрый, мелькающий бал-маскарад, нагие плечи танцующих женщин, которых бережно вели обнявшие их мужчины в масках, и даже грянула музыка. Но тотчас же всё исчезло, и музыка оборвалась на полутакте, в руку ткнулось что-то холодное, влажное поначалу, затем тёплое и лохматое – подошёл с ласкою и успокоением к хозяину фокстерьер Пип – и его хозяин не придал никакого значения внезапному видению, слишком потрясённый только что случившимся несчастьем, непонятным и чёрным. Он ещё ниже поник головою, погладил Пипа и шёпотом стал сокрушаться и упрекать себя, почему до сих пор не собрался устроить добротный колодец на кордоне или хотя бы не сменил старую высохшую жердь журавлиной плечины. Тогда и вспомнил Степан, при каких обстоятельствах он наспех перестроил колодец двадцать лет назад, когда жить ему тоже не хотелось – и всё же нашлись у него силы починить дубовый сарай и колодезь, и вот, гляди-ка, прожито больше двадцати лет, дом новый выстроен на кордоне, жену привёл из Кочемар, народили с нею троих детей, Ксенюшка старшая…
Кроме неё были сыновья Антон и младший Глеб, который единственным из детей оказался любимцем Леса. Антон же, его старший брат, к Лесу с детства имел враждебное, непримиримое отношение, никогда не отходил от избы, а если и удалялся, то только по дороге, – и когда он чуть оперился, то улетел из отчего дома в Ленинград, поступил в мореходку и стал моряком, с тех пор никогда больше не появлялся на лесном кордоне… Редко навещала дом и Ксения, теперь одинокая учительница в совхозе под Боровском, её-то больше всех жалел отец, в особенности после той непонятной попытки утопиться в колодце, и она любила отца и, когда умерла мать, хотела забрать Степана Николаевича к себе, в казённую однокомнатную квартиру с видом на реку Протву, но лесник наотрез отказался и от тёплой квартиры, и от дочериных забот, и от мирной пенсионерской рыбалки на Протве.
Никому нельзя было объяснить, даже любимой дочери, почему он не может покинуть лесной кордон, где странные видения овладевали им и где прошла половина его жизни, которая казалась ему такою же странной, как и те видения – словно бы не он прожил множество земных лет, а кто-то другой. И как будто бы не его была жизненная сила, что заставляла все эти годы ломить работу, строить дом, выходить по чернотропу и первой пороше на охоту, горячо и азартно биться сердце, когда в скрытой теснине леса его лайки поднимали зверя, гулко, набатно оглашая лес чудесным лаем. И однажды не он это стоял, удобно прислонясь плечом к стволу ели, держа наизготовку ружьё, вслушиваясь, как идёт, приближается к нему шквальный треск сучьев, живо представляя, что лось летит напрямик через чащобу молодого сосняка, куда загнали его псы. Ломит без утайки, в открытую, потому что настала для него такая минута, когда ему терять уж нечего, собаки наседают с обеих сторон, суются к бокам и щелкают клыками у задних ног, зная, что лось не может лягнуть позади себя, и нет возможности позволить себе приостановиться и, приподнявшись на дыбы, прыгнуть на собаку, выставив копыта передних ног, а потом наклонить голову и махнуть по широкой дуге перед собою, как косарь косой, разлапистыми рогами над самой землёю, чтобы зацепить ревущего от страха и возбуждения пса…
Нет, это не он, Степан Николаевич Тураев, стоял в засаде и ждал лося, приближающийся шквал его неистового бега, зверь выскочил наконец из соснячка, как паровоз из тоннеля, и помчался прямо на охотника, хотя успел заметить его, – остановиться не мог или не хотел, или совсем ошалел от собак, от шума, от безысходности, – но не шарахнулся в сторону, не свернул, а летел всей глыбою своего бурого тела по прямой, которая должна была пройти открытым местом совсем вблизи человека, шагах в двадцати перед ним… И зверь набежал, охотник вскинул ружьё – щелчок осечки, он перевёл курок – и вновь осечка, а лось был уже совсем рядом, уже с топотом пересекал поляну, кося на него грозно выкаченным глазом. И содрогающаяся гора мускулов на нём, и весь он был как громадное скомканное напряжение, и ком этот, словно лавина, наворачивался ещё большим напряжением по мере того, как подгремел ближе, и человек тоже закаменел в чудовищном напряжении, которое нарастало в нём, недвижном и это был не он, Степан Тураев, и не лось перед ним, а мгновенный сгусток, взрыв той могучей энергии, которая была силой Леса, жаром ноздрей гневного зверя, гулким стуком охотничьего сердца.
И эта энергия, перелившись в его издырявленное на войне тело, вытеснила из него все болезни, обновила кровь и стала повелевать его руками и ногами, его человеческим сознанием, в котором установился иной порядок, чем раньше, иное чувство времени, что прежде ощущалось как пустота и утрата. И тридцать лет, прожитые Степаном в лесу на кордоне, не были для него всего лишь тремя десятками земных годов, пролетевших птицей или промелькнувших как сон, жена Настя, дети, новая форма для лесников, новая лошадь взамен палой, срубленная им самим изба, электростанция на бензиновом движке, установленная в дубовом сарае, яркий свет на кордоне, лампа под колпаком, подвешенная на столб посреди двора, и опять жена, дети – постаревшая, повзрослевшие, – и новенькое шведское ружьё, подарок сына Антона, и ежегодная санитарная рубка на его большом участке – всё это было лишь новыми ветвями в зелёной кроне его жизни, ствол которой погружался в чащобу леса.
И нельзя было теперь вырвать его из сумрачной, сырой чащи, потому что вся сырость Леса, сочащаяся во мшарах, хлюпавшая под ногами в болотах, наполнявшая кадки с солёными грибами, красневшая кровью мочёной брусники, стекавшая росою по узким листьям осоки, выбегавшая липкими струями из ран берёзы – влага Леса и явилась той кровью жизни, которую он получил взамен старой, подгнивающей, доведённой до изнурения тысячью с лишним днями воины. И он впредь не мог существовать так, чтобы его личная, Степанова, алая кровь была отделена от лесной влаги, от воды в колодце, журавль над которым он обновил крепким шестом, так и не удосужившись устроить ворот с цепью или со стальным тросиком, как стали впоследствии делать это в деревнях.
Оставшись один без жены Насти, которую он отвёз назад в Кочемары и там похоронил на родном погосте, Степан повёл прежнюю жизнь, – но уже была она без кудрявой кроны, с обломленными ветвями, и ствол этой жизни глубоко задуплился, в нём завелась многочисленная насекомая живность, ковырявшая плоть древесины. Какой-то мохнатый зверёк поселился в дупле и стал бегать ночами вверх и вниз по стволу, Степан ощущал на себе острые коготки, и беспокоил его едкий дух зверушечьего гнезда, от которого исходила невнятная угроза всему древу Степановой жизни. Словно оттого, что внутри этой древесной жизни завелась жизнь чужеродная, хищная, хитрая, – старый лесной исполин словно оказался кем-то и как-то отмеченным, во всяком случае крошечный зверёк поселился в дупле ни у кого не спрашиваясь, расположился вполне по-хозяйски и преспокойно посиживал там, сверкая глазками-бусинами, и наглая его уверенность в том, что можно поселиться здесь как бы на вполне законных основаниях – эта небоязнь маленького хищника особенно смущала Степана, когда ранними осенними вечерами дремал он на тёплой печке, подложив под голову обмятый старый валенок.
Да любил ли я её когда-нибудь, вдруг явственно слышал он некий голос, и тогда, обеспокоенный непонятным вопросом, исходившим Бог весть откуда, Степан садился в темноте и, свесив босые ноги на казёнку, нашаривал папиросы, спички, закуривал, дышал едким дымом «Прибоя», кашлял, сплевывая в темноту на пол, и озабоченно качал головою – ибо снова слышал звучащую речь, с печалью разъяснявшую, что нет, наверное не любил, потому что видел её всего один раз и даже не мог хорошенько уяснить себе, что она за человек и добра ли, умна ли, а может быть, вовсе не добра и не умна, да и собою хороша ли – не успел как следует разглядеть. Но если всё это так, согласно здравому смыслу, то почему же я так мучаюсь по ней всю жизнь и так несчастен, а может быть, это я вовсе не по ней тоскую, а просто гложет мне сердце могильный зуд и темнота тьмы, куда все попадают в конце концов, – это она застилает глаза раньше времени. А я желаю видеть некий свет, образ спасения, которого не будет, нет и не может быть, и это не беззаконие, а просто ничто, пустота и какой-то нудный, вечный, непрекращающийся процесс, куда и я вставлен со всеми моими терзаниями, тоскою, всеми глупыми словами, которые произнесу за свою жизнь, – со своим могильным зудом и дворянским происхождением, с нехваткою четырёх зубов на левой стороне верхней челюсти, с широкими ноздрями тураевской нашей породы, со всеми своими мечтами о счастливой жизни мудреца, уединившегося в лесу…
Изнемогая от тягостных чуждых слов, доводящих его до умоисступления, бессонный Степан ворочался на печи и незаметно втягивался в собственные размышления, не менее тягостные и тоскливые: ну ладно, Ксюшка баба, притом незамужняя и одинокая, ей в лесу нечего делать, вон даже в колодец кидалась, у неё своя жизнь не задалась, – а вот сыновья-то могли бы чаще проведывать отца. Антона вообще не видел с тех пор, как умотал он, только прислал через Глеба шведское ружьё, а я его смазал и держу на тот случай, когда он сам приедет, Антоша, может, на кабанов сходим вместе или на слепую ночную охоту. А как же быть с целью, которая для меня так ясна – слышал далее Степан чужое, – с отсутствием всяких желаний, с достижением полного недеяния, как учили китайцы древности? Когда же я, наблюдая всё то, что происходит вокруг и называется жизнью, смогу наконец удовлетворённо сказать самому себе: ну вот я и свободен, кажется, потому что я достиг такого духовного состояния, когда нет уже во мне никаких желаний и я больше не раб подлого хозяина, который так мучает нас, прежде чем сунуть головою в помойное ведро с какой-нибудь гадостью, от которой и умереть.
Про слепую ночную охоту знаю, однако, только я один, наверное: и представлял Степан выход в лес где-то уже к полуночи, когда зверьё вылезает из чащоб на дороги, поляны и широкие луга, чтобы погулять, как люди гуляют в городах на площади или по широким проспектам; когда бредёшь осторожно сквозь темень по известному редколесью, но такому жутко незнакомому в ночи, и тишина вроде бы совершенно бездушная, под ногами хрупок-хрупок-хруп – похрустывают мелкие ветки; и вдруг мимо как шарахнет что-то огромное, как холм, неясное, чуть чернее ночи, но такое стремительное и могучее, что вихри воздуха рождаются за ним следом, и только ветки на дереве качаются, слышно, как они встревоженно шепчутся и постепенно притираются друг к дружке, вновь устраиваясь на ночной покой; никто не ходит на слепую охоту, нет, не слыхал я ни от кого, чтобы так же ходили, как и я. Антошку бы сводить разок – он леса боится, и днём-то боялся по лесу ходить, не в меня пошёл, хотя ростом и силой такой же, как я.
Ох, не знают люди, что цель эта неимоверно трудная, ведь отсутствие всяких желаний есть смерть при жизни, а если ты здоров и ещё полнокровен, то каким же образом можно победить это здоровье? А никаким, злорадно отвечал про себя Степан чужому звучащему голосу: самого себя не одолеть, всё равно тебе захочется чего-нибудь – например, хотя бы покурить, и ты побежишь за табаком хоть на край света. Но ведь то отсутствие желаний, которого должно добиваться философу, не есть механическое отсекновение от себя всяких естественных желаний, наоборот, – лишь удовлетворив всё алчное в себе и всю меру страстей изведав, философ может сказать себе: я это уже знаю и я этого больше не хочу. Правильно, соглашался Степан, вот и сводить Антона на слепую охоту, чтобы он изведал такую страсть – потом он и бояться перестанет леса, будет ходить туда со спокойной душой и днём, и ночью.
Вот я не изведал любви, не потому ли столь мучает меня образ этой женщины; и душа моя не потому ли томится в безысходной скорби, предощущая могильный зуд; а ведь я тоже не изведал любви, ну и что, никакой зуд меня не мучает, и я Настю вспоминаю каждый день не потому, что уж так её любил, а потому, что вместе прожили жизнь, народили детей, а теперь я остался один и мне трудно доживать век свой без неё. А как я ругал Настю при жизни: и дура она, и неряха, и неумёха бестолковая, сколько лосятины и кабанятины притаскивал домой, а она запихает мясо в бочки, протухнет там у неё, потом только собакам на корм годилось, а ведь можно было и накоптить, и тушёнку завернуть в банки, как это делалось у других, – но на кой нужна была мне тушёнка или свинина копчёная, если суждено было Насте помереть, а мне жить без неё, и я вез её в гробу на телеге до Кочемар, чтобы похоронить рядом с её родителями, которые умерли, когда она была ещё маленьким ребенком, – о чём она просила меня перед смертью.
Мужчине потому надо испытать большую любовь к женщине, что она, эта любовь, открывает душе наивысшее ощущение бытия, вполне уравновешивающее все неудачи и несвершения его реальной земной жизни. Это великая надежда, которой, может быть, не дано сбыться, но которая путеводит им, как яркая звезда в ночи… В лоб тебя этой звездой, какая там яркая звезда, ежели я вёз Настю по лесу, телега подпрыгивала на корнях, голова Настина стукалась в гробу, и я говорил вслух, как будто она слышать могла: «Прости меня, Настя. Прости меня, собаку». А взять тех санитарок на фронте, с которыми мы, связисты, зиму спали в одной землянке? Какая там большая любовь, звезда яркая, когда я дрых рядом с ними – и ничего во мне даже не шевелилось, и ничего самой тёмной ночкой не бывало, и только наутро они подымались раньше, чтобы успеть одеться до нас, мужиков. Одну тоже Настей звали, убило её, другую Катей, тоже убило, а третья, Верочка, сухонькая такая и маленькая, синеглазка, замуж вышла за лейтенанта из Челябинска, одна жива осталась.
И Степан в темноте сползал с печки, надевал на босу ногу резиновые калоши, ощупью шёл к двери и выходил во двор, где была темень, хоть выколи глаза, но он пробирался уверенно к колодцу, чтобы черпнуть свежей воды и попить. А вокруг стоял чёрной стеною и дышал холодом ночной Лес, бестрепетный, тысячеглазый очами затаившихся зверей, птиц, деревьев, угрюмых лешаков и тихих речных плескинь, которые выходят из омутов на землю, чтобы погреться и несмело полетать в туманных парах, текущих вдоль опушки леса. И Николай Николаевич Тураев тоже выходил из дома, истомлённый бессонницей, шёл к колодцу, чтобы набрать той же воды и попить, он доставал её деревянной бадейкой, наматывая цепь на ворот, а Степан доставал ведром, наклоняя журавль и перебирая руками по тихо уходящему вниз шесту, стоя на том же месте, где стоял его отец; но не задевали широко расставленные Степановы ноги, обутые в калоши, отцовых ног, обутых в мягкие войлочные бурки, и не налетал шест журавля на колодезный ворот, не сталкивались, громко лязгая, помятое оцинкованное ведро и окованная железными обручами тяжёлая бадейка, не лилась зря разливаемая колодезная вода, одинакового химического состава, но разных времён. И возвышалась посреди поляны тёмная глыба нового барского дома, углами крыши подрезая едва заметную, призрачную синеву ночного неба, и стояла там же, на поляне, островерхая изба кордона, небольшая, но в темноте казавшаяся массивной и объёмистой, и светила над домами одна и та же яркая звезда, на которую смотрели отец и сын, не видя, не ощущая друг друга, ибо между ними была та странная пустота, что называется временем. И отцу в ту бессонную ночь, когда он тоскливо и мечтательно смотрел на звезду не было ещё и сорока лет, а сын, слезящимися глазами уставившийся на неё, был шестидесятидвухлетним стариком.
А вокруг них стоял на корнях не шелохнувшись чёрный мещерский Лес и потихоньку вбирал в себя их тёплые жизни, растворяя во влаге своего чрева и постепенно превращая каждого в обыкновенное дерево, каких много в густой чащобе. Но по мере того, как это происходило и с одним из Тураевых, и с другим, в том же влажном чреве Леса зародилось ещё одно независимое движение, возникла самостоятельная воля. Внук Николая и сын Степана, математик Глеб Тураев часто приезжал на Колин Дом навестить отца – и в молодости, сразу после службы в армии, и в студенческие годы и в секретное своё время службы в системе, разрабатывавшей Оружие. И ничего плохого с ним бы не произошло, постепенно забрал бы его Лес обратно к себе, выросло бы новое деревце в тенистой чащобе, – но случилось так, что я обратил на него внимание в тот миг, когда он подходил, протягивая руку, к двуединой сосне с лирообразными изогнутыми стволами; он должен был прикоснуться к дереву – и тем самым вновь соединить Лес мещерский с душою Николая Николаевича Тураева, его деда, который умирал на земле, под стеною какого-то ремонтного дома в переулке Москвы около Преображенского рынка. И умирающий человек вдруг осознал со всей ясностью, что у него есть Отец, и имя ему – Лес.
Для Глеба Тураева его отец Степан Николаевич и был Лесом, и для Степана его отец был Лесом, но для Глеба Лес представлялся близким, в узлах корневищ и глубоких бороздах морщин по корью дубов и обомшелых лип, с золотистой чешуёй загара на лбу, как стволы вековых сосен, уходящих косматыми головами в самое небо. А для маленького Стёпки его тятя-барин всегда был дальним Лесом, окутанным в голубой туман, и дорога к нему шла через широкое неизвестное поле. Чаще всего вспоминался Глебу отец в мокрой тяжёлой одежде, с каплями дождя на лице, с прищуренными синими глазами, внимательно и чуть насмешливо смотрящими с высоты, из-под низко надвинутого козырька кепки, и этот вид набухлой сырости одежды вместе с ощущением огромной высоты, с которой смотрели отцовские синие глаза, как просветы ясного неба меж деревьями, и были для сына тем чувством Отца-леса, которое пришло к нему с первосознания.
Стёпке же, последнему из детей Николая и Анисьи, отец всегда представлялся проходящим мимо или уходящим куда-то вдаль, даже тёмные глаза его, останавливавшиеся на маленькой фигурке сына, вначале смотрели рассеянно, мимоходом, и затем погружались в туманные дали своей затаённой мысли, куда не было доступа его малым детям, как и в те зубчатые леса, что виднелись на синем горизонте. Барин-отец совершенно не вникал в дела своей детворы, которыми полностью занималась одна лишь мать, даже и помещалась с ними в отдельной половине дома, рядом с кухнею, и дети никогда не заходили в покои отца, состоящие из трёх комнат с общей для всех большой голландской печью. Туда маленькому Степке не было доступа, как в чужой неизвестный лес, синеющий за полями, и он привык к тому, что отец никогда не обращался к нему со словом или делом, просто существовал себе в своей отдалённой недоступности, со всеми своими неизвестными дебрями, полянами, извилистыми дорожками.
С годами отдалённость отца всё увеличивалась, и сам он казался подрастающему Степану ниже, незначительнее, неинтереснее, в особенности тогда, когда они стали жить в городе, в единственной на шестерых комнате многолюдного барака, и отец спал в закутке позади посудного шкафа на коротком пузатом диване. Синий лес совсем исчах, растаял за набежавшими горизонтами иной жизни, и лишь в глубоких омутах Степановой памяти всё ещё сохранялся, синел далекий и таинственный прежний лес.
А когда отец совсем покинул их и уехал в Москву с какой-то старой, оборванной, похожей на нищенку женщиной, десятилетний Степан, единственный из детей проводивший отца до парохода, остался на пристани с чувством какого-то облегчения, словно произошло именно то, что должно было произойти как необходимое и долгожданное разрешение тайной и неизбывной муки всей жизни семьи. Живой отец навсегда исчез, сгинул где-то в Москве вместе со своей спутницей-оборванкой, но тем заманчивей и прекрасней всплывал над туманами утра далёкий зубчатый лес, навсегда оставшийся в душевной памяти сына, – и он впоследствии смотрел на все дальние леса с чувством тоски и влечения, безнадёжной нежности и стойкой верности сыновней любви.
К своим появившимся после войны детям Степан Тураев относился с исконным чувством недоступного душевного томления и глубинной сильной тяги к ним, хотя они были у него всегда под рукою, рядышком, и он имел возможность любого взять на руки и приласкать: Антона, Глебушку, Ксению. Но не мог он этого делать, ибо никогда не знал тех простых и удобных дорог любви и близости, по которым ходит человеческое кровное родство, сплоченное семейными инстинктами и обычаями. Жизнь на кордоне, крестьянская, труженическая, обособленная от мира, держала Степана в кругу привычных забот, одних и тех же из года в год: огород, картошка, скотина, сенокос, лесные работы, охота… Но была совершенно невидимая и отдельная жизнь его души, которая сильно отличалась от внешней, вполне благополучной и обыденной. Внутри этой отдельной незримой жизни тлела непроходящая боль, которая выросла из необычного детства, окрепла в одиночестве юности, набрала могущества в буднях фронта и плена и стала невыносимой к тому времени, когда Степан был отпущен с войны. Смерть была бы закономерным завершением этой его неимоверно возросшей боли, но он неожиданно для себя выжил – и по прошествии множества лет, когда сам стал отцом семейства и должен был ломить работу, боль эта перестала править его жизнью, но как бы обрела в ней самостоятельность и устойчивую отчуждённость.
Он не мог бы определить, что это за боль, как мог определить сын Глеб, назвав её для себя незаживающим ожогом сердца, или его отец Николай Тураев, философ, определивший её как всеобъемлющую муку материи, в человеческом варианте выраженную неподвижной душевной тоской, которую Николай Николаевич с философическим сарказмом называл могильным зудом. Как-то на пути к своему лесному дому Николай Тураев чуть не вывалился из тарантаса – слетело переднее колесо и укатилось вперёд по дороге, нужно было слезать и попытаться найти выпавшую из оси чеку, потом пристроить назад колесо. Но, охваченный раздумьями о проклятой муке материи, свойственной не токмо живым существам – и для укатившего колеса тож – Тураев и не подумал сдвинуться с места, а надолго остался полулежать на передке завалившегося тарантаса, лишь сместил ноги и упёрся ими в доску боковины, чтобы не выпасть на землю… Он обычно погружался в сонное оцепенение и ложился куда-нибудь, Степан же неистово кидался в работу, чаще всего колол дрова или, схватив ружьё, бежал на охоту, а Глеб замолкал на полуслове и опускал глаза – если незаживающий ожог сердца вдруг напоминал о себе среди приятельского разговора. Глеб боялся обнаружить себя тяжёлым мертвенным взглядом, какой, он знал, бывал у него во время этого отвратительного и ненавистного для него приступа; отец же его, Степан Николаевич, обрушивал раз за разом колун на ровно отпиленные чурбаки, которые разлетались как от взрыва, – однажды он наколол, не разгибаясь, десять кубометров берёзовых дров. Он не ведал тревоги или стыда за свой душевный недуг, как его сын или отец, – Степан страдал неосознанно, неимоверно, на ходу, на бегу, в порыве неистового действия, в отличие от отца своего, которому хотелось в такой миг «забыться и заснуть». Заснуть или гнаться за зверем, кричать или тихо плакать – всё равно запиралась эта боль в безысходном одиночестве души, которого не разделить было ни с другом, ни с женою, ни с Богом.
И нигде, как только в лесу, каждый из этих Тураевых получал облегчение, гуляя ли с тросточкой в руке по затенённым извилистым дорожкам, ставя ли капканы на звериных тропах или собирая по светлому редколесью благородные грибы. Лес не вступал с людьми в разумные успокоительные беседы, не насылал чудес и многозначительных видений, не врачевал язвы сердца целительным бальзамом, – Лес растворял их души субстанцией, в которой не было ощущения быстротекущего времени, разлагал их волю к самоутверждению и превращал каждого в такое же послушное и безмолвное существо, как дерево, кустик черники, затаённый под слоем палой листвы гриб. При этом человек не становился ни счастливее, ни разумнее или глупее, – но он жил и дышал всей глубиною необъятной зелёной груди тысячелетнего Леса.
Ветеринар Тураев-старший как-то вырезал из-под кожи гнедого полкового жеребца непонятного происхождения желвак, в котором оказалась массивная золотая серьга, зашитая, должно быть, каким-то контрабандистом в лошадь – вся вещица обросла диким мясом, образовав изолированную капсулу, мешочек для содержания инородного вещества в теле лошади; подобные мешочки обнаруживал и его сын Степан в тушах убитых лосей и кабанов – покоившиеся в зверином мясе пули и картечины, всаженные неудачными выстрелами охотников; внутри же организма Леса клубок едкой человеческой тревоги обволакивался слоем безмолвия, влажным по отпущению: и долгими часами бродившему по чащобам Глебу все невзгоды его и брошенные дела казались незначительнее комара, впившегося в скулу, а берестяное лукошко с грибами, висевшее на широком ремне через плечо, гораздо тяжелее самой мрачной беды.
В лесу Глеб Тураев искал не грибов – они росли на опушках, полянах, на прогретых дорожках, – в глухомани же еловой, в бурых теснинах дикого сосняка, в чащобе сырых лип и в берёзово-осиновых дебрях Глеб вбирал, словно пил, всей грудью влажный настой леса и этим врачевал «ожог сердца», потому и бродил он долгими часами без цели и направления по самым мрачным, скрытым трущобам леса. Дед Глеба, Николай Николаевич, во влажном дыхании растительного царства искал струю вещественности, поток экзистенции, что унесёт его самоощутимое одинокое «я» прямо в океан Наджизни, где независимо от течения времени пребывают неразделёнными дух и материя, сущность и его отражение, субъект и объект, путь «дао» и совершенство «дэ». А сын философа, лесник Степан, питался лесным духом, словно младенец материнским молоком, – по отношению к живой прохладе древесного дыхания на земле и остался он навсегда бесстрашным и беспомощным младенцем, которого нельзя отнять от груди – иначе погибнет.








