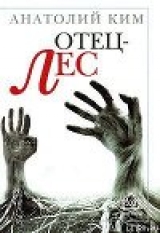
Текст книги "Отец-лес"
Автор книги: Анатолий Ким
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
И в этот общий час приобщения к тому, что вечно и истинно, мы опять говорили друг с другом, опять поминали какие-то возвышенные материи, в то время как смерть, словно крыса, уже наполовину стащила нас в свою тесную нору. Разумеется, когда она окончательно затащит каждого, час нашей чудесной «свиданки» кончится, и далее, как говорится, тишина, – в которой крыса грызёт, грызёт – с хрустом да так громко, что тому, кто слышит её, уже не уснуть в эту ночь.
Я лежу под оббитой до красного кирпича цокольной стеною, широко разеваю рот и хочу вдохнуть воздуху, но воздух, Андрюша, нейдёт в грудь по опавшим путям воздушным, я хриплю, дёргаюсь, пытаясь пошире развернуть грудную клетку, хватануть воздуху, и только теперь, в эту беспомощную свою минуту, начинаю постигать всю красоту твоих мечтаний, брат. Да ведь социальная справедливость – это чтобы дышать, дышать можно было бы полной грудью, социализм же твой, Андрюша, это беспредельный океан самого свежего, самого чистого воздуха, дышать которым могут равноправно все. Но где взять этого воздуха, брат? Его нет, и у меня темнеет в глазах, в висках стучат молоты – и вдруг ты идёшь ко мне, уже давно идёшь и что-то такое ещё издали говоришь, жестикулируя руками, и лет тебе трицать пять – сорок с виду.
Что я говорю тебе? А рассказываю, Коля, как случилось со мною нечто странное в жизни, случилось два года спустя после смерти моей Тамарочки – странное и страшное, наверное, потому что за мой поступок меня до полусмерти избили и посадили в тюрьму. Итак, умерла Тамарочка, я остался один в своей коммунальной комнате. У соседей было двое детей, молодые соседи были, вдруг заболевает хозяйка и попадает в больницу, муж на работе, мелкий чиновник, младшего ребёнка отдают в недельные ясли, старшая девочка пошла в школу, её надо после занятий кормить дома обедом – и я соседу предложил свою помощь. А что? Я мог готовить и кормить девочку, она была хорошенькая, полненькая, послушная, со своими затаёнными фантазиями, которым отдавалась где-нибудь в укромном уголке, что-то шёпотом говоря себе, покачивая головкою и водя руками в воздухе.
Я стал готовить обеды и кормить её за небольшую плату, рубль в день, отец её был доволен, мне нашлась добрая забота, дело пошло хорошо. И вдруг однажды я понял, чего мне хочется… Я умираю, Коля, в полной ясности сознания, у меня рак желудка, прожита длинная страшная жизнь, я на семь лет пережил тебя, брат. Вот и скажу тебе: мне захотелось, и однажды я сделал это, а потом продолжал делать, благо девочка молчала. Но как-то раз отец её, вернувшись ненароком домой, застал меня совершенно голым перед девочкой. Он был молод, силён, к тому же я вовсе и не пытался защищаться, так что избил он меня крепко, ох крепко, меня вынуждены были отвезти в больницу. Там я постепенно выздоровел, после чего, Коленька, и предстал перед судом – но как только после суда поместили меня в пересыльную тюрьму, то стал я сильно слабеть, меня снова положили в больницу, и обнаружился рак желудка. В общем, всё какая-то дрянь, разве так я предполагал закончить свою жизнь?
Женившись, я во всю совместную жизнь никогда не видел жену голою, а только в её заношенных платьях и костюмах и в этих ужасных ночных рубашках до пят, с тесёмочками завязок на груди. Видел же я нагую женщину только один раз в жизни, это была Лариса Петровна Зайончковская. Нет, она не любила меня, да и как могла бы полюбить носатого, скучного и некрасивого человека эта холёная, умная красавица? Муж – офицер, петербуржец, герой Порт-Артура, носил пышную бороду надвое а-ля адмирал Макаров, зачем же она мне отдалась однажды осенней ночью? Я приехал к ней с визитом, дело обыкновенное, она же сказалась больной и попросила меня съездить к соседям, к доктору Марину, за астматическими палочками, я тотчас же повернулся и поехал. И через час привёз эти палочки… В доме никого не было, она же кликнула из спальни, велела пройти к ней.
Когда я едва не умер от этого наслаждения, от этой красоты и неожиданного счастья, никогда не подозревавший о такой полноценности и силе нежного женского тела, Зайончковская вдруг проговорила: «Но какой же вы скорый, однако», – и, отодвинувшись от меня, повернулась лицом к стене. А я лежал на краешке постели и не знал, Коляня, что же мне дальше делать, я не посмел попросить повторения, настолько был смущён, однако Лариса Петровна спокойным и ласковым голосом сама попросила меня, чтобы я оделся и сходил бы в людскую за горничной Любашей. Больше от неё ничего никогда мне не было, а я, если помнишь, в те дни загулял с наезжими охотниками из Касимова, и мы пропьянствовали от Покрова чуть ли не до Михайлова Дня.
Брат, скажи мне в этот общий для обоих час: зачем мы с тобой прожили со столь непостижимой неловкостью свои жизни? Но ведь хотелось же каждому из нас провести эту жизнь как миссию великого предназначения, и одному представлялась эта миссия в делах суховатой, деловитой любви к народу, а другому виделась дорога в лесу, которая приведёт того, кто напряжённо мыслит, в страну бессмертных, совершенно не похожую на Россию, Европу или даже Америку.
Но послушай, брат, – Ларисе Петровне, повернувшейся ко мне розовыми шарами своих ягодиц, а лицом к стене, где висел роскошный персидский ковер, – Зайончковской не пришлось заглянуть в мои глаза и приметить в них искажённую улыбочку неприглядного лицемерия. Мне хотелось, чтобы она оглянулась на меня, Коля, но этого не произошло, а я не осмелился сам призвать её. И далее всю жизнь мне затаённо хотелось только этого одного, и не может человек, несущий в себе столь гнетущее желание, приносить пользу обществу, помогло, брат мой Коля, всё то, что делал я в девятьсот втором году в земстве, принести для крестьян уезда пользу, ежели в тридцать шестом году, в самый разгар сталинизма, я впотай демонстрировал маленькой девочке свои обнажённые срамные части. И теперь, когда я умираю в тюремной больнице, знай, страдания мои велики, мне горько осознавать, что вся долгая, долгая мучительная жизнь моя была предназначена для осуществления этой мелкой пакости, и я теперь не знаю не только того, для чего надо было мне жить, но и того, для чего теперь надо умирать с такими тяжкими мучениями. Только тебе могу сказать, потому что ты уже давно умер: то, что произошло со мною, может случиться и с каждым. И может статься, что за всеми декларациями какой-нибудь новой империи добра таится, Коленька, всего лишь некая мелкая страстишка какого-нибудь пакостного старика.
Мир справедливости не может быть построен, если его будут возводить такие же мелкие страстотерпцы, как я, и ты имел в виду это, наверное, когда говорил, помнишь, что я всё-таки хочу чего-то другого, а не социального рая для своего народа. Ты был прав, брат Николай: именно такие, как я, стали рьяными строителями Вавилонской башни, поэтому она должна была рухнуть.
А что было бы, брат Андрей, если Деметра в то мгновение, когда решалась вся твоя судьба, оглянулась на тебя? Галки слетели бы со своих вётел, окружающих старинный помещичий дом с колоннами, дикие сизари слетели б с колокольни церкви и закружились над крышами, забрехали в деревне собаки, и чёрный, косматый бородач Агапён Курин, далёкий потомок лесного разбойника Кури, ехавший на обшарпанной навозом и глиной телеге, отрыгнул бы в прохладный воздух горячим сивушным облачком да подпрыгнул на заднице, взмахнув локтями, когда колесо тележное с маху наскочило на придорожный камень… Что было бы, Андрей Николаевич, если башни наших человеческих судеб возводились по законам светлого счастья, предначертанным космическими небесами?
Агапён Курин тогда не забил бы до смерти своего кума, горбоносого озорника и вора Гришку, железным шкворнем, галки по-прежнему летали бы над ветлами, и дикие голуби водились под крышей колокольни. Маленький мальчик, нечаянно забежавший в пустой храм, увидел бы Хозяина сего дома, и Тот не стал бы наказывать ребёнка за его дерзость. И можно было успокоиться на том, что Вера Кузьминична Козулина, в девичестве Ходарева, умерла не в коридоре переполненного корпуса Боткинской больницы – подобранная милицейским патрулем в Хлебном переулке, в подворотне дома № 17, – а скончалась на руках человека, который всю свою жизнь любил её как богиню. И бывший Николай Николаевич Тураев, ныне по имени Никто, вовсе не оставил её валяться в подворотне (ушёл, даже не оглянувшись) – нет, он по рассеянности вначале не заметил, правда, отсутствия рядом привычной своей тени, неизменной спутницы по московским бродяжьим кочёвкам, но вскоре хватился её отсутствия и отправился назад. Филиппинский же русский богач не вернулся из Европы на Филиппины, а поехал вместе с новой женою, певицей Анастасией Мариной, к себе на родину в Мещерский лесной край. Там он уже не застал в живых ни родителей, ни своего единственного брата, но зато увиделся с племянницей Маришей, которая ещё не вышла замуж, занималась извозом вместе с огромной Царь-бабой, и был у Мариши замечательный крепенький мерин сивой масти по кличке Хомка.
В смертный час каждого из братьев Тураевых, Андрея и Николая, в смертный час их сестрицы Лидии, а также внука Николаева Глеба – каждому из них мгновенно и ярко представилось одно и то же. Огромная раздвоенная сосна с лирообразными стволами золотистого цвета, стоящая на краю лесной поляны. Идёт к сосне человек, до пояса сокрытый в траве. Не доходя до дерева шагов двадцати, он вдруг останавливается и оборачивается лицом к тому, кто сейчас со своего смертного одра внимательно следит за ним. И никому из Тураевых, так или иначе связанных духовными узами и с этой лесной поляною, и с лировидной сосною, до конца не известен облик представшего путника. Но каждый перед смертной минутою словно начинал угадывать в нём черты где-то однажды встреченного уже человека, и встреча та, оказывается, имела огромное и прекрасное значение.
У Лидии Николаевны, лежавшей в глубоком шоке кровяного излияния мозга, вспыхнула и стала быстро разгораться в душе надежда, что человек, оглянувшийся на неё поверх шатких травяных верхушек, несёт ей чрезвычайно важную весть или даже верные документы относительно того, что жизнь её удивительно задалась, и небывалым счастьем, мало кем из людей испытанным, отмечена она, и об этом записано в казённых бумагах, принесённых к двойной сосне малоизвестным путником, напоминающим углежога и лесного духовика Алексашку Жукова, который ездил на свою духовую скипидарку по той же лесной дороге, по которой часто езживала на чистенькой чернолаковой бричке и Лидия Николаевна к своему брату.
Однажды они встретились-таки возле самой двойной сосны – он ещё издали свернул пару лошадей с дороги, приостановил свою длинную фуру со скипидарными и дегтярными бочками под деревом, а сам, оставаясь сидеть на передке воза, чёрной рукою сдёрнул с головы немыслимо закапанный смолою и дёгтем картуз и неподвижными, непонятными, словно у зверя, тёмными глазами уставился на барыню, которая с приветливой улыбкой на цветущем лице проезжала мимо. Она кивнула ему, на миг обернувшись в его сторону, – и поверх его согбенных плеч и лохматой головы увидела две мощные излучины стволов, взлетающих вверх, как само радостное устремление жизни к небу.
А косматый углежог, на минуту остолбеневший при виде барыни Тураевой, как бы почувствовал тогда лесной провидческой душою печальную и роковую общность свою с этой женщиной. Она лет через десять, а он лет через двадцать, считая с этого дня, – оба скончаются одинаковым образом. У неё мужики сожгут усадьбу – дом под розовой черепицей вспыхнет как костёр, черепица страшно затрещит в огненных вихрях, и у хозяйки, павшей замертво, отнимется язык, парализует левую руку и ногу, и она умрёт через два дня. Алексашку Жукова удар хватит после того, как ему объявят в сельсовете, что он подлежит раскулачиванию, – и, путаясь в длинном дерюжном фартуке, в котором он приехал из леса, прямо от духовой кучи, мужик вышел из казенной избы на крыльцо и тут же свалился с ног долой… Он-то и привиделся, наверное, Лидии Николаевне перед её смертью – весь прокопчённый, закапанный смолою, протягивающий чёрную руку к стволу дерева.
Братьям, Андрею и Николаю, тот человек, что появился у раздвоенной сосны в общий час кончины, представлялся неким посланцем, отправленным от одного из них к другому. И Андрей Николаевич в этом вестнике от брата Николая узнал самого себя, тридцати шести лет, подтянутого, приталенного господина в вицмундире. А Николай Николаевич с земли, лежа на острых углах кирпичных обломков, вглядывался в путника, медленно приближающегося к лирообразной сосне, и не узнавал в нём своего внука, который появится на свет двадцать один год спустя.
У всех троих Тураевых, у Андрея, Николая и сестры их Лидии, рождённых в прошлом веке, предсмертное видение завершалось тем, что посланец, шагая к раздвоенной сосне, так до неё и не добирался. Лидия Николаевна скончалась в доме лесника Власьева, лежа на соломенном тюфяке, – в тот миг, когда посланец, несущий к любимому дереву Отца-леса радостную грамоту, вдруг заспешил и ещё издали протянул вперёд руку – словно догадавшись, что дерева так и не успеет коснуться. И вот из глубины огня, наполнившего розовый дом под черепичной крышей – в яростном грохоте лопающейся в огне черепицы, в мечущихся синих лентах раскалённых газов, вытекающих из огневых недр пожара, перед Лидией Николаевной возникло на одно мгновение закопчённое лицо посланца, столь похожее на лицо углежога, которого видела она всего несколько раз в своей жизни…
А теперь я, Глеб Тураев, идущий к той же самой знаменитой сосне – всё ещё идущий, с трудом пробираясь по высокой некошеной траве, и в руках у меня старенькая двустволка, которую я взял в доме егеря Власьева.
Я уехал из колоссального Города, который был системой, неким огромным организмом налаженных систем для существования многомиллионного народа, – вначале поехал в метро, затем прибыл к автовокзалу и сел в «Икарус» – и метро, и автобус также были системами по перемещению людей в пространстве с места на место. И каждый из нас, пользующийся транспортом, также был самостоятельной системой в мировом пространстве. Громадный Город, энергично выплюнувший всех нас, пассажиров, в железном автобусе по направлению Ново-Рязанского шоссе, буйно функционировал, хмуровато дымил трубами, глухо грохотал и пульсировал, постепенно затихая позади едущей машины.
Я знал, что Город будет и дальше греметь, налаженно колыхаться и отщёлкивать колёсиками, обеспечивая жизнеспособность миллионов людей. Я только не знал, какая жизнь должна быть обеспечена гигантской работою этой Машины – качество жизни, которое должно было обрести каждое человеческое существование, нельзя было определить. И со всем тем, что делала со мною Машина, я был не согласен, и все то, что осталось позади, я покинул не только без малейшего сожаления, но с содроганием ужаса и отвращения.
Метро будет, как и всегда, проглатывать и переносить по своим бетонным внутренностям человеческие толпы; глубокой ночью оно останется пустым и неподвижным, но это будет не пустота сна или неподвижность отдыха – ночным перебоем ритма выразится всего лишь неизменность раз и навсегда созданной системы, её постоянная сущность, метафизическая константа. И только человек как система может быть изменён внутри себя – лишь только он в каждом своём случае, самостоятельно изменяясь, способен привнести новое в замыслы Великого Кибернетика.
Начался путь – куда-нибудь да выведет. Пока вывел к огромным вырубкам – пустотам на месте прежних лесов, что сведены руками узников, которые были сначала вооружены простыми топорами и пилами, затем механическими бензопилами. Обезглавленные и освобождённые от сучьев стволы вывозили на трелёвочных тракторах к огромным штабелям, где мёртвые деревья лежали, дожидаясь окончания зимы. Весною брёвна сбрасывали в реки и сплавляли до моря, где их ждали огромные плавучие лесовозы. Дальнейшая судьба выловленных из воды лесин была самой надёжной: все они аккуратным образом попадали на рамные пилы, где из выровненных кусков древесных тел выпиливали доски, деловой тёс и разного калибра строительный брус.
Но многие из деревьев, что были сброшены в реку для сплава, до моря так и не доплывали, они быстрее других набрякали водою и постепенно тонули, погружаясь одним концом вниз – так и влеклись по течению, стоя в глубине реки и покачиваясь, словно призраки. И это были самые бессмысленные жертвы из всех неисчислимых жертв того последнего Лесоповала, который я помню. В тусклой мгле подводного мира, роковым образом движущегося в одну лишь сторону, зыбкая невесомость и глубочайшая апатия порождали ощущение жизни, неотличимое от небытия. И нас, подобных утопленников, потерявших смысл собственного существования, скопилась неисчислимая толпа, которая двигалась призрачной процессией в глубине загнивающей воды. Ещё больше было тех, что лежали беспорядочными завалами на дне реки, образуя огромные залежи будущего горючего материала для новых эр существования, которые окажутся, может быть, более удачными, чем эта, где я потонул с отрезанной вершиной и отрубленными сучьями и лёг на дно реки с едкой горечью недоумения в своей душе. Для чего мне надо было метаться в грозу, стенать в бурю, раскачиваться и плакать в пургу, если огонь грядущего времени станет итогом всех моих былых страстей и усилий? Каждое дерево Леса, сгоревшее в виде полена или куска каменного угля, – это очередное моё поражение, повторная тщета, ещё раз сотворённая напрасность одинокого упования. Напрасным был всякий случай ухода моего из огня и напрасным – весь путь, совершённый мною вне огня, – ибо он был путём возвращения обратно в огонь.
Пусть бы неизменно светили прекрасные звёзды на фоне бархатной черноты космоса – зачем же путь человеческий? Тысячи раз задавал я себе этот вопрос, выглядывая во внешний прохладный земной мир из пламени возведенных человеческими руками разновеликих огненных строений, и не находил ответа. Однажды я, выглянув из огненной головки только что начавшегося взрыва девятимегатонной бомбы, мгновенным взором окинул большое очеловеченное пространство, которое должно быть уничтожено, – и оно показалось мне столь прекрасным, это существующее пространство ноосферы, словно и впрямь предстала передо мною картина безмятежного рая! А было-то всего: зелёные поля южной Саксонии, хутор с крышами из старинной черепицы… Они теперь не имеют названий, эти леса и равнины земные, они промелькнут в моих глазах и навсегда исчезнут под таинственной мантией времени, которая имеет разные цвета: то бархатно-чёрная, как пустота осенних ночей, то жемчужно-голубая, с синими размывами далёких лесов, как в августовский грибной день. Накрытый этой прозрачной мантией, мир земли для меня остаётся безымянным, бессловесным и неприкосновенным, как отражение небесных звёзд в земной воде…
Так где же стоит сосна о двух изогнутых, как рога лиры, золотистых стволах, доберусь ли до неё и зачем это мне надо – непременно прийти к ней и дотронуться рукою до ствола? Я всё ещё еду, трясусь на сиденье в большом «Икарусе», и только что я видел, выглянув из огненной головки взрывающейся ядерной бомбы, как сгорела внизу, среди зелёных лугов, крошечная немецкая деревушка. Но вполне возможно, что это видел в последний миг своей жизни Готлиб Шульман, находящийся внутри вспыхнувшего лагерного барака, или всплыла она в воздухе перед глазами деревенского учителя Неквасова, когда он усталой ногою наступил как раз на то место, где сгорел Шульман, шипя с треском и распадаясь на отдельные огненные лоскутья.
Ко мне рядом подсел на свободное место человек с длинным кривым носом, с депутатским значком на пиджаке, заговорил со мной, – и всё, что минутой раньше подавляло и мучило меня, исчезло куда-то. Пришло же чувство совсем другого порядка: Василий Петрович Неквасов назывался этот самый распространённый среди людей вид одиночества. Он считал себя атеистом, человеком свободным от всяких суеверий, – но взамен отвергнутого Бога Василий Петрович поклонялся разным фетишам, вроде депутатского значка или партийного билета. Мы с ним познакомились, я представился Глебом Степановичем Тураевым – и вскоре замолчали, не зная, о чём говорить, глядя в окно автобуса на убегающие назад картины лесного края.
Минут через десять оба мы погибнем при страшной дорожной аварии – а я, называвший себя Глебом Тураевым, отделюсь от бездыханного тела и за те несколько секунд странной тишины, что наступит вслед за грохотом катастрофы, взлечу над полями, над шоссейной дорогою, над зелёным мещерским лесом. Мне захочется побыть некоторое время вне пределов чьей-либо судьбы, вспорхнув пушинкою над клокотанием шумных и бесплодных человеческих усилий.
Итак, я Пушинка Летнего Дня, высоко над землёю вознёс меня тёплый воздушный поток, я лечу в пространстве между белыми облаками и вершинами деревьев. Сверху видна простирающаяся через лес голубая асфальтированная дорога, по ней букашками ползут машины. Недалеко от блестящей, как сухое стекло, извилистой реки, возле моста, этих разноцветных букашек собралось уже довольно много. Они остановились у сброшенных с ленты шоссе двух длинных ящиков – это исковерканные кузова «Икаруса» и «Колхиды»
С той высоты, на которой я кружусь, подхваченный восходящими потоками, мне уже не различить, как выглядит человеческая смерть. Движение и суета людей, что собрались у разбитых машин, были проявлением жизни – смерть же ничем себя не проявляла. Ясно видно было каждое деревце, кустик, каждую травинку, сверкающие крыши автомобилей, бегущих людей, окружённого лопухами зайца.
Я над разомлевшими лесами и нагретыми полями – и всё живое, что было во мне, вокруг меня, не могло никуда исчезнуть или закончиться. Живое там, внизу на земле, лишь сменяло друг друга, смерти никакой не было. Смерть была выдумкой людей. Того, что они называли этим словом, не существовало.
Была погибель жизни, не уничтожающая и не заканчивающая, – а переводящая жизнь в другое состояние. Лежало на земле окровавленное тело, в котором замерло всякое движение, – но я, дотоле называвший себя Глебом Тураевым, уже летал Пушинкой Летнего Дня возле белоснежных облаков. И мне было грустно, грустно видеть разбитый сосуд человеческой жизни, столь тщательно ранее оберегаемый, хрупкий и неповторимый.
В каждом из погибших также был я, но всё, что неподвластно гибели, сейчас снова со мною, во мне. Я пролетаю над ними – рядом с Тураевым лежит Неквасов, возле него – Иванов…
Когда влобовую столкнулись «Икарус» с тяжёлым грузовиком «Колхида», погибло шестнадцать человек. Все они, истекающие кровью, тихо замерли в опрокинутом, отброшенном на обочину автобусе – среди криков и стонов раненых пассажиров.
У всех погибших, включая обоих шофёров автобуса и водителя «Колхиды», внезапная гибель не выявила в застывших чертах признаков смятения или страха. Словно они смогли узнать, может быть, перед самой гибелью, что каждый из них – всего лишь странствующий Никто, обязанный вернуться в родное Ничто, – поэтому краткий миг своей погибели встретил с надлежащим спокойствием. Застыв в неподвижности, все они, казалось, слушают негромкую музыку, проникающую сквозь миры.
Уложенные на зелёную траву в ряд, испачканные кровью, они словно смотрели на меня снизу вверх и ждали моих слов. Но мне нечего было им сказать. Ведь я был одним из них и, лежа с разбитой головою на земле, находился в их неподвижном строю. И раньше звали меня Тураевым, Неквасовым, Ивановым – теперь же я стал самим собою, и подлинное имя моё – Никто.
Смерти нет, потому что существую я, – там, где я, смерти не может быть. Гибель деревьев моего Леса лишь искажает сознание человека: бессмертие Леса не могло бы составиться из отдельных смертей.
И если, угрожая смертью, – именем её творится всякое человеческое беззаконие, то как разгадать причину общечеловеческого безумия? Почему от них, обладающих бессмертием, исходит столь противоестественный страх смерти, более никому не ведомый? Истребление Леса, поругание Деметры, попытки самоубийства через войны – человечество сошло с ума не от ужаса перед тем, что натворило. Нет, это произошло гораздо раньше, и оно сошло с ума потому, что сошло с ума.
Итак, всё уже заготовлено, припасено, собрано. Деметру супружески развели с крестьянином, её теперь лишь механически насиловали, начиняли ей лоно ядовитой химией, заставляли рожать экстенсивным методом, интенсивным. Были превращены в ядовитые помои ещё не все озёра, а в морях оставалось ещё довольно много чистой воды. На Западе не весь химический воздух был кондиционирован, и на Востоке не все великие реки повёрнуты вспять, вздымались на них супергигантские плотины, столь же нелепо грандиозные, как Китайская стена. Ещё выглядела издали Земля зелёною, молодою, привлекательною…
Но начались бесчисленные самоубийства женщин по всем племенам и странам. Деметра бросалась под поезда и машины, выпрыгивала из окон небоскрёбов, кидалась в колодцы, запутывалась в петлях бесчисленных удавок. Она использовала для неистовой битвы с собственной жизнью яды и лекарства, наркотики, бритвы, грязные шприцы. В песчаных пустынях Средней Азии, там, где на бескрайних полях, залитых насильственной водою, тело Деметры разъедала мучительная соль, начались самосожжения совсем юных женщин. Они обливали свои темноволосые головы бензином, они обматывали эти головы старыми халатами, и поджигали себя, и, тихо потрескивая, сгорали в огне, чтобы только не жить. Не хотела больше Деметра выносить человеческое сумасшествие, омерзели ей насильники.
Вырвался из вулканической темницы своей Горыныч-змей, пожирающий металлы, и вновь распростёр над землёю свои перепончатые крыла. Он летел над государствами разных идеологий и народов, разделёнными прихотливой линией границ, совершенно не понимая, что такое границы, но внимательно присматриваясь к положению дел на планете и полагая, что они находятся в превосходном состоянии. Металла было вынуто из земли, выплавлено в огне и затем выставлено для удобного пожирания Змеем-Горынычем в таком количестве, что ему уж не о чем было беспокоиться.
Вот он, от тучности своей уже не способный летать, пополз по раздольным российским полям, подбирая ржавое железо и сталь на огромных кладбищах сельскохозяйственной техники. Теперь он мирно пасётся, видимый издали как громадный холм, неспешно продвигающийся вдоль горизонта. Но придёт время, когда Змей, сожрав все старые машины, брошенные на полях, покосившиеся силосные башни, расшатанные мосты, старые рельсы железнодорожных путей, сгоревшие атомные станции, заржавелые линии электропередач, – Змей-Горыныч станет неохватной для человеческого взора горою металлических мускулов. И от тяжести его нарушится равномерное вращение Земли вокруг своей оси, и соскочит она со своей орбиты и, неотвратимо приблизившись к Солнцу, сверзится, наконец, в его клокочущий океан…
Со стороны, чуть сверху, я вижу, как к отброшенному с дороги, опрокинутому «Икарусу» подъезжает машина, золотистого цвета «Нива», останавливается, и из неё выходит, приглаживая руками седые волосы, небольшого роста бородатый человек. Тут же следом подъезжают и другие машины, – люди поспешно и как-то настороженно, словно боясь нападения, приближаются к лежащему на боку автобусу… Затем я вижу всю безрадостную картину извлечения трупов из опрокинутой машины; вижу, как через разбитое переднее окно вытаскивают обмякшее тело с раздавленной головою, со слипшимися в крови волосами…
Золотистая «Нива» далее катит по Егорьевскому шоссе, приближаясь к Спасс-Клепикам, машиною правит Глеб Тураев – и мы должны полагать, что он вовсе не погиб при лобовом столкновении автобуса с тяжёлым грузовиком. Так что же выходит, господа, задаюсь я риторическим вопросом, – значит, всё происходило в воображении этого человека? Тяжкая ненависть к Городу с его дымом, гамом и дьявольством; бегство из дома, знакомство в автобусе с Неквасовым… Но ведь с деревенским учителем Глеб Степанович знаком уже много лет и уехал нынче из Города на своей машине, а не в автобусе («Икарус» он обогнал где-то уже за Егорьевском) – последствия же страшной аварии, случившейся несколько дней назад, видел Глеб возле моста через речку у посёлка Фрол…
Выходит, и картину собственной гибели представил он в воображении, и свидание со своим трупом, – и то, как душа его, покинув тело с раздавленной головою, взмыла над полями и лесами… Сложно мне разобраться во всём фантасмагорическом хаосе его видений, бреда, воспоминаний и уяснить, что есть истина, а что воображение и мечта. Даже в таких ясных, казалось бы, положениях, как смерть или бессмертие, меня этот человек с двойственной душою заводит в тупик, – и я, следуя ходу его мысли, сегодня смерть считаю чисто абстрактным понятием, а завтра, наоборот, – неоспоримым доказательством подлинности существования.
Знакомое шоссе подводит навстречу деревянные, крытые шифером и железом посёлки; вдалеке, слева от дороги, промелькнули светлые одинаковые коробки многоэтажных домов: случайный авангард урбанизма; но далее снова пошла русская одноэтажная провинция, составленная из брёвен, под серым шифером и буровато-красным суриком, которым уже лет сто красят здесь железные крыши. В свойствах этой краски, сурика натурального, есть что-то очень схожее с людской жизнью: столь же груба на вид и далека от всяческого изящества, но прочна под воздействием солнца, дождей и унылых туманов, вдруг накрывающих мещерские просторы своей непроницаемой тоскою. Да, неказиста эта суриковая буро-красная житуха, но может продлиться благополучно лет семьдесят, если время от времени подновлять на крышах краску. Сонлива, тиха и сладка эта провинциальная жизнь, затянутая в пелены осенних и зимних туманов. Какие глухие, восхитительные тупики бытия образуются в забытых богом и начальством селениях, какая здесь даль и свобода от всех несчастных, возвышенных, мучительных проблем века! О милосердная дорога, ты уже подвела к самым колесам моей машины серый рабочий посёлок Туму. В его широкой панораме самым выразительным местом является чёрная труба асфальтового завода, изрыгающая в небо клубы чёрного дыма.
А ехать предстоит дальше, – проскочив длинную, извилистую тумскую улицу, мчаться пустынным шоссе мимо просторных летних полей, тонущих в нежной пелене перламутровой дымки. Она там, у голубых полосок леса, делается особенно белесой, текучей и нежной. О эта особенность пространства и света русских полей – жемчужная дымка, в которой меркнут дали! Словно вековечный смог скорби, образовавшийся над кроткими просторами. Именно эта странная прозрачная туманность, коей зыбится видимая глубина России, не даёт спокойно жить и мирно умереть русским людям, оказавшимся по воле судьбы вдалеке от неё. Находясь в дивных краях иных материков, они ищут невольно вокруг – и нигде не находят – этой сизой дымки особенного воздуха, которая есть не что иное, как «лесная боль полей».[7]7
Сказано поэтом Александром Орловым.
[Закрыть]








