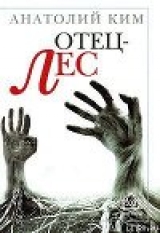
Текст книги "Отец-лес"
Автор книги: Анатолий Ким
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
В том, что пленные немцы умерли все до одного, виноват прежде всего послевоенный голод сорок седьмого года, тогда и всем нашим по стране приходилось нелегко; в ходе истории нельзя обойтись без жертв, так думал Неквасов Василий Петрович. Неквасовский предок, сельский учитель из тех русских людей восьмидесятых годов девятнадцатого столетия, которые хотели просвещать народ и шли работать в деревни, полагал: прав был Герцен, сельская община – это и есть социалистическое будущее России, – звали того предка Казимиром Степановичем, он был выходцем из поляков, учитель. И его потомок, тоже учитель, Неквасов уже ничего не думал о будущем социализме, потому что полагал себя пребывающим внутри него.
Сгоревший в этом лесу дальний потомок лабазника Сапунова, сержант конвойной команды Обрезов, удобный себе социализм представлял весьма ясно: в виде продовольственно-фуражного склада, откуда можно получать всё для жизни, предъявив только накладную, требование или какую-нибудь другую бумагу с печатями и подписями начальства. Казимир Степанович однажды где-то высказал мысль, что российское общинное землепользование при условиях, исключающих появление латифундий, и есть прообраз истинного социализма на земле. Купец Липонтий Сапунов в это время катал по лабазу бочки с засохшею замазкой.
Его внучатый племянник, сержант войск охраны Обрезов, однажды сделал поразительное открытие в самом себе: он вдруг отчётливо и неспешно подумал: «Чего-то сегодня убить хочется». И с этого дня, когда он вполне осознал это подымавшееся время от времени в нём неодолимое желание, сержант стал уничтожать пленных немцев, сначала поодиночке, стреляя в конвоях на рубке леса, а затем и другими способами, которые постепенно и привели к полному уничтожению всех немецких военнопленных в лагере. Теперь на месте этого лагеря росли чахлые сосенки, в большой тесноте, земля была устлана жёлтыми иглинами палой хвои, и по ней пробирался, осторожно переставляя длинные ноги, оглядываясь вокруг себя, что-то приговаривая себе под нос, сельский учитель, любознательный историк периода великого застоя.
Василий Петрович Неквасов шёл по лесу, то и дело оборачиваясь назад, стараясь не потерять из виду белый затёс на сосне, единственный ориентир во времена чудовищной лжи, к которому можно было привязаться, – перешагивал через навал палых сосновых жердин, нигде не находил никаких трагических следов от бывшего когда-то здесь лагеря, и ему невесело подумалось: уничтожить двести пятьдесят человек – это такой пустяк. И внимательно продолжал осматривать безответную землю, устланную хвоей чахлых сосенок, стоявших вокруг в таком же безрадостном молчании, как последние тридцать узников спецлагеря, подошедшие к шлагбауму, толпились перед воротами жилой зоны.
На том месте, где Василий Петрович споткнулся о торчащий из земли обугленный сучок, стоял пожилой костлявый немец Шульман, он был на должности повара для пленных, но так как давно уже никаких продуктов ему не выдавалось, он уже ничего не готовил, а вместе с другими выходил на лесные работы. Высушенные долгим и жестоким голодом до самых костей скелета и черепа, пленные немцы лесного спецлагеря выглядели совершенно так же, как и узники тех концлагерей в Германии, Польше и в Финляндии, где побывал Степан Тураев… Он в сорок седьмом году начал строить избу на Колином Доме, и с билетом на строительный лес приехал в спецлагерь – и на миг словно опять вернулся в ад, где когда-то провёл он целых два года. Особенно похожим это было на его последний, финский лагерь – тоже в лесу и тоже высоко огороженный колючей проволокой, протянутой прямо между деревами, с такою же чёрной зловонной грязью в тесном дворе между бараками. Подошедшие к воротам зоны пленные немцы так же горбились и кутались в тряпьё, по голодной немощи своей замерзая даже на тёплом воздухе молодого лета. И неподвижный, глубоко ушедший в дистрофическое равнодушие взгляд костлявого узника знаком был Степану Николаевичу по тем не уходящим из его памяти глазам, которые давным-давно уже закрылись и умерли – в польском лагере, в финском, в немецком…
Шульман же смотрел на бородатого русского человека, сидевшего на передке длинного, без кузова, тележного возка, и думал свою неотвязную думу – и мысль его была почти дословно такая же, как и у проходящего сквозь него, через сорок лет, деревенского учителя Неквасова: если ты виноват, то надо отвечать, и ничего тут не поделаешь. Но русский учитель думал так, желая подавить в себе чувство жалости к тем, что погибли здесь голодной смертью сорок лет назад, а немецкий пленный, солдат Шульман, думал о подлинной вине, требующей искупления, и вот оно теперь наступило, время искупления. Шульману хочется сказать об этом бородатому русскому человеку, стоящему чуть в стороне от лагерных ворот у длинной фуры: мол, не считаю вас виноватыми в том, что вы меня убиваете, – это не вы меня караете медленной смертью, а я сам караю себя.
Жалость Неквасова к погибшим военнопленным была из духовного материала иного, чем тот, который пошёл на построение его собственной души. Она появилась на свет в конце двадцатых годов двадцатого же столетия и окрепла в середине пятидесятых годов, пройдя через службу в армии и затем через программные занятия исторического факультета Рязанского пединститута. Шульман же, погибший в сорок седьмом году, тогда очень хорошо понимал суть и свойство подобного духовного материала – на спокойной ненависти и отчуждении победивших русских как будто бы лежал отсвет высшего суда.
Такой свет отражало и лицо бородатого возницы у ворот лагеря, и дистрофик Шульман смотрел на него с восторгом мученика, взирающего с последней ступени эшафота на возникший прямо посреди огромного голубого неба символ его священной веры. И душа стоявшего перед шлагбаумом немецкого военнопленного не приняла бы смутной и неопределённой жалости русского учителя, которая возникнет однажды в сосновом лесу через промежуток времени в сорок земных лет.
Устремлённая вспять сквозь лесные влажные сны, туманы и ночи, сквозь огонь лесных пожаров, эта жалость Неквасова, столь похожая на христианскую любовь, явилась признаком истощения твёрдого душевного материала, который был одинаковым в своё время и для того, кто погибал, и для того, кто убивал. Надёжная, прочная ненависть – вот что тогда было здоровьем наций, государств, партий, правительств, отдельных государственных индивидуумов, – а всякая жалость, возникавшая где-либо в организме общечеловеческой популяции, говорила о наступившей болезни.
Шульман стал ужасаться, раскаиваться и сожалеть о тех противочеловеческих деяниях, какие совершала германская раса против ни в чём не повинной России – Степан Тураев (не зная этого) когда-то с ним уже встречался, это было в первый день, когда он попал в плен и его заперли вместе с другими русскими пленными в сарай. Шульман же тогда находился в команде по ликвидации раненых и забору в плен всех, на то ещё пригодных – до вечера трудилась команда и набила пленными бревенчатый сарай столь туго, что, когда привели к вечеру русских санитарок, их едва удалось втиснуть внутрь толпы и прикрыть воротние створы.
И вдруг на исходе дневного света произошёл странный налёт одинокого немецкого штурмовика на деревню. Самолёт сбросил несколько бомб и, не разворачиваясь, лихо покачивая крыльями, улетел догонять уходящий день. Две бомбы ударились в землю близко с противоположных сторон от сарая, набитого пленными, и разорвались столь точно одновременно, что получился как бы единый взрыв весьма странного свойства. Всю деревянную трухлявую массу сарая унесло вертикально вверх и там, вверху, расшвыряло в стороны по всем направлениям. В результате подобного взрыва пленная толпа, ранее заключённая в стены сарая, как бы вмиг освободилась от деревянной скорлупы – и глазам изумлённых немецких охранников предстала слипшаяся человеческая масса, отформованная в виде прямоугольного куска, – которая какое-то время безмолвно простояла в подобном виде, лишь потом начала распадаться на кусочки кричащих, стонущих, кашляющих, кровоточащих людей.
В тот день и сталкивались лицом к лицу Шульман со Степаном Тураевым, прошло шесть лет, и оба они не помнили, как, изгибаясь и страшно кашляя на бегу, понёсся куда-то обезумевший русский пленный, и ему навстречу выбежал из сумерек вечера немецкий солдат-верзила с автоматом на груди, в расстёгнутом мундире, пригнулся и широко расставил руки, словно желая поймать бегущего зайца, а русский упал на колени и выкашлял, наконец, из глотки кусочки древесной трухи и полужидкую соломенную пыль. Умирающий Шульман как раз вспоминал сейчас этот день, этот эпизод, но, в упор глядя на _того самого русского_, не узнавал его, а Степан Тураев в доходяге с лицом черепа, с востреньким горбатым клювом-носиком, также ни за что не угадал бы огромного немца, который спокойно подошёл к нему и, тронув его кончиком короткого сапога, не задержался, а прошёл дальше, к другим лежавшим и сидевшим посреди двора потрясённым и оглушённым взрывом пленным.
Шульман тогда лишь удивлялся тому, что все они, валяясь на земле, одинаковым образом изгибались и кашляли, схватившись за грудь, – и только теперь ему пришло в голову, что это вовсе не удивительно, если в наши времена люди что-нибудь делают совершенно одинаковым образом, – кашляют или чихают, разевают в смертной агонии рты, танцуют в огромном дансинге фокстрот перед самым началом войны или в тысячной толпе вскидывают руки в приветственном салюте фюреру. Тот прямоугольный мясной кирпич, во что были спрессованы живые люди, чудовищно тесно набитые в помещение сарая, во многом открыл глаза повару Готлибу Шульману.
Но эти открывшиеся глаза его видели теперь лишь некрашеный шлагбаум перед воротами лагеря, нескольких соузников-доходяг рядом, тех, с которыми вместе ему надлежало умирать в эти последние дни, и за дорогою видел Шульман бородатого русского мужика. Степан Тураев, собиравшийся строить дом, теперь совершенно ясно постигал предсмертные думы, чувства и душевные состояния тех, чья серая кожа тесно обтягивала кости. Никакой плоти между этими костями и кожею давно не было, как не бывает ничего между золою в сгоревшем лесу и землёю. И там, где высохла вся искрящаяся розовая плоть жизни, в пустыне меж кожею дистрофика и его скелетом окажется блуждающая тень – Я ОДИНОЧЕСТВО.
Ничего не нашёл учитель истории в лесу на том самом месте, где сорок лет назад располагался лагерь военнопленных лесорубов, ни клочка, ни щепки, лишь споткнулся о какой-то обгорелый сучок, что торчал из земли. Степану Тураеву, приехавшему в спецлагерь с выписанным билетом на строевой лес-кругляк, не удалось в тот день нагрузить брёвна на кряжевозную телегу с помощью немецких пленных, как он рассчитывал, – никто из них не смог бы поднять и сухой ветки, не то что брёвна ворочать. На работу их выводили неукоснительно по предписанию, но в лесу последние из доживавших своё узников садились под деревьями на землю и дремали, не сгоняя даже комаров с лица.
Степан поехал тогда в деревню, чтобы взять кого-нибудь на подмогу, и по дороге долго вспоминал, уронив голову на грудь и не глядя, как справляется с дорогою лошадь, свой последний финский лагерь, где тоже рубил лес для немцев и был в таком же состоянии одинокого умирания в толпе себе подобных доходяг, как и эти пленные немцы.
Шульман пришёл к одной светлой навязчивой мысли, от которой никак не мог отделаться в последние дни своей жизни, как только его перевели из подмосковного лагеря в этот лесной. Тому способствовал случай, когда новый сосед по нарам, Ральф Шрайбер, такой же высокий и костлявый, как Шульман, но, должно быть, намного моложе его, однажды вдруг пошёл ровной походкою, с топором в руке в свободный лес через просеку запретной зоны, не остановился на окрик охраны и был застрелен. Этот случай стал причиной возникновения внезапной мысли не только для одного Шульмана – много лет спустя, прочитав письмо-запрос от Анны-Марии Гундерт, местный учитель истории Неквасов впервые подумал о том, что, несмотря на великую нашу победу, человечество как общее потерпело поражение столь же великое, и даже большее, потому что потери человеческих жизней надо было при этом учитывать общие.
Мысль же Шульмана, сводившая его с ума, состояла в том, что свою голодную смерть в этом лагере, в русском лесу, немцам надо приветствовать со светлым энтузиазмом. Давайте умирать с радостной улыбкой на устах, приставал он к ещё живым товарищам плена, но его соузники, уже не имевшие под кожею ничего живого, кроме костей скелета, не хотели его и слушать. (Что-то подобное приходило в голову и Степану Тураеву, русскому узнику немецкого лагеря смерти, когда после весенних дождей на всех доступных местах огороженного колючей проволокой пространства начала прорастать нежная травка, но тысячи абсолютно голодных людей тут же её выщипали жадными пальцами. Степан тогда, вспомнив, сколько же этой травы было на болотистых лугах и деревенских выгонах его родного края, вдруг воспрянул в горячечном душевном подъёме: он увидел, что при способности выжить, питаясь просто травою, человеку природой даны неограниченные возможности для существования. Стоило только упасть этим заборам с колючей проволокою и людям шагнуть через них на просторы! Они могли бы все, все жить на свете, жить, а не умирать тлеющей смертью дистрофиков.) Светлая мысль и рождала непомерную глубину отрешённого взгляда Шульмана и странную, вроде бы наклеенную, улыбку-плёночку, которую Степан успел заметить на устах неизвестного ему доходяги немца.
Неквасову же через сорок лет стало страшно, и он даже остановился в лесу и присел на палую ель, преградившую ему путь: мысль о величайшей нашей Победе, которая одновременно была едва ли не вдвое большим поражением – очередным горьким Поражением всеобщего человечества, мысль эта явилась настолько опасной для скромного сельского учителя, что он задышал тяжело и, превозмогая муторное сердцебиение, надолго остался неподвижен, сидя на обомшелой лесине. И лишь подозрительно озирал беспокойными глазами теснящиеся рядом деревья.
Выходит, что каждая военная победа на земле была отмечена точным количеством взаимно уничтоженных людей, – и выходило также, что История человечества двигалась вперёд взрывами войн, как межзвёздная ракета реактивной тягой. И выходило наконец, что несмотря на огромное количество всяческих побед, человечество никогда не побеждало, а терпело одно общее сокрушительное поражение.
Я с сочувствием следил за признаками нарастающего страха и растерянности у сельского учителя, который, собственно, не был виноват в том, что родился и жил там, где он родился и жил, к кому пришли подобные мысли только лишь потому, что он остановился на том месте, где когда-то громоздились двухэтажные нары в бараке, и на нижних нарах, там, где раньше спал, а потом умер некто Кристельбрудер, фотограф из Дрездена, лежал впоследствии повар Шульман, – и возле него уже не было соседа Шрайбера, и вообще никаких соседей не было – барак почти весь пустовал. И в полном одиночестве Шульман мог уже сколько ему влезет проповедовать о светлой кончине немецких военнопленных с добровольной радостной улыбкой на устах. Да, никому уж не мешая, мог он вслух произносить свои слова:
– Мы принесли в эту страну слишком много страдания, мы вонзились в тело этого народа – в такое же, как наше, белое беззащитное тело – острым клювом ворона, за это положены возмездие и кара. Или уже забыто, что существует Божья справедливость? Но ведь и этого недостаточно, камрады! Что толку, если сначала мы убивали, а потом и нас убили? А кто будет отвечать за то, что каша уже сварена? За то, что одни люди сгоняют других в огромные массы, а потом эти массы сбивают в четырёхугольники, вроде тюков прессованного сена? Кто же ответит за ужас адский, кроме нас самих? Так давайте же, камрады, мы с вами первыми из немцев – и самыми первыми из людей на свете – умрём со светлыми улыбками на устах! Так и только так мы переделаем себя и немедленно переделаем весь человеческий мир. Потому что люди, умирающие со светлой улыбкой на устах, это ведь совсем другие существа, чем те, чью страшную смерть мы столько раз видели своими глазами на этой поганой войне. Ведь если мы все, сколько нас было на свете, знали только одно – что нет ничего страшнее и противнее смерти, то мы и были её пленниками и рабами! А теперь, камрады, мы только улыбнемся ей в лицо и даже ничего, ничего не скажем. Мы больше не станем её слушаться – и люди никогда отныне не будут воевать, чтобы устрашить друг друга высшей властью смерти.
Так говорил Шульман в полной темноте барака, больше не окружённый безответными слушателями, лежащими на деревянных голых нарах, потому что этих безответных, тихо и тоскливо дышавших, погружённых в некую холодную ясность души, порождённую голодом, тех самых, у которых меж их кожею и скелетом уже ничего не было, ибо трепетная розовая жизнь ушла оттуда, – не оставалось на нарах никого, кроме Шульмана, ибо только у него ещё хватало силы духа войти в барак как в жилище и занять своё спальное место, соответственно человеческой привычке к порядку. Остальные, как только заходили в лагерь, разбредались по грязным дорожкам кто куда, будучи безнадзорными, ибо осталось их на пять бараков всего горстка, и на них как на рабочие единицы внимания уже не обращалось. Они расползались поодиночке, каждый находил на земле какое-нибудь уединённое место, откуда непосредственнее всего мог видеть звёзды в небе и вершины леса и где оказывался, будучи даже внутри ограждённого лагеря, вновь близким к природе.
Травы с наступлением лета стало много, её можно было срывать и жевать сколько угодно, и (как померещилось когда-то в концлагере Степану Тураеву) трава могла бы спасти жизнь всех умирающих от голода, но немецкие пленные, пережившие зиму гибели остальных двухсот, уже неспособны были выжить с помощью трав. Степан Тураев распознал в доходягах немцах, лишь взглянув на них, тихое завывание в их остывающей крови – лютую пургу смерти, бушующую в них, ледяной ураган её отчуждения, отторгнувший души этих людей друг от друга и от всего мира. В своё время и его душу уносил подобный ураган, и если бы не освобождение извне, ему бы уже не вернуться к таким обычным жизненным влечениям, как желание построить новый дом.
Заключенных же немцев в спецлагере 17405 никакое освобождение не ждало, война давно была проиграна, в лагере всю полноту власти захватил сержант Обрезов, который специально изводил или съедал все продукты, предназначенные для кормления заключённых, и поэтому Шульман, будучи их новым поваром, ничего не готовил на кухне почти с первого дня прибытия сюда из подмосковного лагеря в Мытищах. Степан Николаевич Тураев всю свою жизнь после войны и плена прожил без всякой надежды на возможность забыть, понять или поведать хоть кому-нибудь то истинное о человеческом существовании, что открылось ему в минуту, когда он в истощённых немецких пленных вдруг угадал образ Того, Кто таится в куцей, как тень, жизни каждого человека. Некто узнанный Степаном в огромном скелете с птичьим горбатым клювом на черепе, в Готлибе Шульмане, прошёл вместе с лесником Тураевым через всю его одинокую жизнь, но ни разу лесник не обратился к Нему, не попросил помощи и не попытался даже пристально вглядеться в Него.
Я хорошо знаю эту тайную боль и обиду простых душ на Того, Кто становился, может быть, рядом и спасал их в ужасную минуту, но никогда не объяснял им, почему Он это делает и куда исчезает потом. Чего Он хочет, столь затрудняя путь к Себе, бесконечно удлиняя его и внезапно ломая силою мышцы Своей давно наведённые мосты, выставляя на посмешище самое высокое искательство? Разве не обидно мне, что вместо того, чтобы видеть Его, я должен лицезреть какого-то мордастого сержанта по фамилии Обрезов? Неужели таким образом даётся мне знать, что путь к Отцу может быть указан только человеком?
Обрезов любил вызывать к себе на беседы повара Шульмана, и при этом, подражая кое-какому начальству, которое ему приходилось видеть в жизни, сержант широко разводил колени, сам валился назад, ломая спинку единственного на вахте дрянного стула, пыхтел и обеими руками устраивал поудобнее своё свисавшее отягощённое брюхо. Шёл второй послевоенный год, голодный для всей страны, и столь упитанные пузачи были редкостью среди обычного народа. Но Обрезов вот уже почти двести дней съедал один все жиры, положенные для военнопленных. И вначале, получая на складе суточный провиант для немецкого контингента, делал это как бы в шутку, как бы ради спортивного интереса: съедал кружку комбижира, макая в него куски наломанного руками хлеба, опять-таки предназначенного для пленных немцев. И не прерываясь ни на день, шутка эта длилась всю зиму, а когда из-за наступившего всеобщего по стране голода был резко сокращён и дотоле суровый рацион заключённых, Обрезов уже перестал шутить, а просто увозил мешок с чёрным хлебом или рюкзак с пшеном прямиком в деревню, где менял провиант лагерников на свёкольную самогонку.
Когда прибыл из Мытищ выписанный по разнарядке новый повар на место старого, умершего, Обрезов сам его встретил в плановом конвое и с особенной значительностью приветствовал: «Здорово, милок. Будешь работать под моей командой». С этого первого дня он и установил обыкновение подолгу беседовать с Шульманом.
Проходили эти беседы в странном круглом сооружении, называемом юртой, где располагались караульные помещения, канцелярия лагеря, гауптвахта для провинившихся солдат конвоя, красный уголок для читки газет. В первые дни собиралось много народу, чтобы послушать сержантские беседы, но потом всё это надоело публике и разговоры происходили уже наедине. С неизменностью ритуала Обрезов задавал вначале один и тот же вопрос:
– Шульман, а где ж твой белый хвартук?
На что добросовестный немец поначалу пытался отвечать, что старый фартук, колпак и половник сдал в Мытищах, а здесь рабочий инвентарь ещё не получал; но сержант лишь утомлённо махал рукою на него:
– Не ври, Шульман.
И в дальнейшем немец молчал, стараясь не глядеть на сержанта, не слышать его слов и не понимать их, хотя за годы плена изрядно овладел чужим языком. Шульман к тому времени ещё не пришёл к своей идее умирания со светлой улыбкой на устах, он полон был ревностного устремления исполнять свой долг, то есть готовить пищу для соплеменников, волею судьбы оказавшихся в плену. Поэтому Шульман очень страдал, с утра раньше всех в лагере поднимаясь и приходя в холодную, пустую кухню, расположенную в первом бараке, напротив казённой «юрты», откуда сквозь ржавую путанку проволочной ограды можно было при желании разглядеть одинокого повара, растапливающего плиту, на которой стоял огромный пустой бак.
– Чего-то не каждый день ты печку топишь, – замечал как-нибудь сержант. – Или дров не хватает?
– Дров мало, – соглашался Шульман, начинавший понемногу втягиваться в эту мёртвую игру.
– Ты смотри, – удивлялся Обрезов, – в лясу живём, а дров не имеем. Приказываю тебе, Шульман, вытти в наряд с пильщиками. Принесёшь на себе пуд дров. Я сам буду у конвое, прослежу. Ясно?
– Так точно, – отвечал Шульман, вытягиваясь.
– А чего ты приготовил сегодня на пробу?
– Перловый суп с прожарками, – равнодушным голосом сочинял повар, продолжая и развивая игру.
– Ну-ка, Шульман, проверим твой суп.
Дело доходило до того, что повар как бы подавал горячую посуду двумя пальчиками, ставил на круглые колени сержанта, а тот столь же осторожно придерживал миску и начинал воображаемой ложкой отправлять в рот обжигающую пищу, для остужения которой сержант поматывал высунутым языком и дул сквозь дыркою сложенные губы. И в эту смертельную игру, теперь уж неизвестно когда и каким образом затеянную Обрезовым, были втянуты все – начиная от начальника лагеря, майора Алтухова, и кончая конвойным псом Японом, которого Обрезов в конце концов кастрировал и перевёл из сыскной службы в караульную.
Мне пришло подобное в голову не потому, что я не любил пса – наоборот, эту жёлтую большую, как телёнок, собаку я очень любил, и я стал сержантом Обрезовым не для того, чтобы вызвать отвращение и ненависть к самому себе. Пытаясь понять, почему такая большая часть людского Леса выбирает мерзость существования, я не вправе идти другим путём, чем тот, которым иду. Я должен быть Обрезовым и, барахтаясь в его дерьме, всё же стараться полюбить себя больше всего на свете. И мне надо очень и очень ясно представить себе, как это в мою небольшую душу, весом в восемьдесят один килограмм, время от времени приходит неодолимое желание: «Чего-то сегодня убить хочется».
Это обычно бывает у меня с утра, когда я просыпаюсь и сижу на казарменной койке, держа сапог в руке, а вокруг гремят табуретками полуодетые солдаты, уборщики шмыгают швабрами, а за окном ещё царит бескрайняя темень ночи, и я так отчётливо представляю всю глубину окружающей жизни, чёрной от тягот громадного подневольного труда и преисполненной тоски бесчисленных мертвецов, которым когда-то так неистово хотелось жить, а их умертвили. И, навёртывая на ноги портянки, натягивая один сапог, потом второй, я даже не пытаюсь понять, почему так тяжело даётся хорошая жизнь, которая снится человечеству уже столько тысячелетий, и я скорее перевожу ход мыслей своих на злободневные дела.
Среди конвойных собак, которые отданы под ответственность сержанта Обрезова, ищейка по кличке Япон, громадная немецкая овчарка, впала в чрезвычайную озабоченность, и на учебных занятиях вместо того, чтобы взять след, кобель рвался в сторону деревни, сваливая с ног и таща по следу собаковода. Обрезову такое поведение служебной собаки было не только не по нраву – а показалось оно особо опасным по отношению лично к нему, сержанту Обрезову, и к той удивительной власти, которую он обрёл за последнее время. Да, он стал замечать, какую силу придаёт ему это внезапно появлявшееся в нём по утрам желание убить. Однажды решился удовлетворить его, пристрелив с пяти шагов рыжего фрицика, когда тот, отойдя чуть в сторонку от движущейся колонны, расстегнул штаны и начал было поливать какой-то кустик. С этого дня и появилась его особенная власть.
Она стала быстро расти, когда я пристрелил ещё нескольких немцев, – и вдруг моя голова озарилась великой мыслью: власть будет увеличиваться по мере того, как я буду это делать, хоть до беспредельности! Так оно и подтвердилось в дальнейшем – я не слушал никого и пристреливал этих фрицев, где только мог, – и вскоре весь лагерь боялся меня, а я делал всё, что было угодно мне. Сам капитан Алтухов не мог смотреть в мои глаза, никто уже не смел вписывать моё имя в списки дежурных по внутреннему наряду, по конвойной или караульной службе. Когда я убил около пятнадцати или двадцати немцев, то я стал как бы служить по особенному уставу, существующему только для меня одного: вставал когда хотел, принимал пищу, заряжал оружие и шёл в зону, чтобы вывести на лесные работы небольшую партию, человека три-четыре; и обязательно кто-нибудь из них в лесу пытался бежать, и мне приходилось сваливать его наземь метким огнём на поражение.
Примерно с этого времени я и начал свою шутку с ликвидацией жировых продуктов, потому что обычно лагерное начальство не спешило подавать в вышестоящие инстанции списки умерших и погибших из контингента: хлебное и жировое довольствие оставалось в прежнем виде, – и вначале я съедал только эти излишки. Но однажды я шутки ради поднатужился и изничтожил всю суточную жировую норму на 250 человек, т. е. литровую железную кружку (в таких отмеряют пиво или квас) растопленного комбижира. И что же? Сила духа моя только увеличилась, и всё чаще я начал по утрам говорить себе: «Чего-то сегодня убить хочется», – и меня нисколько не мучила изжога от вчерашнего комбижира. А вокруг бегали, суетились солдатики, наводя утренний марафет в казарме, и все они были послушные мне, как дети, и что угодно сделали бы по моему приказанию, потому как стал я для них главнее всех начальников, главнее даже майора Алтухова… И вдруг однажды этот жёлтый кобель Япон валит меня, понимаешь ли, с ног долой и тащит по снегу, словно чурку какую, – и это на глазах всей колонны пленных и конвоя, который должен был усилить я со своей служебной собакой. Пришлось мне Япона этого кастрировать.
Ещё до того, как Обрезов стал возвышаться над своими сослуживцами, он был уже признан ими за своё брадобрейное делание, чему отдавался с увлечённостью любителя и смело болванил головы всем казарменным жителям, солдатам и сержантам, а иногда почикивал ножницами и над покорно выставленными ушами какого-нибудь закабалённого лесной службою офицерика. Любил сержант и ровно подбрить затылок, отсечь виски по косой или прямой линии, для чего имел опасную бритву немецкой фирмы «Золингер», которую ему посчастливилось конфисковать у одного военнопленного гансика во время обыска. Этого гансика Обрезов убил одним из первых, застреленных им при «попытке к бегству», – подстерёг его на переправе заключённых вброд через речку Маху, когда колонна невольно разбредалась по сторонам, стараясь найти неглубокое место в воде.
И надо сказать, что для меня этот способ отстрела – почти как из засады на зверином водопое, принёс большую пользу, ибо я открыл для себя особенное удовлетворение в том, чтобы стрелять не в кого попало из этого серого, покорно бредущего по воде стада, а именно в того, которого заранее выбрал. В того, кому принадлежат эти самые быстрые и вороватые глаза на свете, глаза человечка, который всегда с постоянной тревожной ненавистью следит за тобою, потому что ты отнял у него бритву «Золингер». Но стоит только тебе чуть повернуться в его сторону, как эти глаза молниеносно уйдут в другую сторону, ты уже не увидишь их, а лишь увидишь коротко остриженный затылок огуречиком…
Едва ли не половину списка поражённых за побег мог бы я составить из тех, которых поймал на мушку у переправы через Маху. Именно там и, может быть, целясь в ту самую голову с длинным, как огурец, затылком, вдруг я понял, что никакого милосердия нет во мне, ни доброты, никакой любви к ближнему – ничего этого нет, не было. Всё это ещё только _может быть_. _Возможно будет_, а пока это лишь приснилось несколько раз кому-то из бедных деревьев моего Леса.
Был всего один подлинно милосердным и добрым, ему удалось прожить 33 года – и то он оказался не духом дерева, на котором его распяли, и не человеком, а Гостем из космоса. Как это было, мы знаем. Умер, будто человек. Воскрес и вознёсся в небо. Как это?.. Никогда мне со всем сонмом моих деревьев не узнать, что скрывалось в этом Человеке. Только Слово его, тревожное и прекрасное, осталось звучать в наших тугих, забитых кровавыми сгустками ушах… Он был не из нашего Леса. И никакого отношения не мог иметь ко мне, потому что я породил себя из своего одиночества. Он был моим Гостем, но я плохо обошёлся с ним, и Он ушёл из моего дома.








