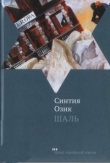Текст книги "Семья Марковиц"
Автор книги: Аллегра Гудман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Маурисио возвращает Эду записку. Буквы в ответе, под темными каракулями Эда, блеклые, аристократично вытянутые. «Что это, спрашиваете вы? Конференция в прежнем смысле слова? Parlement [76]76
Парламент ( фр.).
[Закрыть]? Собор? Декамерон? Нет, это „Кентерберийские рассказы“, точнее, „Птичий парламент“ [77]77
«Кентерберийские рассказы» и «Птичий парламент» – произведения Джеффри Чосера (1343–1400). В «Кентерберийских рассказах» каждый из паломников, едущих в Кентербери, рассказывает свою историю. В «Птичьем парламенте» герою во сне привиделось собрание птиц, обсуждавших, кто из них с кем может спариваться.
[Закрыть]. Средневековая пародия. Поверьте, это то, к чему приходит экуменизм. Нью-Йорк горит, Ку-клукс-клан наступает. Мы стремимся уединиться. Мы отступаем в глушь. Матер ратует за объединение. Что вы от меня хотите? У меня от этого мигрень, однако свою работу я люблю».
– Брак мой разваливался, и мне нужно было с этим разбираться, – продолжает рассказ Матер, – равно как и много с чем другим – с чувством вины, с алкоголизмом, и тогда-то я понял, что Церковь значит для меня не так уж много. В духовном смысле я оказался среди друзей, среди тех, кто меня поддерживал. И постепенно я понял, что, если один сосуд опорожняется, другой наполняется, и поддержка других людей, процесс лечения – это для меня и есть церковь. Думаю, это было именно так для целого поколения, которое оказалось зависимым…
– Прошу прощенья! – говорит женщина с четким голосом.
– Да, сестра Элейн?
– По-моему, не стоит говорить от лица целого поколения. Я, например, не зависима. Я – грешница… —она словно раздвигает воздух перед собой на две части, – …но я не зависима. Прошу прощенья, что перебила вас.
– Нет-нет, продолжайте, – настаивает Матер и подается вперед. – Прошу вас, присоединяйтесь. Я просто хотел запустить беседу, и я жду, что скажете все вы.
– Нет-нет, вы не договорили, – пытается уклониться сестра Элейн.
– Прошу вас!
Эд наблюдает за сестрой Элейн – та нехотя соглашается. Это хрупкая женщина с тонким лицом и короткими вьющимися волосами. Ее коричневые юбка и блузка с коротким рукавом почему-то выглядят по-осеннему. Она набрасывает на плечи жакет.
– Я выросла в трудолюбивой семье, начинает она, – и, покинув отчий дом, сохранила близкие отношения с родителями и братом. Да, когда я жила с родными, я была совсем юной. И там я научилась главному – дисциплине. Там я усвоила самый главный урок. А два года спустя…
– Расскажите, какой урок вы получили, – говорит Матер.
– О, нет… – пытается отказаться сестра Элейн.
– Просим вас, это же именно то…
– Нет-нет, об этом я рассказать не могу, – говорит сестра Элейн. – В этом нет ничего особенно интересного, хотя для меня это было одно из самых важных в жизни переживаний. И, разумеется, это глубоко личное. Как ни парадоксально, в родительском доме, где мы существовали бок о бок – общее жилье, общий распорядок дня, общие завтраки, обеды и ужины – мы все блюли личное пространство друг друга. Например, была комната молчания, и стоило в нее войти, оставив за собой коридор, где все галдели, ты оказывался в полной тишине – как если бы был один. Я была учительницей начальной школы, пока в епархии не решили, что мне нужно получить докторскую степень по Священному Писанию. Теперь я доцент, и такие стрессы приходится испытывать, такое давление – кругом бессердечие. Я занимаюсь пророками, с позиции критики форм [78]78
Критика форм – направление в библеистике, которое преследует цель обнаружить за текстом Священного Писания устные долитературные формы.
[Закрыть], я служу в Вашингтоне, занимаюсь проблемами иудео-христианского диалога, участвую в работе Католического комитета.
– Продолжайте, – говорит Матер.
– А это, собственно, все, – отвечает сестра Элейн. – Что еще вы хотите узнать?
– Мне вот известно, что вы феминистка, и я хочу спросить, каково вам, феминистке, существовать в Церкви, где все построено на строгой иерархии.
– Да, я феминистка, – говорит сестра Элейн, – но я не ревизионистка. Литургию менять я не собираюсь.
– Вот об этом я и хотел спросить, почему не собираетесь, – говорит Матер.
– Потому что не могу я вырвать сердце из груди!
Все присутствующие поражены, а один старичок даже просыпается и трясет головой.
– Что ж, – говорит он, заметив, что остальные на него смотрят, – по-видимому, я тут самый старший…
– Минуточку, брат Маркус! – Тон у Матера извиняющийся. – По-моему, сестра Элейн не закончила.
– О, прошу прощенья, – говорит старичок и снова утыкается в свою седую бороду.
– Нет-нет, я закончила, – твердо говорит Матеру сестра Элейн.
– Вы только скажите, когда мне начать, – говорит брат Маркус нараспев, с южным выговором. – Крикните погромче, чтобы я услышал, потому что вы имеете дело с очень старым монахом.
– Прямо сейчас и начинайте, – говорит сестра Элейн.
Эда кто-то пихает в бок. Эд оборачивается – это Маурисио.
– Видите, – шепчет он с испанским придыханием, – сначала рассказ монашки, потом – священника монашки. – Он со значением вскидывает бровь.
– Да-да, – отзывается Эд.
Он не вполне понимает, на что намекает Маурисио, он вымотан, одурачен, он сам себя обманул. Ведь привела его сюда собственная жадность. Чек от Института экуменизма. Какое же мучение сидеть здесь и заниматься таким вот вуайеризмом.
Брат Маркус просто смотрит на всех, борода у него белоснежна, а глаза пронзительно голубые – такие бывают только у младенцев и стариков.
– Полагаю, я старейший из присутствующих, – повторяет он. – Мне восемьдесят четыре года. Меня зовут брат Маркус Голдуотер, и пригласили меня, наверное, потому, что я через многое прошел – в смысле экуменизма. Вырос я в Чаттануге, штат Теннеси, семья моя была из реформистов. Каждый год мы ходили в синагогу по Великим праздникам, еще был ужин на Песах. Мы, дети, были членами еврейского клуба – там собирались, чтобы потанцевать или попеть. В восемнадцать лет я получил работу в компании «Сирс и Робак», где и проработал девять лет, и там на меня очень повлиял мой непосредственный начальник, который стал меня обхаживать, чтобы переманить в лоно католической церкви.
– Как это «обхаживать»? – спросил потрясенный Эд. Ничего подобного он прежде не слышал. Он потрясен тем, что столкнулся со столь колоритным персонажем – с таким голосом, с такими глазами, с белоснежной бородой.
– Именно что обхаживать – он даже не пытался сделать вид, что у него другие цели, – неторопливо объясняет Голдуотер, – однако он никогда не принуждал меня, не заставлял идти дальше, чем я хотел. Он обхаживал меня, как молодой человек обхаживает девушку. Впрочем, он никогда не темнил. Прямо сказал, что обратил пятерых и надеется, что я стану шестым. Все происходило постепенно. Он играл на моем природном любопытстве, например, однажды он сказал: «Я иду на чудесный концерт. Я бы взял тебя с собой, но ты не поймешь». Разумеется, меня это задело. Я настоял, чтобы он взял меня с собой. Концерт оказался мессой. Я опустился на колени и все понял.
– То есть вы хотите сказать, – сухо говорит Маурисио, – что этот человек соблазнил вас перейти в католичество.
– О да! – отвечает Голдуотер. – Он намеренно меня соблазнил. Так оно и было. Но я думаю, такова природа обращения. Я отдался этому душой и телом. Я влюбился в Церковь. Растворился в ней. Мой начальник в «Сирс и Робак» не был заинтересован в том, чтобы я легко увлекся, в том, что бы я быстро обратился. Он настоял на том, чтобы я прошел обучение, чем я и занимался несколько лет, а потом, когда я решил принять сан, он допрашивал меня со всей суровостью. – Брат Маркус смотрит на свои руки, и Эд впервые замечает его перстень – большой серебряный перстень с готическим крестом длиной чуть ли не на полторы фаланги. Серебро потемнело, поэтому поначалу кажется похожим на железо. – Итак, я был его шестым, – говорит Маркус. – Но я помню, что он сказал мне, и за это я всегда буду ему благодарен. Он сказал: «Никогда не забывай своих корней. Никогда не забывай, что ты родился евреем». И я не забыл. Кто-то из вас наверняка сочтет меня вероотступником, но это не так. Как раз наоборот – я сохранил то, что делает меня мной. И никогда не отказывался от своего еврейского имени: я – Маркус Голдуотер.
– Ой! Ой-ей-ей, – выдыхает раввин Лерер. Он содрогается от хохота, все смотрят и глазам не верят. Кажется, будто он под мухой. – Это мне рассказал один человек из нашей общины в Северной Каролине, – тяжело дыша, продолжает он, и глаза его так и сияют. – Один человек, еврей, попал в список тех, кого наметили в спонсоры республиканской партии. Звонит ему девушка и говорит: «Мистер Голдвассер, могу я внести вас в число тех, кто готов сделать взнос?» А он отвечает: «Моя фамилия Голдуотер. Голдуотер, а не Голдвассер. У моего отца была фамилия Голдуотер, у моего деда, олев а-шолем [79]79
Покойного ( ивр.).
[Закрыть], тоже была фамилия Голдуотер!»
– Но в одном вопросе, брат Марк, я с вами категорически не согласен, – говорит раввин, утирая слезы. – Вы не старейший из собравшихся, поскольку мне уже восемьдесят пять. И, будь на то воля Божья, в ноябре исполнится восемьдесят шесть. Я родился в местечке, которое теперь принадлежало бы Румынии – если бы пережило Первую мировую, и если бы то, что от него осталось, пощадили фашисты. Вот она, история. «Если» на «если». Но у меня было чудесное детство и религиозное воспитание – спасибо моим родителям, да будет благословенна их память. У моего отца была лесопилка, поэтому жили мы в достатке. Он прививал нам любовь к учебе, в доме у нас была библиотека, и он сам часто читал там и размышлял. Он много участвовал в жизни синагоги, да и всего местечка. Не было для него большей радости, чем помогать бедным. Однако духовный мир открыла для меня, когда я был еще совсем ребенком, моя дражайшая матушка; помню, как однажды это, пожалуй, самое раннее из моих воспоминаний – она стояла с книгой, озаренная предзакатным светом. «Мама, мама, почему ты стоишь здесь с этой книгой?» – спросил я, как спрашивают все маленькие дети. «Потому что я молюсь, ответила она. – Молюсь Творцу, создавшему наш мир». Я хоть и был мал, но это поразило меня, и с того времени я решил посвятить себя Богу, создавшему этот прекрасный мир.
Эд морщится. Он закрывает глаза и видит всякие картинки. Которые его смущают. Картинки вроде тех, которые висят в общем зале их синагоги в округе Колумбия. Подражатели Шагала с картинками из старой жизни. Женщина в платке у окна. Пара аляповатых подсвечников. Неужели Лерер рассчитывает, что они поверят, будто он вырос на такой вот картинке? Эда от этой мысли подташнивает – потому что он верит. Он представляет Лерера среди этой пестроты, в местечке, где крыши тянутся вверх, а раввины устремляют глаза гор е , представляет тонкие хасидские лица, мать Лерера, парящую у окна. Он видит все это, слова Лерера вызывают к жизни эти банальнейшие картинки, и его это бесит. Это при том, что Эд сам вырос на отвратительных литографиях, на картинках из поминальников, при том, что представления его сформировала лавка, где торговали иудаикой, и его культурная память идет от книжек с журнальных столиков.
– Мои родители, – продолжает Лерер, после того, как брат Маркус кивает ему, – увидев, когда мы с братьями пошли в школу, как я люблю учиться, надеялись, что я стану раввином. Так или иначе, но было предрешено, что я стану раввином. Наша фамилия Лерер, что значит «учитель», а назвали меня родители Менахем, что значит «утешитель». Назвали меня, собственно, в честь моегодеда по материнской линии, праведника, прямого потомка Вильненского Гаона, одного из величайших учителей и ученых. Да и сам я стал в некоторой степени талмид хахам [80]80
Знаток Талмуда ( ивр.).
[Закрыть]. Что я могу сказать? Опорой мне был не мой ум, а моя любовь к изучаемому предмету. Я любил слово Божье – ив этом был мой талант.
Эд ерзает на стуле. Правая нога у него затекла. Он пишет Маурисио записку: «Кажется, я больше не выдержу».
– Как же нам повезло, что в 1915 году мы эмигрировали в Торонто! – восклицает раввин Лерер. – Я тогда был маленьким мальчиком, но сколько же в моей жизни было счастья! Мы поселились в Канаде, и мой отец, как и прежде, преуспел – правда, теперь уже в розничной торговле. Мои старшие братья вскоре к нему присоединились. А потом настала и моя очередь выбирать себе занятие. Я отчетливо помню тот день. Родители сели со мной рядом и сказали: «Менахем, ты уже вырос и должен выбрать себе профессию». «Батюшка, матушка, – сказал я, – мое заветное желание – стать раввином и посвятить свою жизнь учению». Они тогда улыбнулись – поскольку именно на это они и надеялись все время, пока я рос.
Маурисио подает знак Рику Матеру – постукивает пальцем по наручным часам. Он передает записку Эду: буквы на листке бледные, заостренные. «Говорите, не выдержите? А что мы делаем всю жизнь, как не рассказываем о себе?»
– Так уж вышло, что когда я и моя дорогая жена переехали в Ванкувер, где мне досталась община недавно прибывших, там меня поджидал еще один дар свыше. По воле случая мой номер телефона всего на одну цифру отличался от номера иммиграционной службы, и чисто по ошибке чиновники, принимавшие решения по делам евреев, бежавших от Гитлера, иногда попадали ко мне. Ну, и всякий раз, когда им требовались какие-либо услуги, я был более чем рад им помочь – поработать переводчиком или еще что, и так хоть чем-то я смог помочь нескольким еврейским семьям, искавшим прибежища. И этим – только этим из всего, сделанного мной в жизни, – я горжусьпо-настоящему.
– Ребе, – говорит Матер, которому совсем не хочется его прерывать, – боюсь, некоторые из присутствующих после долгого перелета немного устали.
– Не закончить ли нам встречу? – говорит Эд напрямик.
– Но я дошел только до 1932 года! – обиженно сообщает раввин Лерер. – Я даже не дошел до военных лет, не рассказал о своих общинах в Виннипеге и Северной Каролине, о своей монографии…
– Уже довольно поздно, – говорит сестра Элейн. Все начинают собирать вещи, кое-кто даже встает. Брат Маркус просыпается и смотрит вокруг.
– Я столько прожил, мне и рассказывать положено больше, – говорит Лерер.
– Вам бы, ребе, воспоминания написать, советует ему Боб Хеммингз.
– У меня уже готовы двести страниц, – отвечает Лерер.
С холма к институтским домикам они спускаются в десять вечера. Солнце садится, по небу быстро плывут тучи. В один миг небо чернеет и начинается ливень. От асфальта на дороге идет пар.
– Господи… – стонет Эд. Очки у него запотели, по лицу струится вода.
– Такие они, наши ненастья, – объясняет спутникам брат Мэтью: так же он представлял Боба Хеммингза: «Наш пресвитерианец».
Сестра Элейн единственная, у кого есть зонтик. Она настаивает на том, чтобы его взяли раввин Лерер и брат Маркус.
– Будучи родом из Чаттануги, – говорит Маркус, – я не могу забрать у дамы зонтик.
– И я, и я не могу, – подхватывает раввин.
– Но вы здесь старейшие, – напоминает и Элейн и держит зонтик у них над головами.
Эд вваливается в хижину: в ботинках хлюпает, в животе бурлит. Обсохнув, он сидит в гостиной, пока Боб не объявляет:
– Ну, пора спать. Приятных сновидений!
И тогда Эд хватается за телефон. В Вашингтоне совсем поздно. Жену он будить не хочет, но дел неотложное.
После третьего гудка Сара снимает трубку.
– Алло! Роза, теперь-то в чем дело? – спрашивает она.
– Сара, это Эд.
– Ой, – отвечает Сара, – а я думала, это твоя мать. Она уже звонила из Лос-Анджелеса по поводу своего иска.
– Что?
– Ты забыл? Она же подала в суд на химчистку «Примо».
– А-аа! Сара, я не желаю об этом слышать.
– Почему это? Она же твоя мать, – говорит Сара, – а я здесь осталась одна при телефоне. Я вот-вот свихнусь. Она познакомилась в еврейском центре с судьей в отставке, и они с утра до ночи работают над делом. Она звонит мне каждый вечер. По два, по три раза. Я бы отключила телефон – если бы дети не ушли в поход на каноэ. А вдруг у них что случится, а они не смогут до меня дозвониться? Разумеется, она рада-радехонька.
– Кто?
– Роза. Она за счет этого покрывала озолотится. Оно было из вощеного хлопка, а они его простирали и покрытие погубили. Нового она, разумеется, не желает.
– Сара, мне плевать на это покрывало, – сообщает Эд.
– И мне тоже! – вопит она.
– Не ори на меня. Я не для того позвонил, чтобы на меня орали.
– Очень хорошо!
– Сара!
– Что?
– Ты здесь?
– Да.
– Как ты?
– Я же только что рассказала как, – говорит она.
– Сара, послушай, у меня был кошмарный день. Словно в аду побывал.
– Что стряслось?
– Что стряслось? Я торчу в какой-то Богом забытой дыре. В буквальном смысле. Здесь либо хлещет ливень, либо жара под сорок, здесь куча религиозных деятелей… – он понижает голос и косится на закрытую дверь спальни Хеммингза, – …не имеющих никакого отношения к науке, а сама конференция – нечто среднее между спектаклем по системе Станиславского и собранием «Анонимных алкоголиков».
– И чем же ты занимался?
– Слушал, как остальные рассказывают о себе. Мы все тут должны рассказывать о себе.
– А в остальное время ты что делаешь?
– Да ничего. Здесь нет ни программы, ни распорядка.
– Звучит привлекательно, – говорит Сара. – Значит, можно расслабиться. Расслабься и наслаждайся.
– Да нет, Сара, ты не понимаешь! Ты даже не можешь представить, что это за собрания. Только что один старый маразматик, раввин…
– А озеро там есть?
– Что? А-аа, есть.
– Сходи искупайся. Я тебе положила с трусами еще и плавки.
– Не хочу я купаться, – шипит Эд. – Я хочу домой, хочу…
– Думаешь, я на это поведусь? Я только что отправила четверых детей в «Рама» [81]81
«Рама» – сеть еврейских детских лагерей в США.
[Закрыть]!
– Я как вспомню про отчеты у меня на столе. А письма, на которые надо отвечать, доклад, который я обещал Франкелю! Трачу силы и время…
– Ой, Эд, – всего-то два дня осталось, – говорит Сара. – Даже полтора.
– По-моему, ты не понимаешь, о чем я! Мне от этих людей физически плохо! Собачьей чуши здесь выше крыши!
– Это откуда фраза, из «Оклахомы!» [82]82
«Оклахома!» – первый американский мюзикл, премьера которого состоялась в 1943 году.
[Закрыть]? – хихикает она.
– А мой сосед, – шепчет он, – провинциальный проповедник, просто с картин Нормана Рокуэлла [83]83
Норман Рокуэлл (1894–1978) – американский художник, основная тема творчества которого американская жизнь в небольших городках.
[Закрыть]. Он только что пожелал мне приятных сновидений!
– И что с того, Эд? Что в этом такого?
– Да он меня даже не знает!
– Это к лучшему. Эд, так случилось, что у меня завтра утром заседание в университете.
– Сара!
– Что?
– Я совершенно вымотался.
– Я тоже, – говорит она.
– Ты себе даже не представляешь…
– Приятных сновидений, – отвечает ему она.
В буфете в гостиной Эд находит стакан, отыскивает в чемодане среди туалетных принадлежностей «Алка-Зельцер». Он мрачно выпивает в ванной пенящуюся жидкость, смотрит на себя в зеркало. Редеющие волосы всклокочены, о былой молодости напоминают только глаза дикие, встревоженные.
– Стар я для этого, – ворчит он, укладываясь в кровать.
В ушах звучат голоса новых знакомцев. Испанский идиш Маурисио Бродски, «Точно!» Боба Хеммингза, ровные интонации Рика Матера, рассказ раввина Лерера о том, как ему повезло. Эд зажимает уши подушками.
В шесть утра Эд просыпается от шума то ли машин, то ли грузовиков, что идут по дороге к университету. Безумно хочется есть. Он вскакивает: в гостиной обнаруживается Боб – он пишет что-то в блокноте.
– Доброе утро! – приветствует его Боб. – Как спалось?
– Нормально, – цедит сквозь зубы Эд – о бодрости в такую рань и речи нет. – Что это за шум? Мусоровозы?
– Автобусы, – отвечает Боб. – В университете ночует специальная олимпийская сборная Великобритании. Я только что ходил посмотреть. Приехало то ли шесть, то ли восемь автобусов из Миннеаполиса. Зрелище впечатляющее.
– А что с завтраком?
– Можем пойти вместе – я только умоюсь, – говорит Боб.
Дожидаясь Боба, Эд заглядывает в его блокнот. И видит, что Боб все свое выступление записал.
– Я служу в Первой пресвитерианской церкви в Сиракьюсе. Надо признаться, мы, пресвитериане, всегда стремимся быть первыми. Практически каждая из наших церквей называется Первой пресвитерианской.
– Вы готовы? – спрашивает Боб, выйдя из ванной.
Обеденный зал украшен красными транспарантами: «Добро пожаловать, участники Специальной олимпиады! Англия, Шотландия, Уэльс», обслуга раздает омлеты, жареный картофель, сосиски, гренки.
– Вам, наверное, нужно что-нибудь кошерное, – говорит Боб.
– А что вы тут делали зимой? – спрашивает Эд, когда они с Бобом садятся за стол.
– Занимался, медитировал, снимал стресс, – отвечает Боб. – На такой работе, как у меня, просто сгораешь. И творческий кризис – чувствуешь, что больше ни одной проповеди не напишешь. Плюс эмоциональные перегрузки…
– Хм-мм… – Эд смотрит в миску с хлопьями.
– Столько бед, столько бед, – говорит Боб. – Я вот как раз перед приездом сюда оказывал психологическую помощь человеку, у которого жизнь буквально развалилась, разлетелась вдребезги. Женился он поздно, и они с женой построили дом своей мечты. За пять лет. Чудесное местечко в горах. Мебель на заказ, народное искусство, коллекция старинных игрушек – что-то невероятное. Тут они решили обзавестись ребенком, но на девятом месяце плод погиб в утробе. Они обратились ко мне, но к тому времени их брак уже почти распался. Жена уехала. Думаю, они разведутся. Мы провели церемонию в память о ребенке – что-то вроде поминальной службы, а дом выставлен на продажу. Теперь муж приходит ко мне один, читает Библию, пытается понять, что к чему.
– Что тут понимать? – спрашивает Эд. – Это типичный американский путь. Сначала дом мечты, потом игрушки, потом смерть, потом религия. Все так по-американски, что дальше некуда.
Боб смеется и качает головой.
– Это точно, – говорит он. – Эд, отлично сказано. Однако боль-то настоящая. И вопросы настоящие… – Голос Боба становится все тише. Он поливает гренок сиропом. – Хотите, сходим на озеро?
На озере полно спецолимпийцев, они плавают, плещутся, ныряют с причала в холодную зеленую воду. Боб тоже прыгает и тут же начинает плыть – быстро, умело, вытягивая все свое длинное тело. Эд с тоской смотрит по сторонам. В высокой мокрой траве наверняка полно комаров. От одной мысли о них у него начинается зуд. Миллионы комаров плодятся в стоячей воде под причалом. Он осторожно заходит в воду, делает несколько гребков, от холодного течения сводит ноги. Он разворачивается и цепляется за скользкую опору причала – несмотря на ныряющую прямо у него над головой ребятню. Мимо проплывает вертлявым пескариком маленький мальчик. Вдруг Эду в глаза заглядывает какая-то девчушка. Она топчется в воде и не спускает с него глаз.
– Привет! – говорит Эд. – Ты каким видом спорта занимаешься?
– Гимнастикой, – отвечает она и продолжает топтаться в воде, смотреть на него.
– А как тебя зовут? – спрашивает Эд.
– Элисон.
– Ты откуда приехала, Элисон?
– Из зеленого дома в Бернэме, там, где дорога огибает скалы у моря, – заученно отвечает она. И удаляется.
– Удачи! – кричит ей вслед Эд.
В озере ему холодно, он не знает, куда деваться от летящих отовсюду брызг. Все эти люди, эти ученые с их историями, где вместо домов космологические системы, вместо родителей тотемы предков, вместо профессий призвания, вместо детства сдвиги парадигмы. Сам он не окружал себя такими мифами – точнее сказать, ни за что не стал бы обсуждать их публично. Он чувствует себя не в своей тарелке. С тех пор, как он сюда приехал, он ни разу толком ни о чем не подумал. Он залезает на причал и решает взять портфель и пойти поработать в университетской библиотеке.
Библиотека похожа на собор. Столы расставлены вдоль перил балкона. Поэтому кажется, будто сидишь на хорах. Эд рассматривает книжные завалы внизу. Как ему отсюда выбраться? Можно попробовать вызвать автобус из аэропорта, поменять билет. А можно не ходить на дневное заседание, отсидеться в хижине.
– Доктор Марковиц? – шепчет кто-то ему в ухо. Эд оборачивается и видит молодого монаха в коричневой рясе, подпоясанной вервием. – я Пэт Фланаган, помните? Из автобуса.
– Да-да! – Эд изумленно рассматривает молодого человека. А он и забыл про этого нового профессора. – Я думал, вы приехали преподавать, – говорит он.
– О, да, – отвечает Фланаган. – Но еще и в здешний монастырь. Как вам здесь нравится?
– Все очень мило, – говорит Эд. – Просто прекрасно. А вы, помнится, говорили, что здесь тихо.
– В это время года здесь, пожалуй, не так тихо, – говорит Фланаган. – На лето здесь многое сдается, например, сейчас у нас команда готовится к Специальным Олимпийским играм, а еще баскетбольный лагерь и люди из «Элдерхостела» [84]84
«Элдерхостел» – некоммерческая организация, действующая во многих странах мира, которая занимается образованием и досугом пожилых людей.
[Закрыть]– вы, наверное, их видели?
– Нет.
– Ну, их вы ни с кем не спутаете – у них одинаковые футболки. Но зимой здесь действительно спокойно. Для тех, кто любит снежные пейзажи, лучше места не найти.
– Да, мне говорили, – отвечает Эд.
Эд проскальзывает в столовую, как только она открывается на обед. И убедившись, что никого из участников конференции поблизости нет, набирает полный поднос – жареная курица, пюре, зеленый горошек, яблочный пирог. Он садится у стены, где его загораживает длинный стол, за которым сидят учащиеся «Элдерхостела». Проглотив курицу и пюре, он отправляется за добавкой. Ест он как человек, вырвавшийся из плена.
– Маргарет, – говорит его соседка по столу, – я тебе уже говорила – в эти выходные будем жарить сосиски.
– Ах, да, теперь вспомнила! Я обязательно что-нибудь принесу, – отвечает Маргарет.
– Это совершенно не обязательно.
– Но мне хочется.
– Когда мы жарим сосиски, еды всегда оказывается больше, чем нужно. Даже не знаю, что попросить.
– Может, картофельный салат? – предлагает Маргарет.
– Ну не знаю…
– Ты не любишь картофельный салат?
– Почему, очень люблю.
– Эйлин, ты только не ври.
– Я и правда его люблю, – говорит Эйлин. – Просто мы его никогда не едим.
– Неужели? – изумляется Маргарет. – А всегда едим картофельный салат с сосисками. Понимаешь, я не люблю сосиски с булочками. Я люблю порезать сосиску, а рядом положить картофельного салата.
– Эдуардо! – бросается к Эду Маурисио Бродски перед началом дневного заседания.
– Вижу, вы сегодня в прекрасном настроении, – говорит Эд.
– Я был в книжном и накупил всего! Удивительная подборка книг по католической теологии. Я потратил триста долларов – это все для моих расследований, для моей детективной работы. А где вы были утром? Вы пропустили мессу.
– Я еврей, – говорит Эд и смотрит на Маурисио, на его тоненькие южноамериканские усики, на его черную ермолку.
– Никто в этом и не сомневается! Потому-то и важно, чтобы вы ходили на мессу, чтобы все понимали. Если поблизости есть собор, я хожу непременно – чтобы напитать себя звуками и образами. Естественно, для меня лично это ничего не значит, ничего! – признает он, прищелкивая длинными пальцами. – Но сходить надо. Еврею непременноследует. Чтобы… чтобы…
– Прочувствовать это на своем опыте, – заканчивает за него Эд.
– Нет-нет, чтобы они прочувствовали вас. Но, поверьте мне, истинное счастье, ни с чем не сравнимое – это когда мне удается привести католических священников в синагогу «Молодого Израиля» [85]85
«Молодой Израиль» – иудейская организация в США, к которой относится ряд синагог.
[Закрыть], посидеть там вместе с ними. Сидеть с ними – это что-то, раввин из себя выходит.
– Профессор Марковиц, доктор Бродски, добрый день! – говорит брат Мэтью. Его широкий лоб усыпан капельками пота. – Вам здесь хорошо? Комнаты вас устраивают?
– Брат Мэтью, все просто прекрасно, изумительно! – отвечает Маурисио.
– Очень хорошо, – говорит Мэтью. – Знаете, у нас здесь, в Святом Петре, есть традиция. Если вы побывали здесь в качестве гостя, вы становитесь членом семьи – а это значит, что вы можете приехать к нам в любое время.
– Прекрасно! – говорит Маурисио. Великолепно! Брат Мэтью, так когда же вы расскажете свою историю?
– Кто, я? – смеется брат Мэтью. – Я же не участник конференции. Я просто координатор. И прихожу только послушать вас.
– А по-моему, вам обязательно нужно рассказать свою историю, – говорит Маурисио.
– А тут нечего рассказывать, – говорит Мэтью. – В монастырь я пошел, когда мне был шестнадцать лет, да так и остался. Да, я провел пару лет в Ватикане. И одиннадцать лет жил на Аляске с иннуитами.
– Вот это да! – восклицает Маурисио.
– Поверьте, на Аляске жизнь мало чем отличается от здешней, – говорит брат Мэтью. – Устав везде один – где бы ты ни жил.
– Так значит… – вступает в разговор Эд, – …вы приняли обет в шестнадцать лет?
– Я встал на эту стезю. Иначе я бы, наверное, стал автомехаником, как мои братья. Но я все равно ремонтирую все машины в монастыре.
Эд смотрит на монаха и думает, что тот и в самом деле похож на автомеханика. И поэтому ему хочется спросить Мэтью, что он думает про всю эту белиберду на конференции – про Маркуса, еврея с Юга, принявшего католичество, про сестру Элейн и ее родной дом. Ему хочется спросить Мэтью с глазу на глаз, не мутит ли его от этого. Но Рик Матер уже начал заседание.
– Позвольте представить вам только что прибывшего Авнера Рабиновича, он приехал к нам из Израиля, из университета Хайфы, – говорит он. – Его рейс задержали на двенадцать часов в Париже, поэтому он добрался до нас только сегодня утром. На конференцию он прибыл только что, но здесь, в институте, он не новичок – он незаменимый член Библейского совета по третьему миру.
Эд вскидывает голову. Он и сам интересуется странами третьего мира, особенно маргинальными террористическими группировками. Он с надеждой глядит на Рабиновича, активно работающего ученого, чья область деятельности соприкасается с той областью, которой занимается Эд.
– Не знаю, как вы, – говорит им Матер, – но у меня уже собралось немало записей. – Он оглядывает обеденный зал, где все сидят ровно так же как и вчера вечером: Эд между Маурисио и Бобом Хеммингзом, напротив них сестра Элейн и раввин Лерер. – Марта, быть может, вы… – Матер обращается к женщине, которая сидит с другого бока от Маурисио, с лангеншейдтским словарем на столе. Она очень светловолосая и, кажется, уже серьезно обгорела.
– Извините за плохой английский, – говорит Марта, глядя на собравшихся небесно-голубыми глазами. – Должна сказать, на эту встречу собирался мой муж, но в конце концов не смог и послал меня, его супругу, в качестве своего представителя. Так что я должна говорить не только за себя, но и за него. Мой муж – он и есть настоящий теолог, я же только его ассистентка и аспирантка.
Маурисио наклоняется к Эду и говорит.
– Ну вот и рассказ жены, а?
– Надо также сказать, – продолжает Марта, – я не считаю само собой разумеющимся, что я – христианка, причем немка, сижу с вами, евреями. Это для меня большая честь, и мой муж говорит, это еще и урок для нас, на которых лежит вина за нашу историю. Так что я должна вас очень поблагодарить. Я выросла в Дюссельдорфе, в протестантской семье, не религиозной, но культурной – мы все любили книги, искусство, музыку. По будням отец играл на пианино Моцарта, Шумана, Генделя и Брамса. По воскресеньям он играл произведения Иоганна Себастьяна Баха. Я выросла и вышла замуж. И тогда, с Питером, я и стала по-настоящему учиться. Питер был занят религиозными исканиями. Мы поженились и стали искать вместе. Мы искали ответы на вопросы нашей истории. На то, как церковь стояла так рядом, когда Гитлер творил свои злодеяния. Питер написал книгу о протестантской церкви и нацизме. Вместе мы раскрыли, в чем вина наших религиозных деятелей, в чем, как считал Питер, виновата и сама религия. Даже хорошие ученые, которые отказывались взаимодействовать с церковью, сотрудничавшей с нацистами, они допускали сотрудничество с антисемитами. Грех содержался в установках церкви, решил Питер, и я, которая вела исследования, должна в этом с ним согласиться. Корни церкви оказались гнилыми, все основано на насилии, например, насильственный захват иудейского Писания более поздними культурами. Питер спросил меня, что общего у христианских толкователей с тем, каким сам Иисус видел Писание? Ведь Иисус читал его как еврей. Однако его взяли и стали использовать для новых целей. Книга Питера привела его к отчаянию – ведь церковь оказалась пассивной в наши злые времена. Мы думали вместе. Как ответить на такую историю? Как нам воспитывать наших двоих детей? На вопрос о зле в этом мире нет ответа, мы это знаем. А на вопрос о церкви? И тогда Питер сам нашел решение. Он сказал мне: «Эта церковь нас обманула, но с нами она может измениться. Надо использовать теологию, чтобы понимать, надо применять наше знание истории, чтобы реформировать. По лютеранской традиции Реформации, мы можем убрать гнилое и добавить новое». Таково убеждение моего мужа, и мое тоже, хотя я только недавно вернулась в университет – когда дети подросли. Иврит труден для меня, но я учу его и дорастаю до него, чтобы мы с Питером могли продолжать. Мы должны продолжать. Однако избежать чувства ужасной вины мы не можем… – Голос Марты срывается, глаза наполняются слезами. Маурисио берет ее руки в свои, и Эд видит, что Маурисио тоже плачет. Они так и сидят, держась за руки.