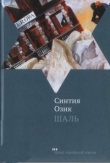Текст книги "Семья Марковиц"
Автор книги: Аллегра Гудман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
На следующее утро в Йом Кипур Генри заспался. В одиннадцать позвонила мать.
– Мне таки придется взять такси, – говорит она.
– Ладно, – отвечает Генри.
– Хоть оно и обойдется в сто долларов.
– В сто долларов – быть такого не может! – голос его спросонья звучит глухо. – Думаю, в сорок, не больше.
– Сорок долларов за такси? Не может быть. Да я в жизни столько на такси не тратила. И в синагогу на такси мне еще не доводилось ехать.
– Мама, не плачь. – Слушать, как она плачет в трубку, он не в состоянии.
– Не понимаю, почему ты не можешь заехать за мной сейчас, ведь ты обещал отвезти меня, – говорит она.
– Отвезу, мама, отвезу, – говорит он. Выпрастывается из постели, принимает душ, проглатывает полчашки кофе, два куска поджаренного хлеба.
– Служба наверняка уже закончилась, – говорит она, когда он ставит машину на стоянке синагоги.
– Да ты п-п-посмотри, сколько здесь машин, – говорит Генри.
По дороге он заскакивает в мужской туалет – перевести дух. Он поверить не может, что ему удалось доехать до синагоги благополучно. Перед глазами у него все плывет. Он ополаскивает лицо, промокает глаза шершавым бумажным полотенцем. После чего неспешно проходит через вестибюль с настенной мозаикой, изображающей суд Соломона, – на ней великий царь в каких-то масонского вида одеяниях занес меч над головой невинного младенца. Минует шагаловские двенадцать колен Израилевых, воспроизведенных на двенадцати тканых ковриках. Мать его сидит в начале зала, она машет ему рукой – торопит занять место рядом с ней. Вокруг нее разместились супружеские пары, целые семьи, ерзают дети – все слушают раввина, он читает проповедь.
Генри смотрит на раввина в его пестро-полосатом, как радуга, талисе. Раввин молодой, тщедушный, черты лица у него тонкие, волосы прямые, жидкие. Голос пронзительный и такой высокий, что режет уши, хоть Генри и закутался шарфом.
– Почему, – вопрошает раввин, в Йом Кипур мы, евреи, собираемся вместе и вместе читаем вслух список наших грехов? Убийство, прелюбодеяние, кража, злоязычие – совершали мы лично эти грехи или не совершали – мы бьем себя в грудь сообща: такова наша традиция. Мы говорим не так о личной, как об общей вине, и об искуплении, тоже общем. Мы исповедуемся сообща и приговор выслушиваем тоже сообща. В начале я сказал что буду говорить о взаимосвязи. И вот что я под этим подразумеваю. Когда мы встаем и говорим о наших грехах, когда мы молим об искуплении, любой из нас связан с любым другим. В конечном счете, твои грехи – это мои грехи, и мои грехи – твои. Это наши общие грехи. Все мы связаны друг с другом, на самом что ни на есть сокровенном уровне.
Генри – в молельном зале прохладно – пробирает озноб. Уж не лихорадит ли его? Он не хочет сидеть здесь, в этом молельном зале, не хочет быть связанным с этим скопищем людей, да, в сущности, не хочет быть связанным ни с кем. А хочет домой. Хочет в постель. Хочет остаться в одиночестве, полном одиночестве и чтобы вокруг были книги – и только.
– Прервемся на минуту, – говорит раввин. – Прервемся и поразмыслим о том, что значит быть связанными друг с другом. Что мы значим друг для друга при всех наших недостатках? Подумаем, что означает сказать: мы с тобой неразделимы, так что не спрашивай, кто согрешил в прошлом году. Согрешили мы все. Согрешили мы все. Как писал великий теолог Джон Донн: не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по мне, по тебе, по всем нам. Нет человека, который был бы как остров и мог бы спастись сам по себе. Все мы лишь прах земной на этом материке. Мы взаимосвязаны друг с другом. Так что уделим минуту безмолвной молитве. Возьмите, прошу вас, руку своего соседа. Ощутите вашу связь.
Органист тихо наигрывает какую-то мелодию, звуки струятся, льются, и Генри обнаруживает, что с одного боку в него вцепилась мать, с другого – липкая ручонка соседней девчушки. Несколько минут – как долго они тянутся – мать сидит с закрытыми глазами.
– Мама, – шепчет он. – Мама, ты заснула?
– Ш-ш-ш, – шипит она, встрепенувшись.
Органист все играет, и Генри чувствует, что его прошиб пот. Ему просто необходимо высвободить руки, но не тут-то было. И он подавленно сидит, пригвожденный к креслу: события прошедших дней угнетают его. Перед его глазами вновь и вновь мелькает юнец, выскакивающий из именинного торта Майкла, его гладкое, без единого изъяна тело. И он, Генри, должен быть причастен ко всему этому? И ему, менеджеру Майкла, его правой руке, уготовано соучаствовать – в таком вот, творить заодно с ним – вот такое вот? Тут глазам Генри открывается и кое-что иное. Прямо перед собой он видит Амалию Бен-Ами, мать юнца, это она, кто ж еще, с ее огненными от хны волосами и огромной сумкой, эта женщина, по всей очевидности, убитая горем, оставшаяся без гроша, сидит около Флейшмана и его жены, ее хозяев и благодетелей, по словам Гольдвассера. Она держит за руку Флейшмана и еле заметно – но от Генри это не укрылось – поглаживает костяшки Флейшмана большим пальцем. У Генри глаза чуть не вылезают на лоб, в тишине слышно, как он ахнул. Неужто эта женщина которая потеряла сына, пользуется случаем закрутить с женатым человеком в годах? С этим юристом? И в этот миг Генри испытывает – нутро ему надрывают очистительные рыдания – боль и облегчение разом, так что даже глубоко таимое чувство вины теперь затопляет и поглощает омерзение. В этот миг Генри кажется, что его мир дал трещину, обнаружив сад абсурда, сад, достойный кисти Иеронима Босха с его многоликими, поражающими воображение злокозненными уродцами. Ему кажется – точь-в-точь, как в фильме ужасов, – что в синагоге, в мире искусств, во всем Лос-Анджелесе кишмя-кишит зараза. Прямо под кожей у него копошатся мириады паразитов. Он распрямляет плечи, сердце у него колотится. Он высвобождает, разрывая круговое рукопожатие, руки, обтирает их платком.
– Генри, мы разобьемся, – говорит ему мать, когда они мчат домой. – Генри, прошу тебя, не так быстро.
Она вцепилась в ремень. Но он слушает ее в полслуха. В голове его, перебивая друг друга, звучат голоса.
– Как дела-делишки на артрынке? – спросил его Джейсон.
– Это розничная торговля, – взорвался его брат, когда Генри сказал, что работа в «Лоре Эшли» – не для него.
– Смотрите, сколько в жизни путей, – сказал его психотерапевт, – и один путь вовсе не обязательно лучше другого. Вопрос стоит так: что лучше для вас в этом месте, в это время, вот из чего надо исходить.
Но что это за место? – спрашивает себя Генри – в это время он мчит домой, пожирая пространство серой автострады километр за километром, поедая глазами пылающее небо. Куда я попал, что это за место с его литографиями, с его ткаными по шагаловским мотивам ковриками? С Майклом и его несовершеннолетним любовником, с матерью этого юнца, торгующей собой в синагоге. Что это за место? Что оно такое? Он заставил мать перебраться сюда, чтобы она жила поблизости от него. Научился водить машину. И тем не менее наконец он смог прозреть всё вот это вот, позволить себе – утвердившись в своей правоте – прозреть: этот Венис с его искусством, пляжем, со всей его колоритностью, на самом деле Содом. Содом и Гоморра, вместе взятые. Воровство, выставленная напоказ плоть – и больше ничего. Он предельно четко видит это разветвление. С одной стороны – Венис, бесстыжий, загнивающий под жарким солнцем, с другой – Восточное побережье, затворническое и закрытое застегнутое наглухо. Милый Принстон с его вековым деревьями и башнями, дорогие его сердцу университеты, всем-всем вплоть до Нью-Йоркского, стопки книг, искусство, наука, вместилища учености, где жизнь течет по-прежнему чинно и благопристойно. Где делячеству и всему этому распутству не проникнуть за железные ворота.
– Генри, – матери надоело молчать, – по-моему, раввин говорил очень хорошо.
Ему еще придется вернуться. Ему еще придется отыскать путь.
– Генри, – говорит Роза, – это что, полицейская машина? Она что, гонится за нами?
Как бы то ни было, связи с искусством он не потеряет. Если иначе не получится, будет работать в частном секторе. Он вернется. Он снова посвятит себя служению красоте. Не торговле, не делячеству, а непосредственно искусству. Он уедет, уедет и даже не обернется, не бросит взгляда назад. Уедет и не обернется. И он стал припоминать, как зовут братнина приятеля из Шорт-Хиллс.
Устная история
пер. Л. Беспалова
Раз в неделю Роза участвует в проекте «Устная история Вениса». По понедельникам к ней присылают одну девушку, Альма ее зовут, и Роза рассказывает ей о разных разностях из своей жизни. Бывает скучновато, но дело важное, а раз так – надо помочь.
– Затея нелепая, не думай, что я этого не понимаю, – говорит она своему сыну Эду, когда он звонит.
Альма очень даже ничего, при том что ходит Бог знает в чем. Впрочем, все они так одеваются. Такое же шмотье рекламируют в каталогах. Роза получает все, какие есть, каталоги. Там девяносто девять процентов шлока [21]21
Здесь: дешевка ( идиш).
[Закрыть], причем за двойную цену. А товары с так называемой скидкой, те хуже всего. Цены на них еще так сяк, но дрянь, она дрянь и есть! Каждую неделю Роза гадает, в чем Альма придет но ни разу не угадала. Она ничего по два раза не надевает и гладить ничего не гладит. Разведенка, ясное дело, вот она кто. Она сама Розе сказала. В последний раз пришла в серьгах из чугуна. В каждом ухе по две дырки. Но вообще-то одевайся и причесывайся она иначе, была бы вполне симпатичная. Не красавица, нет, но руки у нее изящные, а рукам Роза придает особое значение.
Руки, только руки не нравятся Розе в жене ее сына Эда. Даже на свадебной фотографии руки у нее грубые, с толстыми пальцами. Все фотографии упрятаны в ящики, кроме тех двух, что на секретере. Мальчики на них сущие ангелочки. Им там два и пять. Для проекта Роза достала старые семейные фотографии. Кроме фотографий, из своей прежней квартиры она взяла только диван и китайский ковер, зеленый. Когда она поступила в «Дамскую одежду Мейсиз», где работала до того, как получила место в «Тиффани», она в первую очередь купила этот ковер. А после него – зеркало с гранеными краями, но оно разбилось. Оправа была плохо пригнана, и как-то ночью оно грохнулось на пол, Роза потом еще неделю вздрагивала. Обеденный стол с шестью стульями к нему Эд не разрешил ей взять: в Венисе у нее однокомнатная квартирешка в доме для жильцов старшего возраста. Но китайские вложенные один в другой столики вместе с мягким креслом и лампами перегородчатой эмали это гарнитур: не разрознивать же его. Лампы захотел взять другой Розин сын, Генри, но он переехал в Англию, и Роза их ему не отдала. Он сорвал ее из Вашингтон-хайтс: мол, ей лучше жить поблизости от него, в Калифорнии, а сам перебрался сначала в Нью-Йорк, а потом – и трех лет не прошло, как она переселилась в Венис, – в Англию. И когда он бросил ее тут, она сказала, что не разрешит ему увезти лампы. И водрузила их на комод рядом с кроватью. А для чтения купила лампочку в семьдесят пять ватт.
Альма – нога за ногу – входит в комнату, на этот раз ее короткие волосы словно вздыблены ветром.
– Садитесь, садитесь же, – торопит ее Роза, и Альма падает на диван, приминает подушки своими папками. Альма все расшвыривает, Розу это и коробит, и восхищает. Спроси ее, она сказала бы, что Альма не умеет себя вести. Меж тем Розе нравится поругивать Альму. Она всегда питала слабость к несносным детям. Даже теперь несносный Генри, хоть он уже не ребенок, все равно ее любимец.
Девушка перебирает папки, прежде чем спросить: «Как поживаете?», что-то там подкручивает в магнитофоне. Роза обдумывает вопрос.
– Я чувствую слабость. А как вы себя чувствуете?
– Отлично. – С минуту они смотрят друг на друга.
Опять Альма вся мятая-перемятая, отмечает – без осуждения – Роза. Она убавляет звук в приемнике, приглушая симфонию Айвса [22]22
Чарльз Эдуард Айвс (1874–1954) – американский композитор, органист и хормейстер.
[Закрыть]. Альма, прижмурившись, наблюдает за ней. Раскаленное добела дневное солнце все еще слепит, размывает очертания комнаты.
– У вас нездоровый вид, золотко, – говорит Роза. – Вы вся пылаете.
– Это я обгорела. Не беспокойтесь.
– Я всегда была такая светленькая, – говорит Роза.
Альма прерывает ее:
– В нашу последнюю встречу вы говорили о своем детстве. Давайте вернемся к тому, на чем мы остановились. Ко времени до Первой мировой войны. Как ваша семья выживала в обстановке такого прессинга?
Роза откидывается в кресле, при этом платье поднимается выше колен, открывая эластические резинки темно-коричневых чулок.
– Я вам расскажу про Депрессию. Мы тогда жили в Бруклинском доме. У нас, слава тебе Господи, был дом.
И она – Бог весть почему – поводит рукой над нагромождением мебели. Труднее всего было перевезти секретер. Пришлось снимать жалюзи и вносить его через окно. Что Роза тогда пережила. Она ломала руки в ожидании, когда же секретер пройдет через окно, была уверена, что грузчики наверняка забудут про резные шишечки наверху.
– Довойны, – Альма не позволяет ей отвлекаться. – Я хочу поговорить о прессинге до войны. Как ваша мать с этим справлялась? Где вы жили?
– Что вам сказать, война это грязь и опасности. Я бы ни за что не вернулась в Вену. Ни за что, ни за что. Меня отправили в Англию, и я стала совсем англичанкой. Все, что я помню о Вене, это грязь.
Альма подается к ней.
– Нельзя ли более детально? Для нашего проекта это очень важно.
– Альма, – понижает голос Роза. – Я обещала вам помочь, но кое о чем лучше забыть.
– Постарайтесь вспомнить. Вы же свидетель тех времен – тех трагедий.
– Чушь, – фыркает Роза. И тем не менее улыбается: ее трогает Альмин интерес к ее жизни.
– Мне необходимо ваше содействие.
– Ну что ж, – Роза соглашается, – мы что-нибудь сочиним, золотко. Ваш университет ничего и знать не будет.
– Миссис Марковиц! – Есть в Розе что-то такое, что озадачивает Альму. Какая-то беспечность, лукавая беспамятность. Альма предпринимает еще одну попытку. – Хорошо, я постараюсь сформулировать мой первый вопрос в менее специальных терминах. Говоря о прессинге, я вот что имела в виду Как представительница поднимающейся вверх европейской буржуазии и как женщина опасались ли вы, что вашим планам повышения своего статуса в Вене не суждено осуществиться?
– Я же была совсем маленькая, – Роза становится на дыбы. – Это же до первой войны было, вспомните. Вы меня полной дурой выставляете. Мало того, мы же были евреи. Вот почему мы сюда приехали.
– Следует ли из этого, что вы принадлежали к еврейской интеллектуальной элите? Верно ли будет определить вашу семью так?
– У меня было шесть братьев, – Роза задумывается. – Одни были толковые, другие – нет. Джозеф – да, он толковый, Джоэль – да. – Она загибает пальцы. – Сол – нет, Мендель – да. Нахум – он умер молодым. Хаим, был ли толковым Хаим? Ну уж нет – да упокоится он с миром. У него было золотое сердце. Скорее всего, одна половина семьи была элитой, другая – нет.
– Собственно говоря, я спрашивала, каков был ваш экономический статус? Как бы там ни было, идем дальше.
– Экономический? Мы имели дом, – сообщает Роза. Он и спас нашу семью.
– В Вене?
– Нет, здесь. В Америке. В городе. В Бруклине. Я же была крошка. Меня отправили учиться в Хантер-колледж, но мне повезло: посреди учебы я вышла замуж за Бена. Кошмарное заведение. Видите ли я совсем не знала математики. Двух чисел сложить не могла. А все потому, что меня так воспитывали.
– М-м-м, – мычит Альма. – Вас, как женщину, в социальном плане ориентировали на то, чтобы вы чуждались цифр?
– Да нет, меня пытались учить, но отступились – уж очень я оказалась глупой.
– Вы считали себя глупой?
– Не глупой, а артистичной. Я шила платья. Моя цель была – поехать в трансатлантический круиз. И я поехала. И не раз.
– Следовательно, вы стремились преодолеть классовые барьеры, стремились в высшее общество, – заключает Альма.
– Вот уж нет, мы и были высшим обществом. Мой брат был учителем. Нас отправляли в колледжи. Моя невестка рисовала, играла на пианино. Мы говорили и по-немецки, и по-французски. Мы были очень культурные. Наш дом в Вене – это просто-таки произведение искусства. А в Бруклине мы жили даже лучше.
– Бог ты мой, – вопит Альма. – По моим записям в нашу прошлую встречу вы сказали, что знали одни лишения и голод.
– Чушь это.
– С той недели ваша оценка событий переменилась?
Роза вздергивает подбородок.
– Вы что, хотите сказать: я не помню, что говорила неделю назад?
– Нет, – говорит Альма. – Я пытаюсь составить последовательную картину.
– Я очень даже последовательная.
– Хорошо, каково все же было положение вашей семьи: вы были бедные и невежественные или культурные?
Роза складывает руки на коленях.
– Мы были культурные в душе.
Заводя машину, Альма злобно озирает кондоминиумы Венис-Висты, их темно-зеленые стены, бетонные дорожки, осененные финиковыми пальмами. Каждую неделю Роза по-разному рассказывает о том, когда она покинула Вену. Увертки у всех у них, у этих старушонок из Вениса и Мар-Висты [23]23
Мар-Виста – район на западе Лос-Анджелеса, граничит с Венис-бич.
[Закрыть], у учительницы музыки на пенсии из Долины [24]24
Долина – имеется в виду долина Сан-Фернандо, урбанизированная долина, в которой расположена половина Лос-Анджелеса.
[Закрыть], конечно же, разные. Однако другие морочат голову как-то более предсказуемо: Эйлин с ее правнуками, Симона с ее нескончаемыми кулинарными рецептами. Роза, она потоньше, более речисто непоследовательна.
Альма едет мимо Венис-бич и думает, как воодушевляло ее прежде зрелище старушек на садовых скамейках. Альма ходила смотреть «Людей Вениса» [25]25
По всей вероятности, речь идет о фильме «Жизнь и смерть в Венисе», снятом по книге Барбары Майерхофф «Научи нас так счислять дни наши. Торжество преемственности и культуры у еврейских стариков в одном городском гетто». Барбара Майерхофф изучала процесс старения, интервьюируя жильцов «Алия-центра» в Венисе. Фильм получил «Оскар» как лучший документальный фильм.
[Закрыть], еще когда училась в аспирантуре на кафедре романских языков в Беркли [26]26
В городе Беркли на западе штата Калифорния находится кампус Калифорнийского университета.
[Закрыть], тогда-то ее и озарило: вот, что ей нужно. Ей опостылело искать смыслы в литературе. Необходимо понять не тексты, а людей. Необходимо услышать живые голоса. Ее руководитель пытался отговорить ее, убеждал не переходить на другую программу.
– Вы блестяще работаете на нашей кафедре, – так удерживал ее профессор Гарви. – Вы напишете публикабельную диссертацию.
Но к этому времени Альма уже пришла к выводу, что он дурак, свинья и эксплуататор. Так что она распрощалась с Гарви и его кафедрой и теперь вместо компьютерных исследований MLA [27]27
MLA (Modern Languages Association) – Ассоциация по изучению современных языков.
[Закрыть]занимается сбором статистических данных. Вместо книг людьми. Ее мать эти перемены удручают. Ее вообще удручают Альмины аспирантские шатания. Она кротко увещевает ее по телефону из Палос-Вердеса [28]28
Палос-Вердес – общее название группы приморских городков к юго-западу от Лос-Анджелеса.
[Закрыть]:
– Альма, ну зачем так надрываться? Зачем начинать учиться по-новому, в этом нет никакой надобности. Тебе тридцать один, и раз тебе не нравится твоя программа, брось ее – и делу конец. Что тут такого? Или возьми академический отпуск: за год осмотришься, поймешь, что тебе нужно.
– И что я буду делать весь этот год? – как-то спрашивает ее Альма после таких уговоров.
– Зачем тебе что-то делать? – отвечает мать. – Просто приезжай домой, отдохни. А то попутешествуем вдвоем, только ты и я. Ты совсем о себе не думаешь – нельзя столько работать.
Об Альмином друге она не обмолвилась ни словом, и уже по одному по этому Альма понимает: тревогу матери внушает прежде всего он. Мать видела его лишь раз, поговорила с ним накоротке, но она никогда о нем не упоминает, никогда не произносит его рокочущее, типично еврейское имя – Рон Розенблатт.
Альма пренебрегла материнским предложением, перебралась в Венис и купила «тойоту». Она колесит по Лос-Анджелесу, берет интервью. Однако работа с живыми персонажами несет свои разочарования. Нужных ей свидетельств Альмины старушки никогда не дают. О своем времени рассказывают скупо, а кассеты заполняют обсуждением мыльных опер, подробностями своих желудочно-кишечных недомоганий, чтением писем. Опять же Роза и тут актерствует больше всех: разворачивает извлеченные из секретера пожелтевшие листки, подносит их к свету – можно подумать, это важнейший исторический документ, а не всего-навсего благодарственная записка от невесты ее старшего брата или, как в последнем интервью, копия ее фантастического письма в Налоговое управление: «Мой дорогой муж был маоистом. Прошу простить ему этот промах в уплате налогов». Роза, она хуже всех.
В квартире почти так же жарко, как в машине. Альмин кокер-спаниель Флаш растянулся на диване, уши у него повисли. Он еще не оправился от гриппа. За круглым столом под гул вентилятора на третьей скорости трудится Рон. Пишет научную работу об исполнителе народных баллад Джоне Джейкобе Найлзе [29]29
Джон Джейкоб Найлз (1892–1980) – американский бард, собиратель песенного фольклора, композитор.
[Закрыть], правда, последнее время Рон помогает Альме анализировать собранный ею материал. Иногда Альма задается вопросом: будет ли доведен до конца тот или другой проект. Притом, что Рон любит собирать материал, пишет он уж очень сжато. Он знает сотни баллад, но писать о Найлзе ему наскучило, еще когда они с Альмой познакомились. В минувшем году он хотел причитающийся ему научный отпуск провести в Аппалачах, изучать источники найлзовских баллад, но Альма сказала, что тратить на это время просто смешно и своим проектом ради этого она не пожертвует. Рон поворчал-поворчал и выжал из себя главу.
Сейчас Рон корпит над расшифровкой Альминых записей; чтобы их не сдул ветерок от вентилятора, он придавил их пепельницами и стеклянными кружками-подставками.
– Детка, – говорит он, – по-моему, эти материалы невозможно использовать.
Альма захлопывает дверь.
– Не деткай меня.
– Мисс Ренквист, – говорит Рон, – это дерьмо, а не материалы.
– Не моя в том вина! – Альма опускается на диван рядом с Флашем. – Ты не понимаешь, с чем мне приходится иметь дело. Один день они рассказывают все так, другой – этак. Роза Марковиц, та, похоже, не знает даже, богатая она была или бедная.
– Я не могу ничего понять, – говорит Рон, – вот в чем штука. Я же не знаю, что это за женщины. По записям видно только, что ты их то и дело прерываешь. Закидываешь тенденциозными, наводящими вопросами.
– Я хочу направлять обсуждение, – парирует Альма. – А ты что, хочешь, чтобы я слушала, как они булькотят о своих запорах?
– Направлять? – переспрашивает Рон. – Посмотри на эти расшифровки. Каждый твой второй вопрос о классовой борьбе. В конце-то концов – это же грант, финансируемый федеральными властями. Задача поставлена очень четко: женская жизнь до и после войны.
– Ты что, учишь меня, как вести исследование? – ощетинивается Альма.
– Альма, – говорит он. – Пораскинь мозгами. Эти женщины понятия не имеют, о чем ты толкуешь. Первым делом прекрати давить их эрудицией. Ну что Эйлин Микер знает о патриархальных структурах иерархии?
– Очень даже много.
– Но не в этих терминах.
Альма вылетает на кухню.
– Это моя диссертация, – выпаливает она. – И идея ее моя. Думаешь, ты можешь брать интервью лучше меня – милости просим.
– Почему бы и нет, – рявкает Рон из соседней комнаты. – Почему бы мне заодно и интервью не брать?
– Хочешь говорить со мной, иди сюда. – Альма наливает себе стакан шабли: ей немного совестно, отчасти потому, что Рон говорит дело – она слишком часто прерывает старушек. Это укоренившаяся привычка. Она всегда норовила предупредить возражения, навязать свои выводы. Еще в школе Альма каждое утверждение подвергала сомнению. В спорах она засыпала одноклассниц вопросами. После уроков учителя, тушуясь, читали ей нотации. Стоя перед классными досками в меловых разводах, умученно размахивали руками: «Я знаю, Альма, у тебя острый ум. Но не стоит говорить безапелляционно». Рон не такой вспыльчивый, как она. В спорах она наскакивает на него, а он не спускает с нее глаз – и только, если бы он хватал ее за руки, это бесило бы не больше. Лучше отступиться, чем играть в его игры.
– Рон? – Она высовывается из кухонной двери. – Слушать их – это же мука-мученская. Вот отчего я веду себя так напористо.
– Знаю, – говорит он. – И вот что я тебе скажу: я проголодался. Закажи пиццу.
Она звонит и заказывает пиццу с самыми разными начинками, свою половину с анчоусами, и трубочки с кремом на десерт. Они расчищают стол, Альма убирает распечатки назад в картотечный шкаф на колесиках. Рон ропщет: мол, их квартира ни дать ни взять, служебный кабинет, но Альма любит офисную мебель, стеллажи, встроенные шкафы. Книжные полки у нее на угловых фитингах, под кроватью – выдвижные ящики. Столы складные, кресла без подлокотников, подставка для принтера многоуровневая – словом, все, что сберегает место. Минимализм греет ей душу. Катушечный магнитофон Рона (необходимый для его исследований), его раскидистые папоротники рядом с Альмиными модулями выглядят как недоупакоупакованный багаж.
А вот и пицца с двойным сыром, маслинами, грибами, луком, зеленым перцем и баклажанами. Рон обозревает пиццу в поисках Альминых анчоусов, отрезает ей кусок, она ест, как положено, – нож, вилка. Рон тянет длинный, заворачивающийся кусок, за которым волочется сырная нитка, прямо в рот. От пиццы его отрывает звонок в дверь. Вернулся разносчик. Он стоит в дверях.
– Можно от вас позвонить? – спрашивает он.
Из кухни доносится его голос.
– Привет, это Джон. Папа дома? Привет. Отлично. Еще две. Я… э… запер ключи в машине. Я на Элк. – Долгая пауза, затем разносчик выходит из кухни, в глаза им он не смотрит. Молча спускается вниз – ждать отца на парковке.
– Господи, – говорит Рон, – вот незадача. Бедняга. Давненько мне не доводилось слышать такую бредятину.
– А мне доводилось.
– Что ж, – поддразнивает он ее, раз тебе так опротивело брать интервью, возвращайся к своему Сервантесу.
Она вздыхает.
– Но я хочу работать с людьми.
– В отличие от нас, грешных?
– Ты знаешь, о чем я. Просто Роза меня достает. Я от нее рехнусь. Один день она льет слезы. Другой – смеется без удержу.
– Может быть, это маразм, – предполагает Рон.
– Нет, – говорит Альма. – Она мной манипулирует – какой уж тут маразм.
– Бедняга. – Он берет второй кусок. – У тебя не было такой тети Розы, вот в чем дело. Ты из другой среды, так что еврейских старушек тебе не понять. Облизывая старушек в Палос-Вердесе, ты ничего не достигнешь.
– Очень смешно, – говорит Альма. – Я шла туда не облизывать их.
– Это просто метафора. Да будет позволено сказать: при всем при том тебе надо побороть Розу на ее территории. Как только она расчувствуется, играй на ее чувствах. Не анализируй их вслух, а плачь вместе с ней. И она откроет тебе сердце.
Альма поднимает на него глаза.
– Уж поверь мне, – говорит Рон.
В следующий свой визит к Розе Альма предпринимает попытку последовать его совету.
– Мы многое пропустили, – говорит она. – Поэтому я хотела бы вернуться к вашему детству. На этот раз я постараюсь меньше говорить, больше слушать вас. Где вы жили в детстве?
Роза отщипывает засохший листок с узамбарской фиалки.
– Мы жили не в самой Вене, а в пригороде, в домике неподалеку от замка. Когда пришли солдаты, всех нас, детей и женщин, заперли в замке, и солдат велел моей матери зажарить свинью! Целиком! А потом они ушли. Нет, вы можете себе такое представить?
– Как вы к этому отнеслись? – спрашивает Альма.
– Я же сказала.
– Я говорю не о фактах. О чувствах. Какие чувства вы испытывали? Вы чувствовали, что солдаты над вами глумятся? Снятся ли они вам и сейчас?
Роза мотает головой.
– Это ж сколько лет прошло.
– И тем не менее вы все так ясно помните!
– Вообще-то нет, – говорит Роза, – с годами все видится как-то смутно.
– Вы постарались забыть эти события?
– Нет, просто я не так хорошо их помню. Альма, я об этом уже Бог знает сколько и думать не думала.
Альма смотрит на вышитую гарусом птичку в рамке.
– Это следствие сублимации.
– Простите, что?
– Вы забываете намеренно. Выталкиваете из сознания.
– Альма, – кротко возражает Роза, – если что-то забываешь, стараться не надо, просто забываешь, и все тут.
– Неужели вы не помните, что тогда чувствовали? Разве вы не испугались?
– Наверное, испугалась.
– Разве вас не могли убить? – наседает Альма. – Изнасиловать, о чем говорить – и в самом деле убить.
– Конечно же, могли, – голос Розы дрожит. – Когда я вспоминаю войну, я только что не плачу.
Альма подается к ней – вся ожидание, нетерпение, сочувствие.
– Только я не очень-то часто думаю о войне.
О чем жеона думает, гадает Альма, глядя в Розины затуманившиеся глаза. Вообще-то Роза думает о чехлах. Жалеет, что отдала их. Сорок лет они покрывали диван, на котором сейчас сидит Альма. Роза взяла чехлы с собой, когда переселилась сюда из Нью-Йорка, но в тот же день к ней заявилась Глэдис познакомиться и осмотреть Розину обстановку (Глэдис до последнего своего дня была и хваткая, и зловредная), – стащила чехол с дивана и говорит: «Роза, чего вы ждете?» Глэдис сбила Розу с панталыку, ну она и отдала чехлы. Глэдис хотела их заполучить для благотворительного базара. Это Роза позже обнаружила. Глэдис наведывалась ко всем жильцам: высматривала, что бы у них выцыганить для благотворительного базара. Она за это получала всякие призы. Теперь Розе приходится все время держать жалюзи закрытыми – не то подушки выгорят.
Альма склоняется над магнитофоном.
– Давайте перейдем к той семье, у которой вы жили в Англии в войну.
– Она была чудовище, у нее начинался маразм, – заявляет Роза. – Когда они разорились, у нее в голове помутилось, потому что тарелки стали им не по средствам.
– Тарелки? – переспрашивает Альма.
– Фарфоровые, тонкого фарфора. Она что ни день била посуду. Запускала тарелки с размаха через столовую. Зато он был просто ангел. Только он и понимал меня. Еще у них был мальчик Эли, настоящий херувимчик. Волосы у него были – чистое золото. В пятьдесят четвертом я вернулась в Англию повидать его. И он уже был совсем большой волосатый парень. Вот ужас-то. Я просто глазам своим не поверила.
«Верхушка среднего класса, предприниматели», – строчит Альма в блокноте.
– Очень набожные, это я помню точно. Мы каждую неделю посещали службу. Альма, – Роза поднимает магнитофон, – выключите свою машинку, попробуйте творожную запеканку. Послушайте меня. В мое время нас приучали хорошо есть. У меня в ваши годы был восемнадцатый размер. – Видит, что Альма строчит в блокноте, и идет на попятный. – Ну, может, не восемнадцатый, а шестнадцатый. Идите-ка сюда. Садитесь, золотко. Погодите минутку, я достану запеканку из холодильника. Знаете, мне всегда нравилось имя Альма, такое красивое имя.
– Правда? – Альма явно удивлена. – Терпеть не могу свое имя.
– Почему?
– Роза, – говорит Альма, – вы намеренно меня отвлекаете?
– Нет, мне, правда, интересно.
– Ну, не знаю, – Альма шуршит записками. – Уж очень оно, – она не сразу подбирает слово, – стародевическое. Мало того, еще ни одна Альма не прославилась сама по себе. Только как жена прославленного мужа.
– Ну нет, это не так. – Роза выплывает из кухоньки. Я знаю многих знаменитых Альм. Дайте-ка подумать. А Альма Малер [30]30
Альма Малер – жена великого австрийского композитора, дирижера, оперного режиссера Густава Малера (1860–1911).
[Закрыть], это вам как? – Она протягивает Альме кусок запеканки. – Давайте я расскажу вам, как ее готовить. Этот рецепт мне дала Эстер Фейербаум. Ф-е-й-е-р-б-а-у-м, моя дорогая соседка, мы жили рядом в Нью-Йорке. В свое время в нью-йоркской Хадассе она была прямо-таки легендарной фигурой. Я вам это рассказываю, ее имя не забыли. Будь наш мир устроен справедливо, из всех из нас ей следовало бы рассказывать свою жизнь для вашей книги, но она умерла. Такая трагедия.