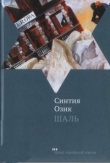Текст книги "Семья Марковиц"
Автор книги: Аллегра Гудман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Свадьба Генри Марковица
пер. В. Пророкова
Генри сидит за овальным столом на небольших грифоньих лапах – за него, если раздвинуть, можно усадить двенадцать человек, он это викторианское сокровище, отполированное до кончиков орлиных когтей, углядел на распродаже в Уонтадже. Стол большой, но именно о таком он мечтал – поэтому и купил. Просто нанял грузчиков, которые носят пианино. Квартира вся забита его находками, редчайшими книгами, старинными графинами. В отдельном шкафу сложены его карты – схемы небес. Он сам сделал эскиз и заказал столяру. Все любовно подобрано, цвета теплые, библиотечные – темно-зеленый и багровый.
– И какое у нее было лицо? – спрашивает Генри своего младшего брата Эда.
– Ошеломленное, – отвечает Эд. – Мама была совершенно ошарашена. Ну, мы все удивились. Подумать только – ты помолвлен! Маму это просто потрясло. Но мы очень обрадовались. – Эд смотрит на Генри. – Ты что, собственно, хотел узнать?
– Я лишь хотел узнать, как она выглядела, – отвечает Генри, нервно двигая карточки с именами по столу.
– Да?… – говорит Эд. – Что ж…
– Расскажи мне про свою работу. Как продвигается книга?
– Ты про антологию?
– Да нет, про твою «Историю арабских народов».
– Генри, это было пятнадцать лет назад! – с легкой досадой отвечает Эд. – И уже пятнадцать лет я к ней не притрагивался.
– Так долго? – говорит Генри. – Очень, очень жаль. А я как раз на днях о ней вспоминал. В Ашмоловском музее [53]53
Музей и библиотека при Оксфордском университете, славится собраниями в области археологии и искусства.
[Закрыть]была выставка персидской миниатюры, и она привела мне на память твою книгу, твою концепцию искусства и политики – прежде всего искусства. Какая же это роскошь! В одной крохотной картинке сконцентрировано столько всего – и пейзаж, и воины с мечами, и водопад – ниточка, ведущая к оазису. Каждая из них как драгоценный камень. Тебе непременно следует вернуться к этой теме – ведь можно ограничиться лишь искусством. Даже если сосредоточиться только на нем…
– Нет, я не искусствовед, – говорит Эд. – Да и не Альберт Гурани [54]54
Альберт Гурани (1915–1993) – английский историк, сын выходцев из Ливана, специалист по Ближнему Востоку.
[Закрыть]. Просто делаю, что могу.
Генри смотрит на него и начинает нервничать.
– Как тебе они? – спрашивает он про карточки. – Адреса на приглашениях нам писал каллиграф. Печать, естественно, ужасная. Теперь мало кто умеет делать тиснение. Представляешь, все приглашения теперь делаются методом термопечати. Проведи пальцем по оборотной стороне – сразу почувствуешь разницу.
– М-да… – Эд смотрит на него, подперев голову рукой. Он почти всю ночь провел в самолете, и к Оксфорду в июне не привык – птицы, что начинают петь в половине пятого, пронзительно голубое небо.
– Не хочешь ли кофе? – спрашивает Генри. – Или чаю? «Эрл Грей»? Черносмородиновый? Как прошел выпускной у Иегудит?
– Отлично, – отвечает Эд. – Прекрасно. Шел дождь. Вот, я привез фотографии. – Он показывает снимки дочери и всей семьи под зонтиками.
– Это не дождь, а ливень, – говорит Генри. – Бедняжка – она же вымокла до нитки. Ох, эти зонтики. Боже мой, а если во время приема пойдет дождь? Разумеется, мы сверились с альманахами [55]55
Имеется в виду альманахи, где даются прогнозы на погоду и рассказывается, какая в этот день в этой местности была погода в предыдущие годы.
[Закрыть]– понять, какова вероятность плохой погоды. Ой, Сара с пластиковым пакетом на голове!
Эд оглядывает комнату Генри, парчовые кресла, груды книг. Тома ин-кварто, в кожаных перелетах, с распухшими от сырости страницами, слегка потрепанные. Большую часть комнаты занимает слишком большой для этой комнаты темный стол, который здесь совсем не по размеру.
– А вот и братья! – восклицает Генри, взяв снимок, на котором двое старших детей Эда. – Какие огромные!
– Да уж – девятнадцать и двадцать один, – усмехается Эд.
– Правда? А я и забыл, что они такие взрослые. Кажется, только-только… Ты что, сердишься на меня?
– С чего мне на тебя сердиться? Это же все из-за смены времени, не видишь, что ли? Сажусь на самолет в Даллесе [56]56
Аэропорт в Вашингтоне.
[Закрыть], прилетаю, а тут ты в той же самой квартирке, с теми же книжечками, креслами – со всеми своими штучками.
Генри краснеет до кончика носа.
– Ну, извини, – говорит Эд. – Я думал, ты хотя бы знаешь, кому из моих детей сколько лет.
– Я знал, – пытается возразить Генри. – Я раньше знал. Просто давно не следил за их жизнью.
– А нам за твоей приходится следить, – резко отвечает Эд. – Вот, подхватились и потащились через Атлантику – хоть ты оповестил нас всего за два месяца.
– Ты только не расстраивайся так, – говорит Генри.
– Я совершенно не расстраиваюсь. Просто пытаюсь объяснить, что нам было совсем не просто сюда приехать, да еще и маму привезти. У нас с Сарой очень плотное расписание. Я завален работой, обещал несколько статей, у меня в июле конференция, но бюджет наполовину урезали, потому что институт едва сводит концы с концами. Занятия сейчас за меня ведут аспиранты. А Сара свою конференцию вообще пропускает.
– Ты уж извини, – говорит Генри.
– Да нечего тут извиняться, – говорит Эд. – Я просто хочу, чтобы ты понял. Мы не можем просто взять да и махнуть в Оксфорд.
– Понимаю, – говорит Генри. – И очень вам благодарен, Эдуард.
– Так что не надо со мной про бумагу разговаривать! – почти выкрикивает Эд.
– Про какую бумагу?
– На бумагу не жалуйся – больше я ни о чем не прошу.
– Я говорил про тиснение, – отвечает Генри. – Думал, тебе будет интересно.
– Ну хорошо… Ладно, слушай… – Эд смотрит на старинные часы в футляре. На циферблате золотая луна на темно-синем фоне.
Генри смотрит из окна, как рвет, разбрызгивая гравий, с места арендованный «форд-фиеста» Они с братом никогда не были близки. Они изредка переписываются, но между ними всегда преграда: Эдуард не желает видеть его таким, какой он есть на самом деле. Он уничижительно отзывается о коллекциях Генри, о его страсти к искусству, редким книгам и рукописям. Эдуард презирает его – за то, что он уехал из Америки. Конечно, Эдуард и сам уже часть Америки, той, какой она стала. Эта Америка, где университеты растут как грибы, для Генри это перевернутая страница. Америка, где производство дипломированных специалистов поставлено на конвейер, где они сидят в обшарпанных аудиториях, чуть не упираясь подбородками в колени, в тусклом свете мигающих ламп, слушают лекции – будто смотрят кино. То, что им знакомо, они слушают, широко раскрыв глаза, а все остальное утекает вниз по проходам, собирается вместе с грязью и конфетными обертками у ног преподавателя. Он и сам преподавал некогда в Квинс-колледже, а потом в Нью-Йоркском университете. А выпускники! Видел он, как они в Принстоне толпятся у дверей кабинетов. Юные калибаны, алчущие похвалы. Они могут утром прикончить итальянское Возрождение, после обеда придушить сонет Донна, переломать ему все крылья, расколошматив их тупым орудием. Что до ученых постарше – они словно на поваров учатся, запросто могут приготовить Шекспира, подать его как жареного гуся, фаршированного политическими и сексуальными смыслами, разрезать, четвертовать его длиннющими ножами. Для Генри чтение всегда было занятием деликатным – к нему нужно относиться бережно, как к яйцу, из которого выдуваешь содержимое. Прокалываешь иголочкой с двух сторон, и смысл – цельный, нетронутый, стекает в чашку. А теперь все варят вкрутую, колотят по скорлупе – и готово. Все в кучу – искусство, историю, социологию, политику, перемешивают, лепят рулет и плюхают на блюдо. Таковы нынче ученые, что сидят в научных журналах. Они объявили войну прекрасному, они отрицают Бога и отрицают метафору. Они, как и Эдуард, отрицают все, во что верит Генри, то, для чего он, собственно, и живет – фактуру и мастерство. А Эдуард – он не просто частица этого. Он сам лепит эти дешевые поделки, которые выдают за гуманитарные науки. Умение, тонкость, глубина никому не нужны, везде царят общественные науки. Эдуард начинал как историк, специалист по Ближнему Востоку, а теперь он всего-навсего политолог. Шестеренка в машине, которая существует грантами и телеинтервью.
Генри отказался от всего этого – от академических жерновов, от иллюзии, что наука может существовать в этих уродливых институтах, которые словно сходят с конвейера. А это лучшее, что может предложить Америка. Остальное настолько мерзко и порочно, что Генри даже думать об этом не может. Он окончил школу менеджмента и уехал, чтобы жить по-человечески: днем был администратором в «Лоре Эшли», вечером экспертом по искусству, среди башен и колоколов настоящего университета, с благородными старыми стенами, поросшими лишайником, увитыми сиренью и толстыми жилистыми ветвями роз. В полном молчании он проходит по университетским дворикам, и самое лучшее – последние недели сентября, когда туристы уже схлынули, а поздние цветы все цветут, высаженные в два-три ряда под переплетчатыми окнами, и еще – март, когда студенты еще не вернулись с каникул, когда на ивах распускаются первые светло-зеленые листочки: в эти последние недели сентября и в марте Оксфорд целиком принадлежит ему.
Но Эдуарду этого никогда не увидеть. Он полностью встроен в американский стиль жизни. Еда, дети, машины, реклама. Разве можно было рассчитывать, что Эдуард проникнется брачной церемонией? Генри шагает на кухню, опрыскивает африканскую фиалку. И считает до десяти – он не может позволить себе расстраиваться.
В номере-люкс гостиницы «Пасторский дом» шторы темно-зеленые. Эд задергивает их поплотнее и садится на кровать, рядом с женой.
– Где мама? – спрашивает он.
– Дальше по коридору. Принимает ванну. – Сара снова прикрывает глаза. – Как он? – спрашивает она.
– Как всегда.
– А она?
– Кто она?
– Невеста, Эд.
– Не знаю, наверное, нормально. Я ее не видел – она на работе.
Сара поворачивается и смотрит на него.
– О чем вы говорили?
– О нем, разумеется. И о его вещах.
– Ты спросил, во сколько нам приходить?
– Нет. Вроде в восемь?
– Почему ты его не спросил?
Эд вздыхает.
– Потому что он меня поражает. Потому что я прихожу к нему в квартиру, а он по-прежнему играет в «Возвращение в Брайдсхед» [57]57
«Возвращение в Брайдсхед» (1945) роман английского писателя Ивлина Во, одна из главных тем которого – судьба старинных английских поместий.
[Закрыть], вся эта парча, эти часы! Гнилые кожаные переплеты. Все его пеклах [58]58
Пеклах – одно из значений: мешочки ( идиш). Кульки со сладостями, которые раздаются во время бракосочетания или бар мицвы.
[Закрыть]восемнадцатого века.
– Ой, прекрати!
– А еще этот идиотский стол. Сара, я этого не выдержу. – Эд кладет на кровать ноутбук, расстегивает футляр.
– Плохо, что ты не можешь просто… – начинает Сара.
– По-нормальному с ним поговорить?
– Да нет, угомониться. Все-таки твой единственный брат женится.
– Так сказать… – Эд постукивает по клавиатуре – будто печатает рецензию, которую должен был написать месяц назад.
– Что ты имеешь в виду?
– Ты отлично знаешь, что.
– Ну, давай, скажи это вслух, – говорит она. – Эд, ты к этому так относишься… Просто невероятно.
– Так все же очевидно, – восклицает он. – Ты и сама много лет так считала.
– А может, все не так, – отвечает Сара: она сама писательница и верит в перемены, тайны, откровения.
Последний раз они были в Оксфорде десять лет назад, когда Эд читал лекции в Уонтаджском центре – в Оксфордском центре борьбы за мир на Ближнем Востоке. Генри пригласил их на ужин и все приготовил с жирными сливками. Детей тошнило, Эд, пытаясь поддержать беседу, аж позеленел, а Роза, мать Эда и Генри, выпила рюмочку ликера и заснула. Вот таким манером. После этого они встречались с Генри в Вашингтоне, и тогда настал его черед болеть – он с похоронным видом сидел за их столом, вместе с вопящими подростками. Еще он писал им письма. «Стены отливают золотом, – писал он, – а под вечер камень словно светится – так поблескивает последний луч солнца, отражаясь в реке, и так пронзительно последнее теплое дыхание дня, стены так хрупки, витражи в Корпусе Кристи [59]59
Корпус Кристи – колледж Тела Христова в Оксфорде.
[Закрыть]– как угли, что, догорая, переливаются голубыми огоньками». А Сара от имени всей семьи писала в ответ: «Бен в летнем лагере, а Эд, кажется, успевает подать заявку на грант». Переписку поддерживали они двое – никто кроме них в семье писем не писал. Это было странное сочетание. Лирические, хотя порой и путаные потоки, лившиеся из-под пера авторучки Генри, и краткие новости, записанные шариковой ручкой Сары. Эд от писем Генри закатывал глаза, дети, когда их слушали, стонали, но Сара некоторые сохранила. По правде говоря, они ей нравились. На семинарах ее отучили писать таким стилем, но в глубине души он ей нравился. Однажды, когда она ехала в Джорджтаун забирать Эда, Сара остановилась посмотреть, как играет последний луч света на стенах. Впрочем, было еще слишком светло.
– Я не готов к ужину на четыре часа кряду, – говорит ей Эд.
– Так он начинается в восемь?
– Я же тебе сказал, не знаю.
– А я сказала, позвони и спроси, – говорит Сара.
– Я хочу вздремнуть.
Эд снимает брюки, и тут раздается стук в дверь.
– Это твоя мама, – говорит Сара.
– Догадываюсь, – отвечает Эд и снова надевает брюки.
Роза возникает в дверях в непроницаемо-черных плотно прилегающих очках – ей недавно оперировали катаракту.
– Где Генри? – спрашивает она. Голос у нее на удивление сильный для восьмидесяти шести лет.
– Мы с ним ужинаем, – говорит Эд.
– Ты же собирался привезти его в гостиницу.
– У него сегодня много дел. Последние приготовления.
– И почему это мы приехали к последним приготовлениям? – вздыхает Роза.
– Я и так пропускаю неделю занятий, – говорит Эд. – Мам, мы же это обсуждали, помнишь? – А одна ты лететь отказывалась.
– Я бы полетела, – сообщает Роза.
– Раньше ты говорила другое.
– Полетела бы, если бы знала, что буду видеться с Генри. Что смогу побыть с ним.
Эд смотрит на нее.
– Мы это обсуждали, и ты говорила совершенно другое.
– Но думала я именно так, – отвечает Роза. – Что ж это такое – встретиться с родственниками за три дня до свадьбы! А где невеста?
– Мы с ней увидимся за ужином, – говорит Сара.
Роза снимает темные очки, с треском складывает дужки.
– И что это будет за ужин? Нас еще даже не представили. Разве так делают? Свадьбу устраивают, чтобы побыть с родными. Чтобы встретиться с местной общиной. У вас была чудесная свадьба, – говорит она Саре и смотрит на нее так мечтательно, что Саре кажется, будто она снова весит пятьдесят пять килограммов. – Были все, кроме Фельдманов, Рихтеров, Натали – да покоится она с миром – и Яршеверов.
Оркестр был дивный, и танцевали так долго, что Солу, отцу Сары, пришлось доплатить еще за два часа. Сара с Эдом – его рука на ее талии – плыла по залу в пышном газовом платье. Она была такая тоненькая, да и Эд тоже, им было по двадцать два года – Эд старше ее всего на три месяца.
– Кроме них были все, – продолжает Роза, – и до сих пор не забыли. А эту свадьбу кто вспомнит?
– Он пригласил двести пятьдесят человек, – говорит Сара.
– А кого из них мы знаем? – бурчит Роза. – Кого? Никого.
– Я хочу вздремнуть, – говорит Эд.
Роза уходит к себе в комнату, Эд с Сарой ложатся, и тут звонит телефон. Эд понимает, что у него раскалывается голова.
– Алло! – снимает трубку Сара.
– Алло, это Роза. Напомни, как ее имя?
– Сьюзен Макфирсон.
– Это я знаю. Как пишется?
Сара произносит по буквам.
– Фамилия не еврейская, – говорит Роза.
– Мам, она не еврейка, – подает голос Эд. Он слышит голос Розы из трубки.
– Скажи Эду, – говорит Роза Саре по телефону, – что многие мужчины и женщины притворяются теми, кем не являются.
– По-моему, никто не притворяется, – подает голос Сара.
– Чудненько, – говорит Роза. – Помнишь, я рассказывала тебе про чету Уинстонов в круизе вокруг Аляски. На концерте Шопена я встретила пару по фамилии Уинстон. Посмотрела я на пожилого джентльмена. Уинстон? Ни в коем случае. Типичный Вайнштейн. «Вы откуда?» – «Из Тенафлая, штат Нью-Джерси» – «А до того где жили?» И он признается, что вообще-то он из Вены, только в этом. В антракте я обращаюсь к нему на своем хорошем Hochdeutsch [60]60
Литературный немецкий ( нем.).
[Закрыть]. Мы с детства прекрасно говорили по-немецки. Мы с ним и с миссис Уинстон начинаем по-дружески болтать. Начинается второе отделение, и пианист, совсем молоденький мальчик, барабанит Шопена – у меня от его игры голова стала раскалываться, потому что он не чувствовал музыку, совершенно ее не понимал. Так вот, я наклоняюсь к этому пожилому господину, который называет себя Уинстоном, и шепчу ему на идише: «Вос вейст а хазер фун лукшен?» Что свинья понимает в яичной лапше? А он кивает. Вайнштейн! Так вот я вывела на чистую воду его и его Hochdeutsch. Он отлично понимал идиш.
Эд выхватывает у Сары трубку.
– Мам, Сьюзен Макфирсон не знает идиша.
– И ты не знаешь, – напоминает ему Роза. – Я вот тебе расскажу…
– Она не притворяется, – говорит Эд.
– А я не только о ней думаю, – говорит Роза. – Есть еще и Генри.
– Как по-твоему, что она имела в виду? – спрашивает Эд, повесив трубку. – Что Генри притворяется?
Сара смотрит в потолок. Они лежат в кровати.
– Наверное, что он притворяется англичанином.
– Так он уже давно им притворяется, – говорит Эд. – По-моему, она удивляется, что после стольких лет он завел себе женщину.
– После скольких лет? Ты даже не представляешь себе, как он жил. Ты же практически не читал его писем.
– В письмах он ни о чем толком не рассказывал.
– Рассказывал! – возражает Сара. – Пусть он и писал про реки и мосты…
– А еще про ветер в ивах и распродажу антикварных книг в Файфилд-Мэнор. Думаю, это будет брак-дружба.
– Нет, не согласна, – говорит Сара. – Они поедут в Стратфорд, будут кататься на плоскодонке…
– Ага, так и вижу Генри в плоскодонке.
Генри сидит в своем кабинете в «Лоре Эшли» и звонит в «Анвин» [61]61
«Анвин» – сеть винных магазинов на юго-востоке Англии, существовала с 1843 по 2005 год.
[Закрыть]насчет шампанского. Для свадьбы он все закупал по-европейски, в маленьких специализированных магазинах по всему городу, и если бы мог, отказался бы от кейтеринга – это, по его мнению, стилистика супермаркетов. Например, булочки он заказал в «Викторианской булочной миссис Томсон», где сам всегда покупает хлеб. Ездит туда каждый день – просто потому что там хлеб самый лучший. У миссис Т. каменная печь с чугунной дверцей, на которой выбита надпись «Бендик энд Петерсон, 1932», а под ней сноп пшеницы. Сколько раз он просил разрешения посмотреть, как миссис Т. открывает дверцу и подцепляет на лопату буханки! Торт украшает мастер своего дела. Генри сам сделал эскиз. В шесть ярусов, цвета слоновой кости, с гроздьями сирени, сверху безе и сливочный крем. По краям ажурные оборки – словно засахаренное старинное кружево. Он так и не сказал Сьюзен, во сколько это обошлось.
– Свадебный торт бывает раз в жизни, – сказал он.
– Я не любительница сладкого, – сказала она, – но, видимо, какой-то gâteau [62]62
Торт, пирог ( фр.).
[Закрыть]подать надо.
Он был в шоке – поразило его не то, что Сьюзен не любит сладкого, а что их торт будут есть. Эта мысль ему в голову не приходила.
– Ну что ж, – говорит сотрудник «Анвин». – Не беспокойтесь. Это шампанское в магазине имеется, мы доставим бутылки на тележках.
– С заднего хода? – спрашивает Генри.
– С заднего, сэр.
Закончив разговор, он запирает свой кабинет, идет к своей помощнице Мэри.
– Где платье Сьюзен? – спрашивает он.
– Она вчера его забрала, – отвечает Мэри.
– Ах, да. Какой я рассеянный, – признается он. – Но это между нами. – И он спешит к машине.
Сьюзен раскладывает документы по папкам. Она сотрудник деканата в Мертон-колледже и всегда знает, где что лежит. На ней темно-зеленое платье и старинная шаль, седеющие волосы собраны в рыхлый пучок; она выключает в кабинете свет, закрывает дверь и идет к Генри. Они оба высокие, отлично дополняют друг друга. У Генри уши и нос торчат, а у Сьюзен лицо плоское, черты довольно тонкие. Генри теребит последние завитки волос, а Сьюзен идет спокойно, не суетится.
– Я спросил его про книгу, – рассказывает Генри, – а он ее совсем забросил. Хорошая была бы книга – он собирался писать об арабской философии и искусстве. Но он этим больше не занимается, его интересует политика. Сьюзен, как же печально видеть, во что он превратился.
– А может, ему так нравится, – замечает Сьюзен.
– Да вряд ли, – говорит Генри. – Как это может нравиться? Забросить все, чтобы выступать защитником «Организации освобождении Палестины» или «Лиги арабских государств»? А ведь там такая красота, такие исторические глубины. Но он предпочел продавать индульгенции на ТВ.
– Ну, может, все не так плохо? – говорит Сьюзен.
– Не надо было мне с ним об этом говорить, – вздыхает Генри, – но штука в том, что мы ругаемся по любому поводу. Вот сегодня мы будем вместе ужинать, я потрачу триста фунтов, а о чем нам говорить?
– В «Элизабет»? Можно поговорить о вине. Об одном только вине… К тому же там будут и остальные – Сара, например, – хочет подбодрить его она.
– И мама, – говорит Генри.
Он заказал в «Элизабет» отдельный кабинет наверху, это безумно дорого, но Генри не мог заставить себя готовить в такой исключительный день. Генри, когда готовит, стремится к совершенству, и он бы извелся от волнения. В комнате с деревянными панелями полумрак, свечи в старинных канделябрах. Он открывает дверь, Сьюзен входит и впервые видит его родственников: в тусклом свете они выглядят бледными и слегка испуганными, моргают, всматриваясь – как обитатели пещер. Эд вскакивает и жмет ей руку. Сара целует Генри в щеку.
– Здравствуйте, дорогая, – говорит Роза. – Генри, мы уж думали, ты никогда сюда не доберешься. Я была уверена, что это не тот ресторан боялась, что мы тебя так и не увидим.
– Мама, – говорит он, – это Сьюзен Макфирсон.
– Рада с вами познакомиться, – говорит Роза. – Скажите, как пишется ваша фамилия?
Когда подают террин, Сара берет беседу в свои руки.
– А где вы собираетесь жить? – спрашивает она Сьюзен и Генри.
– В квартире Генри, – отвечает Сьюзен, – пока не подберем что-то побольше. – У меня в квартире пока что останутся книги и…
– И у нас есть коттедж в Уонтадже, – говорит им Генри. – Завтра днем я вас туда свожу.
– За городом? – спрашивает Роза. – Я всегда мечтала о деревенском коттедже, – говорит она Сьюзен, – с самого детства – чтобы была соломенная крыша и кругом росли розы. Я ведь выросла в Лондоне. Нас эвакуировали…
– Правда? – восклицает Сьюзен, но ей не дают договорить.
– Мама, – наклоняется к Розе Эд, – курицы без соуса у них нет.
– Ты же знаешь, мне вредно есть соусы, – говорит Роза. – Желудок не позволяет.
– Без соуса не подают, – говорит Генри.
– Поначалу все бывает без соуса, – говорит Роза
– Съешьте рыбы, – предлагает Сара.
– Милая моя, а где ваши родственники? – спрашивает Роза у Сьюзен.
– Мои сестры приедут на свадьбу в субботу. Папа здесь, но он по вечерам не выходит.
– Вот как… – говорит Роза. – А кто проведет церемонию?
– Младший капеллан из колледжа. Нам удалось договориться, потому что я сотрудник.
Эд откидывается на спинку стула.
– Так он вам достался бесплатно? – спрашивает он.
– У вас будет священник? – спрашивает Роза.
– Очень либеральный, – говорит Сьюзен. – И очень юный. Он веган.
– Ты мне говорил про мирового судью, – обращается Роза к Генри. – Мне казалось, речь шла о мировом судье.
– Такой вариант тоже рассматривался, – говорит Генри.
– Когда мы думали о совсем скромной свадьбе, – поясняет Сьюзен.
– Но мне никто не сказал…
– Мама, мы обсуждали это в Вашингтоне! – восклицает Эд. – Мы обсуждали это в аэропорту. Я тебе десять раз рассказывал про церемонию.
Открывается дверь, официант вносит уставленный блюдами поднос. Пока он их обслуживает, они молчат. Сара робко ему улыбается. Когда он подходит к Розе, она вскидывает руки и говорит:
– Благодарю, мне не надо.
– Совсем не надо, мадам? – спрашивает официант.
– Мама, – шепчет Генри. Официант вопросительно смотрит на него. Генри жестом показывает, чтобы тот поставил тарелку на стол. Роза машет рукой.
– Поставьте лучше на буфет, – предлагает Сара. Все наблюдают за тем, как официант накрывает блюдо крышкой, бежит за подставкой, зажигает под ней огонь.
– Эд, я хочу домой, – говорит Роза, когда официант уходит.
– Мы останемся и закончим ужин, – твердо говорит Эд и начинает есть.
– Эд, – не унимается Роза, – вызови мне такси. Я хочу в Хитроу.
Сара судорожно глотает вино и, поперхнувшись, начинает кашлять. Сьюзен стучит по ее спине.
– Нет, так мы делать не будем, – говорит Эд Розе. – Мы не можем поменять билеты. Ты никуда не поедешь, и точка. Мама, с меня хватит. Мы проделали такой путь, и мы пройдем всю эту катавасию.
– Эд! – Сара многозначительно кашляет.
– Церемонию, – поправляет себя Эд.
Роза начинает плакать.
– Что бы сказал на это твой дорогой папочка? – восклицает она. – Разве я для того тебя растила, чтобы отдать в руки священника? Генри, скажи, что переменилось в твоей жизни, что довело тебя до такого?
Генри смотрит через стол на старинный буфет, где стоит не тронутое Розой блюдо. Действительно что переменилось? Это был побег, о котором он мечтал всю жизнь, с тех пор как научился читать, с тех пор как в мечтах лазил по арабским пещерам, забирался на стены шотландских замков, с тех пор как читал в ванной оды Китса. Он загонял в память стихи поэтов-романтиков по дороге в школу; он всегда был рослым, а Эд – маленьким и слабым, и играл в баскетбол, носился по площадке, расставив острые локти. Генри рассказывал об этом Сьюзен. О том, как носил ботинки на шнурках и кожаный портфель, по которому от снега шли оранжевые пятна, и застежки на нем разболтались. Портфель был забит скандинавскими сагами, романами про короля Артура и, разумеется, учебниками, книгами на иврите. Он рассказывал Сьюзен, как они с Эдом таскались после обычной школы на занятия ивритом, как он сидел каждую неделю на уроках мистера Гурова и смотрел, как мистер Гуров с торчащими зубами объявляет: « Хайом нилмад биньян кал» – «Сегодня мы будем учиться спрягать глагол кал». Первое спряжение. Самое легкое. Каждую неделю, каждый год. Они переходили на следующие уровни, средний и даже продвинутый, но других спряжений так и не выучили. Девочки на задних партах – вот причина. Стройные, умевшие надувать пузыри жвачки, напоминавшие половозрелых авиньонских девиц [63]63
Отсылка к картине Пабло Пикассо «Авиньонские девицы» (1907).
[Закрыть]. Они никогда ничего не слушали и не давали классу продвинуться дальше. Как мистер Гуров мучился, как возмущался. Он был культурным человеком, европейцем, и очень хотел, чтобы они выучили язык так, чтобы прочитать стихотворение Бялика [64]64
Хаим-Нахман Бялик (1873–1934) – еврейский поэт и прозаик, классик современной поэзии на иврите.
[Закрыть]про лесное озеро. Девицы про озеро даже не знали. Они не слушали, когда мистер Гуров рассказывал об этом классу. Генри знал и про озеро, и про стихотворение, но прочитать его, естественно, не мог. Потому что не знал шести остальных спряжений. И словарный запас у него был маленький. Он рассказывал Сьюзен, как его заставляли готовиться к бар мицве, как ему надо было заучивать наизусть текст на иврите и делать вид, что он его понимает. И как он утешился, сочиняя свою речь для бар мицвы. Ему достался отрывок о том, как Авраам пытался принести в жертву Исаака, и он несколько недель читал про человеческие жертвоприношения. Он прочитал книгу У. Робертсона Смита «Лекции по религии семитов», напечатал речь о древних жертвенных ритуалах – печатал с трудом, тридцать одну страницу на отцовской пишущей машинке. А потом раввин с ним встретился – проверить его речь, прочитал пару страниц, отложил текст в сторону и сказал, как обухом по голове ударил:
– А где ты благодаришь родных и друзей за то, что пришли? А тетушек из Филадельфии? Почему ты не благодаришь мистера Гурова за то, что он тебя готовил и учил ивриту?
– Потому что никакому ивриту он меня не научил, – пробормотал Генри. Но, разумеется, они заставили его сделать все так, как хотели они.
Он рассказал Сьюзен, как сидел, окаменев, в синагоге, пока шла бесконечно нудная служба, как кантор пел, почти не разжимая рта, как присутствующие гундосили в ответ. Как он встал и перечислил имена всех родственников, которые собрались там в столь важный для него день. Рассказал он и о том, что все его исследования о человеческих жертвоприношениях, естественно, из речи были убраны. Летом у него случилась сенная лихорадка, он чихал, ходя по пыльным, душным комнатам с полированными столами и торшерами с чесучовыми абажурами, отделанными бахромой, парой кроватей с голубыми махровыми покрывалами, чересчур мягкими креслами, тяжелыми шторами, тяжелой пищей. Роза таскала его и Эда по магазинам, пыталась заставить Генри покупать пиджаки и ботинки не по размеру. В обувном магазине он становился на флюороскоп и смотрел на рентгеновское изображение своих ног. На зеленые линии костей. Книги и музеи были частью другого мира.
К тому моменту, как он встретил Сьюзен, он не думал об этом уже многие годы. Он много лет назад покинул родной дом, много лет даже не вспоминал ни про что – ни про детство, ни про свои первые задумки бежать из этого города, не вспоминал про универмаги, синагогу, девиц, хлопающих пузыри из жвачки. Разговаривая со Сьюзен, он вспомнил, как впервые познакомился со Старым Светом, совершенно для него новым. Он рассказал ей, как обнаружил его на уроках немецкого и французского, которым учил его мистер Бирнбаум в Тилденской школе, как он научился читать Флобера и перебирать нанизанные одно за другим прилагательные. Как он открыл для себя прерафаэлитов и увидел репродукцию «Офелии» Милле – тело, плывущее вниз по ручью, волосы, переплетенные с цветами, как ему хотелось иметь эту картину, вернее, как хотелось вплыть по ручью в картину, раствориться в ее красках, отдаться мерцающему потоку. Тем временем Эд учился на уроках мистера Левинсона говорить по-испански, чтобы стать послом в одной из латиноамериканских стран, а потом крупным чиновником в Госдепе. Генри не вспоминал об этом много лет и, возможно, так быстро и влюбился, потому что стал рассказывать об этом Сьюзен. Они сидели с ним в «Четырех временах года», и он ловил себя на том, что говорит про мистера Гурова и обувные магазины, про коридоры Тилденской школы и речь на бар мицве. Все это он вываливал на нее, а она с умным видом кивала, не понимая вообще ничего. Его глубоко тронуло то, как завороженно она слушает про его детство, про бесконечное множество ритуалов, про то, как ему бывало стыдно, как бывало оскорблено его чувство прекрасного – при виде, например, обоев в бордовый горошек, которыми был обклеен зал собраний в цоколе синагоги, зеркал и современной латунной люстры, распластавшейся на потолке, как рука, скрюченная артритом. Рассказывал он и о своих надоедливых тетушках. Она никогда ни о чем подобном и слыхивала. Там, в ресторане, он облегчил душу, говорил пока не были съедены до последней крошки клубничные пирожные, а она сидела и завороженно смотрела ему в глаза. Осмелится ли он на подобное сравнение? Он чувствовал себя Отелло, рассказывавшем о своих заморских походах.
Он бы никогда не произнес этого вслух – не стал бы выставлять себя на посмешище, но так оно и было: «Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним» [65]65
У. Шекспир, «Отелло» (I,3). Пер. П. Вейнберга.
[Закрыть]. О некоторых аспектах его прошлого они не говорили вовсе, но это касалось той части его жизни, которую он почти никогда не обсуждал, даже сам с собой – это была та часть жизни, которая со временем съежилась, скукожилась, поскольку о ней не говорилось прямо. Со Сьюзен он говорил без конца. Он изливал свои истории ей в уши, наваливал в ее распахнутые ладони. Другой вид страсти у них со Сьюзен друг с другом не очень ассоциировался. Это не значит, что они никогда друг до друга не дотрагивались, просто оба больше любили разговоры, а Генри жаждал слушателя, алкал его. С самого первого ужина его захлестнула волна благодарности, нежности, облегчения. Он рассказал ей про все свое детство, вплоть до всяких буржуазных потуг, рассказал ей все.