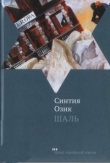Текст книги "Семья Марковиц"
Автор книги: Аллегра Гудман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
– Я не пойду ни на какую свадьбу со священником, – говорит Роза Эду, и от ее голоса Генри вздрагивает, ее голос возвращает его к действительности – к ужину, который все длится.
– Мама, говорит Генри, – прошу тебя, не расстраивайся так.
– Она устала, – успокаивает его Эд. – Мы совсем не спали в самолете. Она хотела вздремнуть днем, но…
– Почему это они шепчутся обо мне в третьем лице? – спрашивает Роза. – Я могу рассказать, что делала сегодня днем. Я написала семь открыток. И нисколько не устала, – сообщает она Эду. – Я расстроена, поскольку мне сначала говорили одно, потом другое, а я не люблю, когда мной манипулируют. Если так и было задумано со священником, вы должны были сказать мне с самого начала.
– Вот, – говорит Сара Розе, – попробуйте хоть немного курицы, она стоит бешеных денег. – Она ставит на стол тарелку Розы, элегантным движением снимает крышку.
– Не хочу я ее, – говорит Роза. – Я хочу домой.
– Это исключено, – отвечает Эд, который переживает за Генри, устроившего такой изысканный ужин с роскошными винами.
– Я могу вас отвезти, – предлагает, к удивлению Эда, Сьюзен. – Давайте я отвезу ее в гостиницу. Это всего-то десять минут. – Она достает ключи от машины.
Уже почти стемнело, Сьюзен везет Розу к «Пасторскому дому».
– Вы поймите, я обожаю все английское, – заявляет Роза. – Родные отправили меня в Лондон, как только началась мировая война. Как только еврейские общества в Англии получили такую возможность, родители тут же меня и отправили. Мне было семь лет, а в Вене совсем нечего было есть. Немногим лучше, чем в Буковине. Моим приемным английским родителям приходилось носить меня на руках – такая я была слабенькая и изможденная. Но прошел месяц, и я расцвела! Мы пили чай, ходили в театр, играли на берегу моря с гувернанткой, у нее было сопрано, и она пела с балкона… – Она умолкает, пытается вспомнить. – Короче, у него это от меня, – говорит она.
– Что именно? – спрашивает Сьюзен.
– Тяга к Англии. Он любит Англию – это у него от меня. Я его так воспитала. Когда он был маленький, я покупала ему книжки. Про короля Артура, английскую поэзию. Эда Англия никогда не интересовала, а Генри я рассказывала про сельскую жизнь. Про зеленые луга и поля маков. Английскому я научилась в Англии, в детстве. Мои английские родители дали мне образование, я даже два раза в неделю занималась с учителем ивритом. Они об этом всегда помнили. Люди они были очень обеспеченные, каждый год нас увозили в коттедж у моря, и наша гувернантка выходила на балкон и пела: голос – ну точно флейта. Вот так она пела… – Она теряет мысль, потому что служащий гостиницы открывает дверцу и помогает ей выйти из машины.
Сьюзен уезжает, и Роза, оставшись в номере одна, принимает две таблетки перкодана и ложится. И тут вспоминает, что хотела сказать.
За день до свадьбы Сьюзен отпрашивается с работы, и у Генри наконец появляется возможность отвезти родственников в Уантадж, посмотреть коттедж. Приходится долго уговаривать Розу выйти из гостиницы, и она все твердит, что на свадьбу не пойдет. Лучше посидит в гостиничной столовой в одиночестве. Но, увидев коттедж Генри, она вздыхает. У него соломенная крыша и белые стены.
– Сад пока запущен, но мы планируем им заняться, – говорит Генри. – Правда, похоже на «Грачевник» Дэвида Копперфильда? Грачей, разумеется, никаких нет.
Солома обмотана колючей проволокой – чтобы птицы не растаскали.
Сьюзен отпирает дверь, все стоят в крохотной гостиной и смотрят на оловянные кружки на каминной полке, на китайский секретер Генри, на его персидские ковры.
– Просто кукольный домик! – бормочет Роза и усаживается на диванчик – она готова остаться здесь.
– Я чуть его не продала, – говорит Сьюзен. – С ним было столько хлопот. Перед встречей с Генри я даже выставила его на аукцион.
– Так как вы познакомились? – спрашивает Эд.
– А Генри не рассказывал? Нас познакомил Дик Френкель из Уантаджского центра. Он хотел предложить Генри купить коттедж.
Эд смотрит на Генри, представляет себе встречу за чаем в местном центре. Дик Френкель – основатель центра, занимается сбором средств – он же владелец усадьбы, которую получил благодаря тому, что основал центр борьбы за мир на Ближнем Востоке. Усадьба весьма заметная, на окраине академического Оксфорда. Коттедж Генри, думает Эд, тоже своего рода проект – только помельче масштабом. Да, Френкель мог бы познакомить Генри и Сьюзен на каком-нибудь из своих приемов в саду. Длинные столы в спускающемся террасами саду на задворках усадьбы. Специалисты по Дизраэли в белых рубашках с короткими рукавами, Генри в лимонного цвета льняном пиджаке с шелковым галстуком, под деревьями гул разговоров на иврите и оксфордском английском, а посреди лужайки Сьюзен в огромной соломенной шляпе и в пышной юбке – вовсе не в духе импрессионистов, а вполне себе реальная.
Генри уводит Сару наверх – посмотреть спальню.
– Головой не стукнись, – предупреждает он, когда они садятся в кресла под скатом крыши. – Я хотел поговорить с тобой о маме, – шепчет он. – Как по-твоему, она правда не пойдет завтра в церковь?
– Не знаю… – начинает Сара.
– Думаешь, она может так со мной поступить? – спрашивает Генри.
– Ты ее знаешь лучше, чем я, – говорит Сара. – Она способна практически на все.
– Тебе надо с ней поговорить.
Сара чуть насмешливо улыбается деверю.
– Мы, конечно, постараемся, но ты не должен дать ей испортить свадьбу. Ты же знал, что она устроит скандал. Она столько месяцев тренировалась.
– Столько лет, – уточняет Генри.
– Да не лет. Все дело в том, что она ошарашена. Она никак этого не ожидала. Да и никто из нас… Так расскажи мне, – Сара пододвигается к нему поближе, – как это случилось? Когда ты решил… ну, сделать предложение?
Генри приободрился.
– Я искал на рынке коттедж вроде этого, Дик дал мне номер телефона Сьюзен, и как-то в воскресенье мы сюда поехали; я увидел все это – в полном запустении – и сказал: «Ни за что», а она мне: «Может, зайдете ко мне на ланч без претензий?» Мы отправились к ней, говорили о книгах, об интерьерах. Она решила перетянуть мебель, и я тоже, а потом мы заговорили про коттедж, и я посоветовал ей его отремонтировать, а уж потом продать. Можно же было смету составить. Я сводил ее к нам в магазин, показал наши ткани. Она что-то начала покупать, а дальше мы уже все делали вместе.
– Да, вполне себе проект, – сказала Сара.
– О да, и еще – хорошее вложение. Мы собирались продать его одной паре из Лондона, решившей поселиться в уединенном месте. Но мы оба такие перфекционисты, мы неделями подыскивали дверные ручки нужного периода, занялись ремонтом плиты 1923 года…
– Генри! – зовет снизу Роза.
– А-ааа! – вопит он, потому что, встав, ударяется головой о скошенный потолок.
– Господи, что стряслось? – кричит Сьюзе и мчится наверх.
– Нет-нет, не трогай меня! – кричит Генри, сжимая руками голову. Он корчится от боли стонет, побагровевший, посреди комнаты. – Не толпитесь вокруг меня, – требует он.
– Дай я посмотрю, – говорит Сьюзен.
– Ты просто льда принеси, – стонет он и опускается на одну из двух одинаковых белых кроватей.
– Я так и думала, что эти кресла великоваты для мансарды, – говорит Сьюзен, вернувшись со льдом. – Генри, какая кошмарная шишка! Что все завтра подумают? Приложи лед, придави его подушкой.
– Генри, – кричит снизу Роза, – что ты с собой сделал?
По дороге обратно в гостиницу Роза дремлет, а Эд внимательно слушает Би-Би-Си-3. Сара представляет себе, как Генри и Сьюзен раскладывают в коттедже образчики тканей на мебель. Думает она о том, что они так много себя вложили в этот дом, что теперь принадлежат ему и друг другу. Брак был единственным способом завершить этот проект, доделать этот сложный, тонкий интерьер – например, воспроизведенный на стенах кухни узор с виноградными лозами Уильяма Морриса [66]66
Уильям Моррис (1834–1896) – английский художник, один из лидеров «Движения искусств и ремесел». Многие разработанные им орнаменты стали классическими.
[Закрыть]. Сара сонно думает о тех поэтах и обитателях Оксфорда которые стремились ко все более и более Высокой церкви [67]67
Имеется в виду Высокая церковь, как одно из течений в англиканстве.
[Закрыть], возводили шпиль за шпилем, пока не стали католиками, а их церкви не превратись в соборы. Может, и Генри, решив жениться, проделал такой же путь? Он – воображает она – двигался от юношей к цветоводству, потом к садоводству и наконец – к коттеджу и жене. Ухаживал все более и более причудливо. Сара всегда думала что Генри живет удивительно красиво, и немного расстроилась, когда узнала, что он женится. Она решила, что он сдается на волю обыденности. Но Генри вовсе не сдался. Он нашел прибежище в изыске девятнадцатого века.
Когда в «Пасторском доме» звучит гонг к завтраку, Эд с Сарой быстро одеваются и идут к двери Розы.
– Роза, – сообщает Сара через дверь, – мы будем в столовой.
И они спускаются вниз, где для них приготовлены овсянка и тоненькие треугольные тосты. Они не ждут, когда Роза откроет дверь, у них разработан план военных действий.
Но Роза не присоединяется к ним за завтраком, не поджидает их, когда они возвращаются. Эд выбегает купить «Гардиан». Сара выкладывает на кровать отутюженный льняной костюм, прислушивается – не слышно ли в коридоре шагов Розы. Генри ждет их к одиннадцати – чтобы сфотографироваться. Они подробнейшим образом читают «Гардиан». Генри звонит дважды.
– Я так больше не выдержу! – взрывается в половине одиннадцатого Эд. Он забывает про план и колошматит в дверь Розы.
– Мама, выходи – тебе надо на свадьбу! – кричит он.
– Я никуда не иду, – отзывается Роза.
– Ты собираешься весь день проваляться в кровати? Ты для этого приехала в Англию?
– Я приехала не для того, чтобы меня тащили куда-то против моей воли. Не в том я возрасте! – говорит Роза.
Эд врывается к себе.
– А я думала, на нее за такое поведение вообще никто не будет обращать внимания, – говорит Сара. Она заряжает фотоаппарат, засовывает запасные кассеты с пленкой в клапаны на ремне.
Эд снимает трубку, звонит Розе.
– Мама, мы уезжаем, – говорит он ласково. – Ты ведь не хочешь расстраивать Генри?
– Ты меня не шантажируй, – отрезает Роза. – Неужели ты не понимаешь – если кого и расстроили, так это меня.
Они ждут еще немного и отправляются на свадьбу. Когда они уходят, появляется служащий гостиницы: он катит тележку с накрытыми крышками блюдами, утренней газетой, кофейником и розой в вазочке. Останавливается он у двери Розы.
Генри стоит под шквалом органной музыки и смотрит в проход, по которому к нему идет Сьюзен. Она в своем тяжелом подвенечном платье ступает медленно и спокойно, подстраиваясь под шаг восьмидесятитрехлетнего отца.
Эд нервно ерзает на скамье с высокой спинкой, оглядывает лица гостей Генри. Почти все из них евреи, догадывается он. Пока Сьюзен помогает отцу сесть, Сара разглядывает ее платье – камчатная ткань с узором, белое по белому, юбка колоколом, пышные рукава. В мерцающем свете витражей волосы Сьюзен отливают серебром. Эд крутится, пытается рассмотреть еврейскую общину Оксфорда – там и человек двадцать ученых из Израиля, с темноглазыми детишками, щебечущими на иврите – им велят сидеть спокойно, и сидят они среди лилейно-белых прихожан. А Сара искренне радуется, глядя на Генри в серой визитке и на Сьюзен в белом. Генри словно оказался в сказке – во всяком случае, в продолжении сказки, он женится на волшебнице-крестной.
– Смотри, там Дик и Айрин Френкель, – шепчет Эд.
Генри замер рядом с Сьюзен. Над ними, высоко над ними – стрельчатое окно, а еще выше окно-розетка, парящее в воздухе, как медальон. Для него сейчас существует только голос священника и зеленый полумрак церкви. Темные резные листья, блеск позолоты, звучная мелодия. Он все это видел и слышал, но никогда прежде не был причастен к этому. Он забывает обо всем остальном и не замечает что его мать приехала, стоит в дверях, сует в кошелек сдачу от таксиста, щелкает замком сумочки.
– Заливное тает, – обеспокоенно сообщает Генри Сьюзен в шатре на территории Уантаджского центра. Сад Мертон-колледжа им для свадебного приема заполучить не удалось.
– Я уверена, его все равно съедят, – успокаивает его Сьюзен.
– Ты все-таки попроси, чтобы принесли побольше льда, – говорит Генри.
– Хорошо. – Сьюзен деловито уходит. Из-под ее платья видны туфли на низком каблуке.
День жаркий и душный. Гости пьют охлажденное шампанское ящиками. Генри суетится, проходя, целует мать. Струнный квартет мужественно играет, изнемогая от жары, Генри вздыхает: ему жаль, что так недолго они пробыли в прохладе церкви, и даже свадебный торт на солнце начинает подтаивать. Сьюзен бодро обмахивается веером, ставит в тени дуба пару садовых стульев – для своего отца и Розы.
– Ох, ну и жара, – говорит Дик Френкель, и Эд думает, что Дик совсем не изменился с тех пор, как Эд читал лекции здесь в летней школе, и дети бесились на этой самой лужайке. – Но все равно, добро пожаловать, – говорит ему Дик. – Следующим летом непременно вызовем тебя на конференцию по Западному берегу [68]68
Имеется в виду Западный берег реки Иордан.
[Закрыть].
Сара фотографирует Эда и Дика, когда Дик показывает на усадьбу, где находится его институт, у нее получается и удачный снимок Сьюзен, когда та кружится в юбке колоколом и тычет пальцем на стол с десертами.
– Обожаю все английское, – говорит под деревом Роза отцу Сьюзен. – Я, видите ли, выросла в Лондоне, в английской семье и делала все, что делают английские дети. Мы пили чай, проводили каникулы на море – у нашей гувернантки было сопрано, и она любила петь с балкона, выходившего на море. Прохожие останавливались послушать. Они были очень добры ко мне в – особенности мой английский папа. Но, – доводит она мысль до конца, – мои родные были в Нью-Йорке, меня отправили в Англию до того, как у них появилась возможность эмигрировать, и мне визу дали не сразу. Все время, пока я была в Англии, я ждала, когда мне разрешат уехать. Я просто хотела домой, к своим родным. Просто хотела домой.
– Пора, – говорит в шатре Сьюзен. – Хочешь не хочешь, а придется его разрезать. – Она берет нож и втыкает его по рукоятку в центр торта.
– О Господи, – говорит Генри. – По-моему это не самое удачное место. Смотри, ты покривила опору… Позови официанта…
Когда официанты разделываются со свадебным тортом, Генри отворачивается.
– Было бы довольно глупо потратить столько денег и даже его не попробовать, разве нет, дорогой? – спрашивает Сьюзен. – Фотографии все равно есть.
Генри несет Розе кусок торта с несколькими клубничинами в придачу.
– Спасибо, дорогой, – говорит она.
– Спасибо тебе, что пришла, – говорит он, и голос его дрожит.
– Все было очень мило, – отвечает Роза. – Впрочем, вот этот джентльмен заснул.
– Я позову Сьюзен. – Генри удаляется, изнывая в своей свадебной визитке от жары.
– А вот остатьсяв Англии я никогда не хотела, – задумчиво говорит Роза, принимаясь за торт и клубнику.
Комары
пер. В. Пророкова
В аэропорту за стойкой «зеленых» шаттлов никого и клиентов тоже нет. Эд думает, что попал не туда. Он в дороге уже десять дней. Около стоек других шаттлов народу полно. Эд ждет пятнадцать минут, затем волочет свои сумки к телефону-автомату.
– Марковиц? – окликает его кто-то.
К нему мчится огромная женщина с планшетом в руках.
– Питерстаун? – спрашивает она, задыхаясь. – Христиане и евреи – институт экуменизма?
Эд мрачно кивает.
– Отлично. – Она протискивается за стойку. – Мне надо оформить накладную. Отметьте, что все оплачено.
– Где автобус? – спрашивает Эд.
– Мне надо подогнать его ко входу, – говорит женщина. Она берет его вещи, он идет следом за ней на улицу, где ждет молодой человек, который читает Оригена [69]69
Ориген (185–254) – греческий христианский теолог и философ.
[Закрыть].
– Вы на Питерстаунскую конференцию? – спрашивает его Эд.
– Нет, сэр, я еду в университет святого Петра, буду там преподавать. Меня зовут Пэт Фланаган. – Он полон рвения, что Эда слегка изумляет. Молодой человек с пылом жмет ему руку.
– Вы занимаетесь теологией? – спрашивает Эд.
– Прежде всего философией. – Подъезжает фургон, за рулем которого – та же могучая женщина. – Меня интересует вопрос о demonstration Dei– то есть естественная теология, доказательства бытия Божия, – объясняет Фланаган, когда они садятся в машину.
– Декарт? – уточняет Эд.
– Да-да, именно.
– Я это помню по университету. – Философией Эд никогда не увлекался. – А в чем там была соль? Его доказательство замыкалось само на себе, да?
– Замыкалось? – задумчиво переспросил Фланаган. – Я так этого никогда не рассматривал.
Эд прислоняется к дребезжащему окошку. Приглашение из Питерстауна он принял, потому что гонорар покрывал его поездку и в Институт Гувера [70]70
Институт Гувера – политический исследовательский центр в США, входит в систему Стэнфордского университета.
[Закрыть], и в Беркли, на конференцию по интифаде. Но, проведя в окрестностях Сан-Франциско десять дней и трижды выступив с докладами, он просто не в силах вынести еще одну конференцию. И мечтает поскорее отправиться домой, в округ Колумбия.
Они едут по шоссе мимо кукурузных полей, мимо сверкающих силосных башен, мимо ресторанов «Говард Джонсон» [72]72
«Лангеншнейдт» (Langenscheidt) – немецкая издательская фирма, выпускающая словари, а также лингвистическую литературу.
[Закрыть]– они все стоят поодаль от дороги, в зелени деревьев. Попадаются и коровы, и Эд, в котором просыпается инстинкт горожанина, едва не кричит: «Смотрите, коровы!» Но, взглянув на Фланагана, сдерживается.
– Когда же мы доедем? – спрашивает он даму за рулем.
– Остановимся где-то в начале второго, – отвечает она.
Значит, через часок, соображает он и пытается вздремнуть.
Наконец они останавливаются на парковке у «Холидей-Инн», и он вслед за дамой выходит из фургона. Она смотрит на него.
– Могу я взять свой багаж? – спрашивает он, перебирая купюры в бумажнике.
– Это еще не Питерстаун, – говорит она. – Мы здесь остановились нужду справить.
– Это где же это мы? – спрашивает Эд Пэта Фланагана в мужском туалете.
– В Сент-Клауде. До Питерстауна еще два с половиной часа, на запад.
Эд вытирает лицо влажным бумажным полотенцем.
– Да, далековато, – признает Пэт. – Но места дивные.
Университет святого Петра расположен на пологом холме над озером. За озером какие-то рощи. Никакого поселения поблизости не наблюдается. Фланаган снова жмет руку Эду и направляется на вершину холма, к огромному зданию в форме креста. А фургон едет по дорожке к озеру. Не видно ни здания института, ни каких-либо жилых построек. Женщина-водитель выгружает багаж Эда, и Эд стоит с чемоданами посреди луга, а перед ним озеро, по которому бежит легкая рябь.
– Погодите! – кричит он, но дверца задвигается, фургон уезжает, и Эд остается один.
Приглядевшись, Эд замечает среди пышной листвы крыши и трубы. Он тащится к озеру: оказывается, институт – это ряд хижин на склоне холма. Всего их больше десятка, с дороги их не видно, стеклянные раздвигающиеся двери обращены к озеру. Из одного домика выходит мужчина – здоровенный, помесь медведя и «бьюика», грудь колесом, плечи широченные, огромный лоснящийся лоб.
– Вы, должно быть, Эд? Вы предпоследний. Остальные приехали утром. Меня зовут Мэтью.
– Мэтью… – Эд ждет фамилии.
– Брат Мэтью. Я выполняю роль связного между университетом и институтом – слежу за тем, чтобы всем вам было удобно. Идемте! Мы поселили вас вон на том краю, в доме ламы.
– В каком смысле «ламы»? – спрашивает Эд.
– Далай-ламы. У нас каждый дом назван в честь какого-нибудь духовного лидера.
– Интересная концепция.
– Десять лет назад мы проводили конкурс на лучший проект, – рассказывает Мэтью, – и это решение нас просто потрясло. Идея жить на земле, в самых скромных условиях и в таком пейзаже! Дома расположены полукругом, что символизирует толерантность и равенство – здесь вообще много символики, а как чудесны эти хижины зимой! Наши стипендиаты живут здесь зимой с семьями, и им очень нравится такое уединение. Ну, вот мы и пришли. Давайте просто постучим, может, ваш сосед на месте. Боб, это мы! Спит, наверное. Давайте-ка занесем ваши чемоданы. Боб Хеммингз – наш пресвитерианин.
– В каком смысле? – спрашивает Эд.
– На конференции.
– А, так у вас собраны образчики всех конфессий?
– Именно! Что ж, устраивайтесь, не буду вам мешать.
– Погодите-ка! – окликает его Эд. – А вы мне ключ не дадите?
– Ключей у нас нет, – говорит Мэтью. – Так проще. Да и все равно замков-то нет. Это одна из особенностей проекта.
Общая комната представляет собой гостиную совмещенную с кухней. За ней расположена ванная, по бокам от которой – двери в спальни. Эд открывает правую дверь, за которой обнаруживает Боба Хеммингза – тот лежит в одних трусах и слушает плеер. Хеммингз вскакивает и снимает наушники.
– Привет! – радостно кричит он. Боб – мужчина ростом за метр восемьдесят, с низким голосом. Эд вдруг понимает, как устал за день от всех этих бурных приветствий. Ему не хватает легкой отстраненности калифорнийских коллег, хмурой почтительности его студентов в Джорджтауне.
– Слушайте, – говорит Эд Бобу, помывшись и переодевшись, – а здесь есть что поесть? Я не обедал.
– Нет, мы едим в университете, – говорит Боб. – Видите, вам на столе оставили карточку в столовую. На ужин столовая открывается в шесть.
– А до поселка дойти можно?
– Я готов. – Долговязый Боб встает. – Но это серьезная прогулка.
– Далеко идти?
– Ну, за час доберемся.
Эд плюхается на диван.
– А никакого магазинчика поблизости нет?
– Я ничего такого не знаю. О, минуточку. Я же прихватил с обеда яблоко. Оно у меня в комнате.
– Это что, тюрьма? – бурчит Эд, разглядывая карточку в столовую.
– Мне здесь нравится, – говорит Боб. – Прошлой зимой я брал отпуск на научную работу и провел его здесь.
– А где вы преподаете? – спрашивает Эд.
– Я священник, а не преподаватель. У меня приход в Сиракьюсе.
– Вот как… А где расписание конференции.
– Я расписания не видел. Мы должны собраться после ужина. Наверное, тогда-то мы все и узнаем.
– Отлично, – говорит Эд. – Просто замечательно.
Отправляется в свою спальню, закрывает за собой дверь.
– Яблоко я вам на столе оставлю, – кричит ему вслед Боб.
– А, да, спасибо! – отвечает Эд.
– Не за что! – нараспев тянет Боб.
В комнате у Эда кровать и стул, а стола нет. Он кладет чемодан на кровать, заглядывает в несессер. Достает зеленый шариковый репеллент от комаров, намазывает руки и шею. Комаров он еще не видел, но его о них предупреждали. Рассказы о здешних комарах он слышал еще в Вашингтоне. А в аэропорту Миннеаполиса в сувенирных ларьках он видел множество футболок и кружек с изображением комара в виде «птицы – символа штата». Эд ложится и тут же засыпает.
Эд выходит в общую комнату, а пастора Боба уже нет. Седьмой час, и Эд, схватив карточку, мчится в столовую. По тропинке впереди него шагает худой седовласый мужчина в ермолке.
– Вы идете на институтский ужин? – спрашивает Эд.
– Да-да. – Мужчина вздыхает. – Вы кто, Марковиц? Меня зовут Маурисио Бродски. – Эд отмечает испанский акцент. – Скажите, как им удалось заманить вас в эту глушь? Я приехал утром. Тишина здесь просто оглушающая. И моя мигрень тут же разыгралась.
– Что это за звук? – спрашивает Эд. Он слышит в воздухе тоненькое гудение – тихую, но неотступную комариную песнь.
– А вот и мое тайное оружие. – Маурисио снимает пристегнутый к карману предмет, напоминающий зажигалку. – Эта штука издает звук комара-самца – отпугивает самку, которая как раз кусается. Она уже беременна, он ей ни к чему, поэтому она летит кусать кого-нибудь еще. Работает прибор на двух пальчиковых батарейках. Я заказал его по почте, у немцев – у кого же еще? – Он вскидывает длинные пальцы, а Эд восхищается тому, как в его речи сочетаются испанский акцент и ноющая протяжность идиша. Своим умудренным обликом он напоминает нью-йоркских евреев, брюки у него иссиня-черные. Лицо живое, глаза с ехидцей, волосы редкие, подбородок срезанный, смотрит с напускной сосредоточенностью, почти пессимистично – мол, пропади все пропадом, а еще у него тоненькие усики и ироничная ухмылка. – Как же вас сюда заманили? – повторяет свой вопрос Маурисио.
– Я так и так ехал домой, на восток…
– Говорят, им не хватало евреев, – сообщает Маурисио. – Они вам сколько дали, тысячу? Две? Можете не отвечать. Я же в этом деле, я все знаю. Евреи-католики – это моя тема. Здесь все как в театральном деле, даже хуже!
Рубашка Эда намокла от пота, летний воздух тяжел и влажен. Они поднимаются на вершину холма, Эд от жары едва живой. Маурисио открывает стеклянную дверь в университетский обеденный зал, их обдает прохладным воздухом, аж мурашки по телу. Из толпы студентов, монашек, монахов в коричневых рясах к ним тут же кидается голубоглазый мужчина.
– Это Рик Матер, – объясняет Эду Маурисио, – директор института.
– Эд! Рад вас видеть! – Матер смотрит Эду в глаза. – Пойдемте в начало очереди.
– Минуточку… – Эд едва успевает схватить поднос, а Матер тащит его мимо тарелок с кексами, с кубиками красного желе, мимо блюд с картофельным пюре. Эд тянется за тарелкой с мясным рулетом, но женщина на раздаче дает ему поднос, накрытый фольгой.
– Это ваша кошерная еда, – говорит она.
Он берет поднос, от голода его уже ноги еле держат.
– Рик, – говорит он Матеру, – у меня один короткий вопрос – сколько времени дается на выступление? У меня есть два доклада – один более теоретический, минут на сорок, а второй попроще – о терроризме, толерантности, двойных стандартах.
– Эд, Эд, – говорит Матер, – об этом даже не думайте. Вы скоро сами поймете, что формальности нас совершенно не волнуют.
– То есть никаких временных ограничений нет?
– Никаких. И никаких докладов. Мы хотим, чтобы вы говорили о том, о чем вам хочется сказать.
– Я уже сказал все, о чем мне хотелось сказать. Это есть в моем докладе!
Эд встревоженно оборачивается к Маурисио, а тот смотрит на него и ехидно усмехается.
Они садятся в отдельном обеденном зале – вместе с Бобом Хеммингзом и другими участниками конференции. Всего их восемь человек – пятеро христиан и трое евреев. Четвертый еврей застрял в Париже, объясняет Матер. Он приедет утром. Эд смотрит на подносы, заставленные картошкой, ирландским рагу, тарелками с минестроне. Ему очень хочется вернутся туда, где раздают еду, и объяснить, что он хоть и еврей, но кашрут строго соблюдает только дома, а тут он с радостью поел бы рагу с картошкой. Но Матер продолжает говорить. Эд снимает фольгу с подноса. И берет бейгл с сосиской.
– Что ж, – говорит Рик Матер, – полагаю, пора начать наше общение. Меня кое-кто спрашивал про доклады, про заседания нашей конференции. Я бы хотел еще раз подчеркнуть: наша задача – отойти от академических канонов. Наш институт – уникальное место, и наша цель – помочь найти общий язык не только евреям и христианам, но и служителям культа и ученым. Мы не придерживаемся регламента, здесь нет особых правил. Мы по традиции стараемся, чтобы общение проходило в максимально неформальной обстановке. И просим мы – это единственное, о чем мы просим, – говорить максимально честно и искренне, делиться самым сокровенным…
«Да, и больше ничего?» – думает Эд, держа в руках бейгл, и его вдруг охватывает паника. Ему кажется, что он падает – а буклет конференции он что, так и не прочитал? – падает, как падают во сне, машет руками, и подготовленный доклад рвется из рук, а все это краснобайство – как пузырящаяся грязь внизу.
– Мы здесь все говорим от первого лица, – продолжает Матер. – Мы говорим на интересующие нас темы, рассказывая о самих себе. Ведь вопрос межконфессиональных отношений лучше всего обсуждать, говоря о своей личной вере. Это нам стало ясно, как только мы начали устраивать подобные собрания, еще много лет назад. Что есть изучение религии, как не изучение самой жизни, изучение себя?
Эд боится, что его вырвет. Он с трудом глотает и смотрит через стол. Брат Мэтью, так же сияя улыбкой, отодвигает от себя тарелку с пюре. Рядом с ним голубоглазая светловолосая женщина листает карманный лангеншейдтовский словарь [72]72
«Лангеншнейдт» (Langenscheidt) – немецкая издательская фирма, выпускающая словари, а также лингвистическую литературу.
[Закрыть].
Так что все мы собрались на этой конференции как…
– Как паломники, – уверенно договаривает женщина слева от Эда.
– Вот-вот! Разве что мы на самом деле не знаем, куда направляемся и как туда попасть. Но я думаю, суть в самом процессе поисков. Мы будем следовать давней традиции Института экуменизма, главное – это личный рассказ. Я начну, а любой из вас может, когда почувствует, что готов, продолжить.
– Погодите-ка! – говорит Эд. – Я хочу понять, чем мы тут занимаемся. Получается, на заседаниях мы будем рассказывать о себе? Вы хотите чтобы мы тут рассказывали истории своей жизни?
– Это только в качестве отправной точки, – отвечает Матер. – Мы совершенно не ждем полного рассказа. Только поворотные моменты, моменты прозрения. И, естественно, мы хотели бы сосредоточиться на религиозных аспектах. На ваших отношениях – на духовном уровне – с Господом, со Священным Писанием. Сначала…
– Рик – перебивает его брат Мэтью, – позвольте, я только раздам вот это. – Он протягивает каждому по красному блокноту университета святого Петра. – Это в подарок от университета, – объясняет он.
– Ой, а я тоже кое-что привез, – сообщает седобородый старик в большой ермолке. – Он раздает небольшие пластиковые тюбики, завернутые в бумагу. – Это гигиеническая помада, – говорит он. – Один член нашей общины разработал новую формулу и собирается открывать свое дело. На листовках его адрес в Северной Каролине – для заказов по почте – надеюсь, вам понравится. Я и сам ей часто пользуюсь. – Он облизывает губы и добавляет: – Особенно летом.
– Спасибо, ребе, – говорит Матер. – Раввин Лерер приехал к нам из Чейпел-Хилл, где он занимает место завкафедрой истории средних веков. – Эд разглядывает худенького маленького раввина. «Занимает место»… Что же это за место такое? Или же этот человек знаменит своими чудачествами? Эд никогда о нем не слыхал.
– Я вырос в Кембридже, штат Массачусетс, – говорит собравшимся Матер, – в тени всех Матеров [73]73
В семье Матеров на протяжении нескольких поколений преобладали религиозные деятели. Первым в Новый Свет в 1635 г. приехал пуританин-проповедник Ричард Матер.
[Закрыть]. Они были для меня доминантой пейзажа, как, скажем, кирпичные…
Эд обводит взглядом комнату. И с удивлением замечает, что все что-то записывают. Он заглядывает в блокнот Боба Хеммингза. «Университет святого Петра, – написал Боб. – Все мы паломники. Религия – через себя». Эд раскрывает свой блокнот. Смотрит на чистый лист, вырывает его и пишет записку Маурисио. «Что все это значит?!»
Голос Матера – как жужжание газонокосилки где-то вдалеке.
– И я понял, что к чему, когда жил уже в Элиот-хаусе [74]74
Элиот-хаус – одно из 12 жилых зданий, в которых живут студенты старших курсов в Гарварде.
[Закрыть], я тогда постоянно получал всякие премии за научную работу, меня чем-то награждали, а я тогда мало в чем разбирался, и это меня не пугало. Пока однажды я не узнал, что не получил стипендию Родса [75]75
Стипендия Родса – международная стипендия для обучения в Оксфордском университете.
[Закрыть]– выбрали не меня. Для меня это был поворотный момент, потому что я испытал доселе неведомые переживания. Я потерпел поражения, а это, разумеется, было куда важнее успеха, которого я добивался раньше. Помню, я проснулся посреди ночи и пошел гулять по берегу Чарльза. Я был совершенно спокоен, я упивался новым горьковатым привкусом проигрыша. Я чувствовал, насколько я незначителен – и перед миром, и перед Господом. Я чувствовал, что на самом деле я – неизбранный, я не отделен от остальных, я создан не для того, чтобы преуспевать, а для того, чтобы жить! Конечно, на том этапе жизни это возвышенное чувство сохранялось недолго…