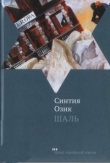Текст книги "Семья Марковиц"
Автор книги: Аллегра Гудман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
– Мы всегда должны просить прощение, – рыдает Марта.
– Мы должны давать его, – говорит Маурисио.
Все остальные молчат. Наконец Рик Матер говорит:
– Что ж, я чувствую, как комната наполнилась энергией. Марта, это было потрясающее выступление. Правда! Может быть, вы, Маурисио….
Маурисио начинает говорить – быстро, серьезно. Естественно, думает Эд, Маурисио не станет говорить о себе в сатирических тонах, так что его рассказу соответствия не подберется. Эд смотрит в раскрытый блокнот, испещренный какими-то закорючками, а потом берет ручку и пишет: «Рассказ продавца индульгенций».
– Родители растили меня и брата в Буэнос-Айресе, – говорит Маурисио. – Остальные наши родственники погибли в лагерях. Меня послали в католическую школу – хотели, чтобы я стал юристом, и там я узнал не только христианскую, но и иудейскую Библию. По церковным праздникам я ходил по улицам, где, как цветы, были разбросаны листовки, цитаты из Евангелий: «Распни его, – кричали евреи. Распни его!» Так я во второй раз узнал про антисемитизм, так я исполнился решимости бороться с фанатизмом – как евреев, так и христиан. Я стал раввином, поселился в Нью-Йорке, стал работать в Фонде по вопросам диалога между евреями и католиками. И там я узнал то, что полюбил всем сердцем, католическую теологию и церковное право. Это моя отрада в науке! В моей квартире собрана масса католических молитвенников, трактатов, мистерий и, главное, книг по церковному праву. Я пишу во все религиозные издания. В прошлом году моя дочь обручилась, и мы устроили небольшой прием в честь наших новых родственников. Религиозные евреи, в черном, в черных шляпах – кто знал, согласятся ли они есть у нас в доме? И тут жена посмотрела на меня и говорит: «Маурисио, а твои книги! Они же по всей квартире. Даже в столовой. Что нам скажут эти люди? Как же быть? Может, занавес повесить? Или ширму поставить?»
«Анна, – ответил я, – таков уж я есть. Разве это спрячешь? В этом вся моя жизнь. Неужели это так страшно? Неужели это наш скелет в шкафу?» Естественно, моя собственная религия у меня вызывает досаду. Она слишком близка ко мне, она не доставляет мне радости. Каждый шабат я хожу в нашу маленькую синагогу и возмущаюсь тем, как ведется служба. Что я могу сказать? Люблю я жаловаться. По ошибке иногда зажигаю в шабат свет. Боюсь ли я, что Господь на меня рассердится? Да нет, конечно. Ну, рассердится Он на меня. И что с того? Я сам на Него сердит! Он дал моим родным умереть. За это я Его никогда не прощу. Я вечно спорю об этом с Богом. Я спрашиваю Его, почему ты нас оставил? Это люди могут друг друга оставить. А Ты, Ты как мог? Что проку изучать зло? Я согласен с Мартой – ответа на это нет. Что это за штука, теодицея? Моих родных отправили в печи… – У него перехватывает дыхание, он умолкает.
Как все это верно, – подтверждает Авнер Рабинович. Надежды Эда на израильского ученого рушатся. Рабинович явно собирается говорить не как ученый, а как один из них. Голос у него хриплый, говорит он с сильным израильским акцентом, взгляд у него затравленный – то ли из-за переживаний, думает Эд, то ли из-за бессонной ночи в парижском аэропорту. – Что это может быть? Каким может быть ответ от такого Бога? Я сам спорю с Богом, возражаю Ему по ночам. Я работаю в университете, веду занятия. Дома я хожу по комнате со священной книгой в руке. Что означают эти комментарии? Как могут комментаторы объяснить зло? Они говорят словами о словах и буквах. Они задают пустые вопросы.
– Погодите-ка, – поднимает руку раввин Лерер. – В комментариях не раз обсуждается зло, в том числе и великими философами. Я сам находил много ответов. Например, есть работа…
– Ребе, перебивает его Маурисио, – ну какое зло вы можете встретить в Канаде? Если бы всем нам так повезло – оказаться в Канаде во времена катастроф, во времена мировых войн.
– По-моему, это аргумент, который бьет на чувства, а не взывает к разуму! – возмущается Лерер. – Я намеревался говорить о теодицее.
– Я хотел сказать следующее, – вновь вступает в разговор Авнер. – Когда-то у меня был сын. Его уже нет. Чем я могу оправдать то, что он погиб в Ливане? Кто может оправдать такое? Могу ли я найти утешение в Писании? Я читаю о принесении в жертву Исаака и вижу что-то про смерть моего сына. Буквы в книгах снова и снова говорят про его смерть.
– Погодите! – Боб Хеммингз озадачен. – Исаак не погиб. Он был спасен.
– Да! – восклицает Авнер, и его полное лицо, раскрасневшееся от переживаний, вдруг становится на удивление молодым. – Именно в этом и дело! Исаак был спасен. Но моего сына никакой ангел не спас. Он умер, а я должен жить, учить, спорить с Господом. И это моя работа – задавать такие вопросы, а мои коллеги по религиозным спорам зарабатывают очки. Вот об этом я и говорю. Настоящий ученый должен поверять тексты своим собственным опытом. Что могут извлечь мои коллеги из подсчета слов? Я беру в руки Писание, когда в душе моей ночь. Я требую – говори!
– Уведите меня отсюда, – шепчет себе под нос Эд.
– Вы что-то сказали, Эд? – спрашивает Рик Матер. – Вы хотели ответить? Поделиться своим опытом?
– Нет, – отвечает Эд.
– Так ведь ваша очередь, – говорит сестра Элейн.
– Кажется, вы последний, – замечает брат Маркус.
– Я пас, – говорит Эд. – Пас.
– Ну же, Эд, – уговаривает его Матер. – По моему, мы достигли определенной степени доверия, и у нас здесь такая теплая атмосфера…
– Хорошо, – прерывает Эд уговоры Матера. – Хотите, чтобы я высказался? Вам интересно что я думаю? Я думаю, что это самая неорганизованная, самая бессвязная конференция из всех, на каких я бывал, и мне, профессиональному историку, ученому тошно – тошно! – все это слушать. Я ничего подобного не встречал. Никогда не видел публичного самокопания такого масштаба! Самовосхваление, самобичевание… Что мы здесь делаем? Это бред какой-то! Что делаю здесь я, слушая – прошу прощения за выражение – эти бубе майсес [86]86
Сказки ( идиш).
[Закрыть]? И что это за сценки тут разыгрывают? По задумке это очень трогательно – Марта просит прощения за преступления, которых она не совершала, а Маурисио прощает ее за страдания, которых не испытал! Только ничего трогательного в этом нет. Это просто бред. Когда это вас отрядили выступать от лица немцев и евреев? Кто вам дал право поучать? Очень мне это хочется знать. Авнер, мне очень жаль, что ваш сын погиб. Но разве это позволяет вам списывать со счетов исторические методы и научный анализ? Как вы можете сидеть здесь и…
– Вы совершенно неверно поняли то, о чем я говорил, – вклинивается Авнер. – Я критиковал своих коллег, изучающих Писание, ученых вроде вас за то, что они обращают внимание только на детали.
– Я ученый! – вопит Эд. – Это значит, что время от времени я перестаю ковырять в носу и сосредотачиваюсь на чем-то помимо меня самого и моих страданий. Я пытаюсь рассмотреть проблему в перспективе. Я стараюсь добиться объективности. Делаю все, чтобы мое эго не распухло до неприличия! Вот в чем суть науки! – орет он. – В науке все дело! Вы тут сидите, гладите друг друга по спинке и поливаете сиропом, а мне обрыдло на это смотреть!
На этот раз тишина совсем другая. Не торжественная, не заряженная энергией. Слышно только, как Марта судорожно листает страницы словаря.
Молчание заполоняет все, и никто не хочет его нарушить. Рик Матер уставился в стол, лицо у него напряженное, замкнутое.
– Что ж, – говорит наконец Маурисио, – по-видимому, пора объявлять перерыв.
– Нет, – говорит сестра Элейн. – Если возникла проблема, ни в коем случае не следует от нее бежать. Я ни на какой перерыв не пойду.
– Так вы согласны, что есть проблема? – восклицает Эд. – Согласны, что это все бред собачий?
– Эд, Эд, – одергивает его Маурисио, – такого рода выражения…
– Это самое подходящее выражение! – говорит Эд. – Самый точный термин! – Бунтарство придает ему сил. Он снова начинает чувствовать себя собой. Он сидит за столом заседаний, у него уже намечается брюшко, но, образно говоря, он – капитан Блад [87]87
Капитан Питер Блад – герой серии романов Рафаэля Саббатини, классический образ благородного разбойника.
[Закрыть], он стоит на палубе корабля с саблей наголо и готов сражаться с любым.
– Предлагаю спросить нашего предводителя, как нам действовать дальше, – говорит сестра Элейн.
– Я могу выступать только как член группы, – говорит наконец Матер, – и как член группы могу сказать лишь, что тут слишком много гнева. Однако в подобных ситуациях не раз получалось, что, окончательно запутавшись, мы оказываемся на пороге чего-то нового.
– Я нисколько не запутался! Я выступаю против этого проекта!
– Вы против экуменистического диалога? – спрашивает Маурисио.
– Нет, я против поглаживаний по спинке! Против межрелигиозной ловли блох друг у друга!
– Эд, – говорит Матер, – не стоит недооценивать возможностей, которые нам здесь предоставлены. В этой самой комнате я наблюдал за тем, как лауреат Нобелевской премии по физике постигал теологию процесса. Я видел, как астрономы нового поколения говорят о Боге и обретают Его в себе. Я видел, как протестанты, иудеи и католики примиряются с антисемитизмом, нищетой, экологической катастрофой, я был свидетелем того, как великие ученые освобождаются – освобождаются от своего научного жаргона. Не стоит недооценивать этот процесс.
Эд нависает над столом.
– Неужели я так многого прошу, когда хочу чувствовать себя профессионалом и взрослым человеком? Я был бы рад услышать про работу раввина Лерера. Зачем мне слушать про его мать? Авнер, я бы с удовольствием обсудил, как воспринимают Писание в третьем мире. Но я не хочу ничего слушать про ночь души, понимаете?
Авнер пронзает Эда убийственным взглядом.
– Я не желаю слушать подобные наветы на этой конференции! Это просто оскорбительно! Недостойно ученого!
– Это вы меня будете учить, что достойно ученого? – взрывается Эд.
– Стойте! Стойте! – молит Марта. – Здесь все так напружено…
– Напряжено, – поправляет ее Элейн.
– Мне от этого плохо, – говорит Марта. – Мы же не сад, где все растет, где хочет. Нам нужен лидер – тот, кто будет резать… вот так… – показывает она руками. – Если Рик не хочет, выберем другого и новую тему. Эта закончена, больше не надо.
– Полагаю, – говорит Элейн, – личные высказывания имели определенную ценность. Но мы получили от них все, что можно. Наверное, хорошо, что Эд своей критикой открыл нам новые горизонты. Мы должны быть ему благодарны.
– Но… – начинает было Эд.
– Эд, не надо мне отвечать. – Элейн поднимает руку, слышатся смешки.
– Думаю, настало время для чего-то нового, – говорит брат Маркус, – тем более, что все уже выступили.
– На самом деле, я еще ничего не сказал, – смущенно сообщает Боб Хеммингз, – но, полагаю, это не так уж и важно. – Он не без сожаления отодвигает блокнот. – Но чтобы мы не расходились с обидой друг на друга, я хотел предложить следующее. Большинство из нас занимается изучением Библии, поэтому мы часто обращаемся к ней за советом. Я вот всегда так делаю. Я даже слушаю Библию в записи – в машине, в плеере, и всегда слышу что-то новое. Вот я и подумал, может быть, нам стоит прочитать или прослушать всем вместе какой-то отрывок? Я хотел предложить сороковую главу Исайи.
– Да-да, прекрасно! Исайя, глава сороковая, – говорит Элейн. – Это так…
– Успокаивает, – договаривает Маурисио.
– Нет, – возмущается Элейн, – я вовсе не это хотела сказать.
– К сожалению, у меня нет при себе Библии, – говорит брат Маркус.
– У меня тоже, – признается Боб.
– И я свою не взяла. – Видно, хоть Марта и обгорела, как она краснеет.
– Так, минуточку! – смеется Боб. – Неужели ни у одного из нас нет Библии?
– У меня есть, – говорит раввин Лерер. – Но, разумеется, на иврите.
– Я могу сбегать в университетскую библиотеку, принести несколько штук, – предлагает брат Мэтью.
– С каждым переводом текст искажается все больше, – заявляет Авнер.
– Я могу прочесть, – громко и внятно говорит Элейн – видимо, думает Эд, по привычке, выработавшейся со времен преподавания в начальной школе. – Исайя, глава сороковая. По Библии короля Якова. «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Элейн явно – несостоявшаяся актриса. В голосе ее слышится страсть. Она смотрит слушателям в глаза и выкрикивает слова яростно, словно это она – пророк. – «Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах, взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?»
Наконец память ей изменяет – на фразе «Вот народы – как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах». Все аплодируют, а раввин Лерер, который следил по своей книге, подхватывает с этого места на иврите, читает нараспев удивительно красивым баритоном.
– Давайте возьмемся за руки! – шепчет Марта.
– Давайте не будем, а скажем, что взялись, – бормочет Эд. Однако и он потрясен тем, как читает старый раввин, потрясен красотой льющихся слов.
Брат Мэтью пожимает раввину руку.
– Традиционный распев! – восхищается он.
– Вы читали так верно, – говорит ему Элейн.
– Что ж, говорит Маурисио, – позвольте предложить прерваться на ужин. Видите ли, главный обеденный зал закроется, а кошерная еда…
– Но мы же должны договориться о планах на утро, – напоминает Элейн. – Рик, чем мы будем заниматься? Это же наш последний день.
– Разобьемся на группы, я думаю. – Вид у Рика утомленный. – Думаю, так будет лучше.
Они направляются на ужин, но брат Мэтью их останавливает. У него с собой маленький фотоаппарат.
– Позвольте вас всех сфотографировать, – говорит он. – Вот здесь, у стены. Рик, Эд, не могли бы вы присесть вот здесь, впереди? Маурисио, а вы встаньте между Элейн и Мартой.
– О! Как настоящий латиноамериканский сердцеед! – смеется Маурисио, обнимая двух дам.
– Боб, не могли бы вы пригнуться? Ну, а теперь все вместе говорим «целибат»!
За ужином Эд садится за стол с Маурисио и Бобом. Но вскоре встает и выходит на улицу. Ему нужно немного остыть. Он стоит на ступенях обеденного зала с бейглом в руке и смотрит в роскошное предвечернее небо. На деревья слетаются птицы, он слушает их переливчатые голоса. Он глубоко дышит. И говорит себе, что это лишь игра воображения, его личный бзик – этот тоненький, набирающий силу звук в траве у озера. Этот сводящий с ума писк, нарастающее зудение комаров.
Фантазия в розовых тонах
пер. Л. Беспалова
Роза обживается. Шлепает домашними тапочками по спальне (прежде это была комната ее внучки Мириам), ходить по мягкому тускло-розовому ковру – одно удовольствие.
– Мы опорожнили два верхних ящика, – говорит свекрови Сара.
– Мне много места не нужно, – говорит Роза, аккуратно укладывая свои ночные рубашки в угол верхнего ящика. – Шифоньер такой поместительный.
– Чего только он не претерпел за эти годы. – Сара смотрит на комод. Он у нее со времен детства, однако в хорошей сохранности, если б не верх: у детей там стоял аквариум и лежали всякие причиндалы к нему: гравий, стеклянная вата, позеленевшие от водорослей зубные щетки. А уж каких только рыб у них не перебывало, а всё потому, что век их был неизменно коротким. Малютки неоновые рыбки вымирали недели через три-четыре, рыбы ангелы кусались, изрядно повреждая друг другу плавники. Ко времени отъезда Иегудит в колледж в аквариуме осталась всего одна рыба – крупная рыба-присоска, она или телепалась на дне аквариума, или висела, присосавшись к стеклянным стенкам, – и так часами. Братья Мириам окрестили ее Пылесосом. В конце концов ухаживать за ней пришлось Саре.
– Верх придется ошкурить, – говорит она Розе, оглядывая попорченное водой дерево.
– Всю комнату надо отделать заново, – вставляет Эд – он стоит в дверях. – Ты на занавески посмотри.
– Они выгорели, это да, – говорит Сара.
Розовые занавески выцвели добела.
– Выгорели! Да они сели, – Эд дергает занавеску, смеется. – И становятся все уже и уже. Ну на что это похоже? Где, кстати, мы их купили в Вулворте?
– Нет, в этом, как его, «Вигваме».
– Вот-вот! – Эд щелкает пальцами. – В «Вигваме». И купили еще до того, как их уценили. – Он обращается к матери. – Мы собираемся отделать комнату заново.
– Зачем? – спрашивает Роза. – Кроме занавесок в ней ничего не нужно менять. А занавески могла бы сшить я.
– Нет-нет. Не надо, мама, спасибо.
Роза не шьет с тех пор, как ей стукнуло семьдесят пять, а и когда шила, о ее портняжном искусстве ходили легенды. Декольте на ее платьях был кривые-косые, рукава на блузках разной длины. Для одного из внуков она соорудила брюки без ширинки, а платья для внучкиных кукол приметывала прямо к куклам, так что их нельзя было снять.
– Это моя любимая у вас комната, – говорит Роза. И опускается на кровать.
– Мы называем ее Святилище, – Сара машет рукой на оставленное Мириам добро. Тут и мягкие зверушки, составленные рядком на верху книжной полки. И коллекция минералов, и ржавеющий пюпитр, с которого свисает брелок в виде малиновой кроличьей лапки. Тут и куклы жительницы самых разных стран. Но все китайского производства. И сувенирная коллекция – память об Оксфорде, где семья провела лето, – английские и шотландские гвардейцы, одни безголовые, у других головы повисли. У них у всех хилые шеи.
– Мы собирались отделать комнату заново, когда она уехала в колледж.
– Но потом она поступила в медицинский институт, – говорит Эд.
– А потом обручилась, – добавляет Сара.
– Самое время.
– Самое время, – соглашается Сара.
Роза качает головой.
– Да уж, Эд, чувствительностью ты никогда не отличался. – И расправляет тюлевую юбку на кукле-новобрачной производства Мадам Александер [88]88
Фирма, основанная Беатрис (Бертой) Александер в 1923 г. Ее куклы изображали как литературных (Скарлетт О’Хара), так и исторических (Мария Стюарт, Елизавета II) персонажей.
[Закрыть].
Роза пробудет у них десять дней. Она прилетела из Вениса после того, как умерла ее любимая подруга Эйлин Микер. Страшное потрясение. Эйлин обещала прийти к ней в воскресенье к одиннадцати на второй завтрак. Но вот уже и одиннадцать, а Эйлин все нет. Роза поднялась в 7 б. Стояла на площадке, колотила в дверь. Надрывалась – «Микер!»: Эйлин была глуховата, но не хотела этого признавать – такая упрямая, – «Микер!» Ни звука. Вызывать управляющего пришлось Розе. А потом Роза смотрела, как племянник Эйлин распродавал ее имущество. И не прошло и недели, а в квартиру Эйлин вселили Джульетт Фрейзир с компаньонкой, и теперь Роза – куда денешься – смотрит, как ее, бедняжку, то выкатывают вниз, то вкатывают наверх. А Фрейзир и невдомек, куда и зачем ее везут. Роза счастлива, очень-очень счастлива, что она в Фогги Боттом [89]89
Фогги Ботом – так называются самые старые районы Вашингтона.
[Закрыть]у Эда и Сары. Когда они ее встретили в аэропорту, она расплакалась.
– Я исстрадалась, – сказала она им. – Я так болела.
– Мы поведем тебя к доктору Мальцману, – говорит Сара.
– Нет, нет, это желудочное.
Эд многозначительно поглядел на Сару.
– А все таблетки. Ты же знаешь, они плохо действуют на пищеварение. Тебе надо уменьшать дозу.
– Я и уменьшаю, – сказала им Роза, – принимаю только, когда боль не перенести. Боль – вот, что я не могу терпеть, а от нее помогают только таблетки.
– Сколько можно, мы уже раз сто это обсуждали, – оборвал ее Эд.
– Жить там я, конечно же, не смогу, – заявляет Роза за ужином. – После того, что случилось, – нет и нет.
– Через день-другой ты отойдешь, – говорит Эд.
Роза вперяется в него. Откладывает вилку. У сына, кажется ей порой, нет сердца.
Сара переводит разговор.
– Мне хочется посмотреть один фильм, «В ожидании луны» [90]90
«В ожидании луны» – фильм (1987) режиссера Джилл Годмилоу об отношениях Гертруды Стайн и Алисы Б. Токлас. Действие происходит в 1930-е годы.
[Закрыть]. Его покажут на нашем писательском семинаре. Вот я и подумала: почему бы нам не сходить на него в воскресенье всем вместе.
– Конечно. Вот и отлично. Мам, ты пойдешь? – спрашивает Эд.
– Пойду, если смогу, – говорит Роза.
Эд кидает взгляд на Сару. Сара предупреждающе хмурится.
– Как они с ней обошлись – это же просто ужас, – говорит Роза. – Следа не оставили от ее квартиры. Я наблюдала за ними. Они сновали – в квартиру, из квартиры: выносили ее вещи. Дорогие ей вещи. Сколько лет она пылинки с них сдувала. И чем все кончилось? Она там не прижилась. И они мигом вкатили в ее квартиру Джульетт Фрейзир. Перед отъездом я им так и сказала, подыскивайте жильца на квартиру 3 С.
– Что-о? – вскидывается Эд.
– Я их предупредила. Я сказала: присматривайте себе нового жильца, чтобы со мной обошлись, как с Эйлин, – этому не бывать. Только не забудьте сообщить вашей будущей жиличке, как обстоит дело с термостатом в духовке и приемом телевизионных программ. Подготовьте ее: пусть знает, что ей придется раскошелиться на наружную антенну. Я сказала: мой сын перевез меня сюда, когда работал в галерее, но теперь он уехал в Англию, давно живет в Оксфорде. Остепенился, женился. Младший мой сын живет в Вашингтоне. Внуки мои на Востоке. Чего ради мне оставаться в Венисе, дрерд афн дах [91]91
Здесь: гори он огнем ( идиш).
[Закрыть], на Западном побережье? Не там я хочу окончить свой девятый десяток, не там, где мою ближайшую подругу бросили умирать в одиночестве перед телевизором.
– Мам, – просит Эд, – не плачь. Уже поздно, ты измотана. После такого долгого перелета необходимо отдохнуть.
Роза вкладывает руку в руку сына.
– Зиму я проведу с вами, летом навещу Генри. Обожаю Оксфорд весной. Там нет такой влажности, как в Вашингтоне. И такой непереносимой жары, как здесь, нет.
– О чем ты говоришь? – У Эда аж дух занимается. – В Венисе у тебя налаженная жизнь. Там вся твоя мебель, квартира обставлена, как ты хотела. У тебя в центре друзья.
– Интересно, как бы тебе понравилось проводить все время с больными стариками? – спрашивает Роза. Голос ее звучит сурово, а глаза смотрят жалобно.
– Нет, нет, не надо сейчас об этом, – говорит Эд. – Не будем это обсуждать.
– Я хочу позвонить Генри, – обращается Роза к Саре.
– Он спит. Там сейчас глубокая ночь.
– Я позвоню ему позже, когда в Англии уже будет утро. В эту ночь я не засну. Я позвоню ему снизу.
– Почему бы не позвонить ему в уик-энд? – предлагает Сара. – Тогда мы сможем поговорить подольше, ты будешь себя лучше чувствовать. Ты не доешь обед?
Роза встает из-за стола.
– Нет, золотко, спасибо. Очень вкусно.
– Хочешь кофе? Без кофеина?
– Нет, спасибо. Может, я спущусь выпить кофе попозже. Я всю ночь не спала.
К Эду сон тоже не идет. Когда мать у них, ему всегда не спится, вот и сейчас он лежит без сна: у него из головы не выходит ее план – переехать из Вениса на Восток.
– Сара, – шепчет он.
Она вздыхает, переворачивается на другой бок.
– Сара, она собирается переехать к нам.
Сара не отвечает.
– Она же не переедет к нам, а? Сара?
– Нет, – когда он уже не ждет ответа, говорит Сара. – Спи.
Он лежит, вглядываясь в темную комнату. Не сводит глаз со смутной щели света между краем шторы и подоконником. Завтра ему читать лекцию, а у него мысли только о матери, он чует: теперь она останется у них, в их доме, будет жить с ними. Он знает, как она томится, тоскует. Ему хотелось бы как-то разделить ее одиночество. Опекать ее. Но мысль, что груз забот о ней навалится на него, вгоняет его в панику. И причиной не ее возраст. Просто в ее присутствии у него разыгрываются нервы. А когда она задерживается у них, он – неровен час – того и гляди, рехнется. Слишком большая у нее над ним власть. Сейчас он слышит, как она, стараясь ступать как можно тише, плетется в ванную. Сейчас 3.12 утра. Она принимает горячий душ. Он слышит – как льется и льется вода. Как она встряхивает аптечные пузырьки. Глотает таблетки. Она наверняка уже приняла их после ужина, потому что он ее огорчил. Но это не совсем так. Она приняла бы их в любом случае. Тем не менее его все равно гложет вина. Он представляет, как она спускается в кухню, пытается позвонить Генри. Есть ли у нее его рабочий телефон? Эд толкает Сару в плечо.
– Не могу заснуть.
– Спи, – голос у нее далекий, точно эхо.
– Сара!
Она отвечает не сразу, говорит быстро, четко:
– Не дури. Она и не думает переехать к нам: просто хочет почувствовать, что она нужна. Завтра она с тобой поскандалит и скажет, что она к нам ни ногой. Так что уймись, спи давай, – и отворачивается к стене, стянув на себя чуть не все одеяло, а Эд – такой одинокий под белой простыней – прислушивается к тихому скрипу ступенек.
Лекции в эту неделю проходят из рук вон плохо. Всего вторая неделя семестра, а уже начался отток студентов. Эд списывает отток на все сокращающийся набор. Прежде его курс – «Террор и разрешение конфликтов» – был очень популярен, в Джорджтауне говорили, что он прямо-таки артист. «Энергичный, прозорливый» – так, оценивая его, подытожил студенческий вестник. «Марковиц уснащает лекции зловещими подробностями тайных операций на Ближнем Востоке. Его сопровождающуюся слайдами лекцию о „Самых разыскиваемых в мире преступниках“ должен посетить каждый, свободная дискуссия „Друг или враг“ также заслуживает самой высокой оценки». Но в эту неделю из Эда словно весь воздух вышел. Он приходит в школу, совершенно измочаленный от недосыпа: ночью он слушает, как Роза бродит по дому, днем смотрит, как она клюет носом в гостиной. Когда Эд возвращается домой, разговора о переезде она не затевает. Поднимает на него глаза, говорит вяло, заторможенно. Глотает эти свои таблетки. Она припрятала оранжевые пузырьки в комнате Мириам, принимает таблетки каждые три-четыре часа. Искательница забвения в игрушечном зоосаде.
Они с Розой не поскандалили, тут Сара ошиблась. И вообще не ссорились. А вот кто всю неделю ссорился – так это Эд и Сара.
– Как, интересно знать, я могу работать? – вопрошает Сара. – Я работаю дома. Мой кабинет здесь. Как, интересно, я могу писать, если она то и дело заходит и дурит мне голову рассказами о своих болячках.
– Это ты предложила ей погостить у нас, – говорит Эд.
– Да потому что так д олжнопоступить! Потому что она утратила подругу!
– Утратила!
– Да, утратила!
Они пожирают другу друга глазами через кухонный стол.
– Я тебе говорил: сейчас не время, – это Эд. – Но разве тебя переспоришь…
– Время тут ни при чем. Ты перекладываешь всю ответственность на меня. Торчишь на работе до шести, а я здесь готовлю обед, и она еще ни минуты не спускает с меня глаз! А ночью ты не даешь мне спать.
– Сара, как я могу спать, когда я так взбудоражен! У меня голова гудит. Ты не понимаешь, каково мне. Ты даже представить себе не можешь, как у меня расходились нервы…
– Ты говоришь совсем как она. – Сара вылетает в холл, по пути чуть не сбив с ног Розу.
Роза, по-видимому, с каждым днем принимает все больше таблеток. То ли она увеличивает дозу, то ли Эд более пристально следит за ней. Ночью он слышит, как она встряхивает пузырьки в ванной. Видит, как она крадется к себе – принять таблетки. Они уводят ее в фантазии, нескончаемые семейные воспоминания, причем поколения у нее путаются. В ее рассказах она всегда дочь или племянница, моложе всех. И всегда, вот ведь странность, единственный ребенок в семье. Как сестру, ни родную, ни двоюродную она, похоже, себя не помнит. В ее памяти она одинокая, единственная представительница своего поколения, такая же одинокая, как и теперь. Эда это тревожит. Он резко ее одергивает, и Сара – позже, когда они моют посуду, – шипит на него:
– Пусть ее! Какая разница!
– Что значит, какая разница? Она принимает наркотики.
– А что ты можешь сделать? Ей восемьдесят семь.
– Дело не в возрасте. Это не естественное слабоумие, а лекарственное одряхление! – он понижает голос. – И принимает она их мне в отместку. Потому что я не предложил ей переехать к нам.
– Ну нет. И вовсе она не мстит тебе. Вечно у тебя заговоры на уме. Соберись, нельзя же так раскисать.
В воскресенье они отправляются в Джорджтаун посмотреть фильм. Бессвязную картину о Гертруде Стайн и Алисе Токлас. Фильм из тех, где камера перемещается из одной старой усадьбы в другую, парит над полями южной Франции, нависает над последками пикников. Из тех, какие Эд терпеть не может, потому что они никуда не ведут. Топчутся на одном месте. Старые авто в них куда интереснее персонажей.
Саре фильм нравится, и Эд рад: надо же и ей получить хоть какое-то удовольствие, она его заслужила – чего только она ни натерпелась за эту неделю и от него, и от Розы. Экран заливает сначала предзакатное солнце, затем лунный свет. Гертруда и Алиса молчат, смотрят друг на друга.
– И каков ответ? – наконец прерывает молчание Алиса.
Долгая пауза. Эд смотрит на часы, поднимает – и очень своевременно – глаза и видит: Розу качнуло вперед.
– Ма? – шепчет он. – Ма? Сара? Что случилось?
– Надо вызвать скорую, – говорит Сара, и на них оборачиваются трое зрителей. – Поднимите ее. Надо пойти позвонить.
– Нет, не трогайте ее! – вопит Эд.
– Хорошо, тогда жди с ней здесь, пока я буду звонить.
Он смотрит на мать, она потеряла сознание, дыхание ее еле различимо в мерцании киношного лунного света.
Эд с Сарой следуют за скорой в своей машине, в приемном покое Эд, по меньшей мере, четыре раза рассказывает, что случилось.
– Она просто повалилась вперед в кресле, – сообщает он сестре приемного покоя.
Розу увозят на каталке.
Сара несет Розину сумку, массивную, черную в форме трапеции с короткими круглыми ручками.
– Я полагаю, тут не обошлось без этого, – и Сара вручает сестре два оранжевых пузырька с Розиными лекарствами.
В эту ночь Эду мерещатся шорохи, он внушает себе, что слышит, как скрипят ступеньки, закрываются дверцы – можно подумать, дом шевелится сам по себе, а половицам не терпится размяться. Роза в больнице – ей делают анализы, врач обеспокоен.
– Она превысила дозу перкодана, – объяснил доктор Инг. – Наверное, сбилась со счета.
– Она принимает его не один год, – сказал Эд.
– Да, у нее уже выработалась зависимость.
Эд возмущен: как Инг мог такое сказать. Кровь бросилась ему в лицо.
– Я должен позвонить Генри, – это Эд говорит Саре сейчас, она лежит рядом и тоже не спит.
– Я думала, ты собирался позвонить ему утром.
– Нет, нет, – стонет Эд. – Иначе я всю ночь не найду себе места.
Ничего не попишешь – придется позвонить брату. А с братом и при обычных-то обстоятельствах говорить нелегко. С его англофильствующим братом – ревностным шеф-поваром, менеджером Оксфордского отделения «Лоры Эшли». Издателем тоскливых поэтических книжонок-миниатюр.
– Ну так позвони, – Сара берет телефон с тумбочки, кладет Эду на грудь.
– У меня здесь нет его номера. Надо спуститься в кухню, достать Ролодекс [92]92
Ролодекс – вращающийся каталог, на его карточки заносят деловые телефоны.
[Закрыть].
Эд тяжело поднимается с постели, топает по лестнице вниз. Чуть не сразу встает и Сара, накидывает мужнин халат и спускается вслед за ним.
Они сидят за кухонным столом, на нем – разрозненные страницы «Таймс», желтый блокнот, один из тех, куда Эд записывает текущие дела, и пучок почерневших бананов: Сара собиралась печь банановый хлеб.
– Генри, привет, – говорит Эд. – Привет. Очень плохо слышно. Это Эд.
– Боже правый, что случилось? – кричит Генри. На скулах Эда заходили желваки. Отрицать не приходится, он почти никогда не звонит Генри, тем не менее он уязвлен: с какой стати Генри с ходу делает вывод, что стряслась беда – иначе с чего бы Эду ему звонить. И, конечно же, вывод этот преподносит с немыслимым британским выговором. Все свои англицизмы Генри черпает из книг, вот и сейчас он разохался – чем не диккенсовский персонаж, правда, не без бруклинских обертонов. – Боже милостивый, – чуть не рыдает Генри, – О бедная мать! Бедная мать! Что же нам делать?