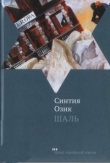Текст книги "Семья Марковиц"
Автор книги: Аллегра Гудман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
– Банковские сертификаты – это хорошее, солидное вложение капитала, – говорит Эд.
– А к-к-как же штрафы? – перебивает его Генри.
– Ну и что что штрафы. Штрафы незначительные, она не понесет никаких…
– А что, если вложить деньги и туда, и сюда? Или учредить фонд… – предлагает Сара.
– Не лежит у меня душа к фондам, и я вам объясню, почему. То, что они именуют продуктом, – растолковывает Эд, – это пакет, наиболее выгодный фондам, а все, что они именуют…
– Вон! Вон! Все – вон! – взрывается Роза. – Мочи моей нет вас слушать.
– Может, ты хочешь перенести разговор на другой день? – Сара – само сочувствие.
– Нет, – рявкает Эд. – У меня нет другого дня.
– Я хочу поговорить с Диком. Без вас, – это Роза им. – Пожалуйста, выйдите. Прошу вас.
Они мнутся. Сара уводит их к выходу.
– И где прикажете нам ждать – на улице? – ворчит Эд.
Роза с Диком остаются наедине. Он подсаживается к ней.
– Роза, – говорит он. Берет ее за руку. Придвигает к ней большую стеклянную конфетницу, протягивает ей ириску. Она разворачивает желтый целлофановый фантик, кладет ириску в рот. Но стоит ей распробовать конфету, как из глаз у нее льются слезы: уж очень ириска вкусная. Она и забыла ее вкус.
– Не хочу я этих денег, – говорит она.
– Знаю. – Дик ее понимает. У него прямодушные синие глаза, высокий купол лба, розовый, с легкой россыпью веснушек. – Но он оставил их тебе, сама знаешь.
– Мы оставили деньги друг другу, – говорит Роза. – Разве не так?
– Вот-вот. В завещании он так и написал.
– Откуда я знала, что у него есть деньги, – Роза свертывает и развертывает фантик.
– А кто знал? Никто.
– Ну а куда пойдут эти деньги потом? – огорашивает она его, что-то припомнив.
– Деньги? По завещанию, после тебя деньги перейдут детям.
– Детям?
– Ну да. Ты, конечно же, можешь распорядиться ими, как тебе угодно.
– Не хочу я ими распоряжаться, – говорит она горько. Ириска тает на языке. Во вмятинке образовалась дырочка, ириска становится все слаще и слаще. – Я хотела бы поехать в Иерусалим. Хоть разок на него посмотреть. Хотела бы снова съездить в Париж.
– Разумеется, почему бы тебе не поколесить по свету.
– Сил нет – вот почему.
– Но со временем…
– Вот если б по морю. – Ей вспоминаются та фантазия ли, мечта ли, тот замысел – поплыть сквозь льды, а там и в Атлантический океан. Она займет одну каюту, Эстер – такую же напротив. – Вот если б пароходом, это я могла бы, – говорит она.
– Что тебе сказать, капитал ты будешь тратить, – Дик передвигает туда-сюда бумаги на столе. – Но живем-то всего раз. Я так на это смотрю: хочешь – сохраняй ликвидность, хочешь – бери из капитала, когда тебе заблагорассудится.
– Нет, этого я не могу, – говорит Роза.
– Да почему? Деньги твои, можешь с ними делать, что угодно.
– Даже новое завещание написать?
– Естественно. Как только тебе захочется написать завещание, пиши.
– Я за банковские сертификаты, Генри – за облигации, – Эд, едва они садятся в такси, снова за свое.
– Мы хотели, чтобы ты тратила проценты, – говорит Генри.
– А капитал бы не трогала, так у тебя всегда будут деньги, – говорит Эд. – А ты что делаешь? Вкладываешь деньги в Фанни-Мэй, будешь тратить и проценты, и капитал, и останешься ни с чем.
– Эд, – урезонивает его Сара с переднего сиденья.
Роза сидит сзади, зажатая с двух сторон сыновьями. Они ее до смерти запугали: тычут ей в нос то тот, то этот вариант.
– Ма, как ты не понимаешь, – наседает Эд. – С облигациями дело обстоит так: ты получаешь проценты, а потом, когда срок облигации выходит, первоначальный вклад возвращается к тебе. Если же ты вкладываешь деньги в фонд, так этот фонд, он покупает закладные, поняла? Ты получаешь деньги назад по мере того, как заемщики выплачивают свой долг, но в конце ты не получишь крупной суммы – не получишь ничего. За это время, пока заемщики будут расплачиваться по ипотеке, все деньги к тебе возвратятся. И если потратила деньги, которые тебе выплачивали, у тебя ничего не останется на потом. Вот так вот – все конец.
В тряской машине Роза не выпускает сумки из рук, глаз не открывает. Странные обрывки снов мечутся у нее в голове. Вот она лежит в скорой, притороченная к носилкам, ее мужья сидят по обе стороны носилок, один, ужасно суровый, поучает ее, другой – ноет и нюнит. Она открывает глаза, видит какие-то пятна, видит сыновей, видит обоих мужей.
– Прекратите! Прекратите, вы все! – кричит она.
Они молча помогают ей выйти из машины. Так же молча поддерживают ее, пока она поднимается по лестнице. Сара приносит Розину сумку в спальню.
– Почему бы тебе не снять грацию? – спрашивает она Розу. – Не прилечь?
Гладкие простыни ласкают кожу. В квартире ни души. Дороти убралась вместе со своими спортивными костюмами, дети до завтра не появятся.
Ночью она встает, надевает халат, тапочки. Расхаживает по пустой квартире, включает везде свет. Смотрит на свои вещи, на каждую словно в последний раз. Поправляет фотографии мальчиков в их матросских костюмчиках. Разглядывает вышитых крохотными стежочками птичек. Подносит к свету фотографию Бена, на этой фотографии он очень суровый и старый. Он бы не одобрил ее решение вложить деньги в Фанни-Мэй. Сказал бы, что это неосмотрительно. Она складывает клетчатый плед Мори, трогает его напечатанные крупным шрифтом библиотечные книги в прозрачных пластиковых библиотечных обертках. Мори часто повторял: «Деньги? Они для чего – чтобы получать удовольствие». Все это время он откладывал сотню здесь, тысячу там на банковских счетах на мелкие суммы. Бен тратил деньги на вещи существенные: дом еще старой постройки в Бруклине, машину, мебель, колледж для Эда и Генри. Мори ничего очень дорогого никогда не приобретал. Что касается Розы, ей и думать о деньгах противно. Они ничего не смыслила и не смыслит ни в математике, ни в деньгах. Красоту – вот, что она любит, вот оно как.
И тут она спохватывается: она кое-что запамятовала. Есть кое-что, что необходимо сделать. Она подходит к секретеру, где у нее лежат письменные принадлежности. Там еще хранится ее почтовая бумага, старые наклейки – «мистер и миссис Б. Марковиц». Она не поменяла фамилию, даже когда вышла замуж за Мори. Слишком долго она была Розой Марковиц, чтобы менять фамилию, мало того, фамилия Мори – Розенберг, а зваться Розой Розенберг – нет уж, увольте. Увольте. Она вынимает любимую почтовую бумагу, кремовую, с кораллового цвета розочкой в верху страницы. Берет шариковую ручку, исписывает бумагу тонко выведенными строчками. Буквы крупные, круглые, расстояние между строчками – и снизу, и сверху – большое. Кружочки в «а» и «о» она сверху не смыкает, точно это миски, которые позже предстоит наполнить
ЗАВЕЩАНИЕ, – пишет она на верху страницы.
Слава Богу, я еще в здравом уме, и хотя телом ослабла, я все еще переживаю потерю моего дорогого мужа, все еще потрясена, потому что его оторвали от меня как раз тогда, когда уверяли что возвращают к жизни.
Все мое состояние, если что останется в Фанни-Мэй, я завещаю не моим детям и не дочери Мори, Дороти, дурных чувств я к ним я не питаю, но я решила отдать деньги туда, где они больше всего нужны. Мой сын Эдуард, известный профессор по Ближнему Востоку, человек он хороший, но целиком занят своей карьерой, иностранными делами, и ни на что другое времени у него не остается. Он добрый, но сосредоточенный на себе. У него большие успехи и много статей, и он стоит на своих двух ногах. Мой сын Генри теперь работает на артрынке в Калифорнии. Он бросил преподавание ради бизнеса, но все еще не женился. У меня сердце разрывается оттого, что он холостяк, но он так и не женится. Живет для себя одного, а что это за жизнь?
При этом, если мой сын Генри в течение пяти лет женится, я завещаю его жене все мои украшения, кроме гранатовой броши, которую я оставляю моей дорогой соседке Эстер Рабиновиц. Если же он не женится, тогда пусть все мои украшения перейдут к моей любимой невестке Саре.
Что касается Дороти, у меня нет к ней зла, но я не могу простить ей, что своим приездом она свела отца в могилу.
Все мои деньги и вещи пойдут Сиротскому приюту для девочек в Израиле, фонду для невест, чтобы подготовить их свадьбу и помочь устроить еврейский дом. Я тоже была сиротой и знаю, каково это, когда тебя отсылают в чужую страну.
Единственное исключение – мой дневник, его я оставляю моей дорогой Саре, потому что она писательница. Хоть дневник и не докончен, она знает, что с ним делать.
Роза исписала шесть кремовых страничек. Силы ее на исходе. Она встает из-за стола и возвращается в спальню. Но стоит ей лечь в постель, как ее осеняет: она что-то упустила. Но что? Она мучительно напрягает память, пытаясь представить, что бы это могло быть, в голову ничего не приходит. А ранним утром, еще до рассвета, она просыпается и видит, что с фотографии на стене на нее сурово устремил взгляд ее муж Бен. Ей чудится, он не спускает с нее глаз. Она кидается назад к письменному столу. Дополнительное распоряжение, – пишет она.
Не могу я также забыть и папину диссертацию, которая не получила признания.Я оставляю ее Саре, пусть она ее переведет и опубликует, как сочтет нужным, потому что она сможет оценить ее научность. Когда Бен умер, я собиралась перевести ее ради его памяти, но до моей встречи с Мори в моей жизни были слишком большие трудности, а потом Мори хотел, чтобы я тратила время на другое, он считал, что пока живешь, надо радоваться жизни, а не тратить время на мертвых. Я все равно еще надеялась перевести ее, пока у меня были силы, но в последние годы, когда он болел, оказалось, что сил нет. И Мори в этом не виноват, просто такая у него была натура. При многих его других качествах, он был не ученый.
Она читает завещание вместе с дополнением вслух и облегченно вздыхает. Не то чтобы она почувствовала себя лучше, просто ей стало легче оттого, что она все записала. Мори практически ничего не записывал. Никогда не писал писем, открыток и тех не писал. А вот Розе необходимо записывать, что она чувствует, что думает – для детей. Мысль, что ее забудут, ей невыносима. А уж одобрят ее завещание или нет, об этом она сейчас думать не хочет: ее дело написать, а они и знать ничего о нем не будут еще долгие-долгие годы. Она ни слова о нем ни проронит.
Артрынок
пер. Л. Беспалова
Прохладным калифорнийским вечером Генри Марковиц закрывает Галерею изящных искусств Майкла Спивитца. По четвергам галерея работает до десяти в надежде охватить фланеров, вышедших на вечерний променад. Туристы наносят песок с пляжа и капуччино-баров на открытом воздухе. Песок и купальники – это Генри нож острый, но, как говорит Майкл: такова жизнь, иначе искусство в Венисе не продать. Генри с трудом сдерживается: его то и дело подмывает дать этим посетителям от ворот поворот. Во всяком случае, босым. Босых ног, вот чего он на дух не переносит, – что они себе думают, у нас как-никак не пляжный киоск, а галерея, где выставлены работы весьма значимых художников XX века. У нас тут и шагаловские гравюры, и подписные литографии Дали. Больше всего продается литографий, зато все они подписные. Так что следовало бы проявлять, считает Генри, хоть какое-то уважение к этим крупицам подлинности.
Он подтирает пол большой шваброй, которую хранит в чулане. У них есть уборщица, но он ничего не может с собой поделать. Пять лет назад ему и в страшном сне не приснилось бы, что он подметает галерею в Венис-бич. Когда он остановил свой выбор на артрынке, ему виделось, что он будет заниматься антиквариатом: каталогизировать, вести переговоры с коллекционерами и музеями в обшитых панелями комнатах и, конечно же, выступать как эксперт. С его-то докторской по философии, двумя монографиями, рядом статей о старинных английских и французских книгах и гравюрах. Таким он видел свой путь, пока проходил переподготовку в Уортонской школе [9]9
Уортонская школа – первая школа университетского типа, в которой преподают основы ведения бизнеса (менеджмент, бухгалтерия, финансы). Основана в 1881 г.
[Закрыть], после того, как оставил позади отказ от продления контракта, решение конфликтной комиссии не в его пользу и осознал – так сказал его психотерапевт, – сколько разных путей открывается перед тобой, если ты и впрямь готов пуститься в путь. Но одно из другого вовсе не вытекало. Гравюры и рукописи с «Сотбис» к нему на экспертизу не посылали. Работу в лондонском «Кристис» он получил всего на один сезон. Твердо рассчитывать он мог лишь на место помощника менеджера в «Лоре Эшли» [10]10
«Лора Эшли» – фирма, производящая мебель, предметы обихода, одежду, с сетью магазинов по всему миру. Основана английским дизайнером Лорой Эшли (1925–1985) и ее семьей.
[Закрыть]у братнина друга в Шорт-Хиллс [11]11
Шорт-Хиллс – городок в штате Нью-Джерси, неподалеку от Нью-Йорка, там, в основном, селятся те, кто работает в Нью-Йорке.
[Закрыть], но это не для него.
– Это почему же? – наседает на Генри Эдуард, его брат.
– Почему? Да потому, что «Лора Эшли» не имеет никакого отношения к искусству, – отвечает Генри.
– Это розничная торговля, – говорит Эд, жестко и без обиняков.
– Эт-т-то дамские н-н-н…
– Работа есть работа, – говорит Эд.
– Наряды, – выдавливает наконец Генри.
– Ну и что, – говорит Эд, неизменный прагматик. – Я полагал, ты хочешь жить в Нью-Йорке.
– Шорт-Хиллс – не, не, не Нью-Йорк, – вопит Генри. И от дальнейших дискуссий отказывается.
Менеджер у Майкла Спивитца – вот какой путь открылся ему. Не Нью-Йорк, зато искусство. И Генри старается заполучить для галереи подлинник современных художников. Сейчас он готовит выставку потрясающего скульптора не из самых известных, скульптор этот работает в бронзе: отливает формы, похожие на проросшие зерна, из которых разворачиваются побеги, или крохотных человечков – фигурки людей наподобие земных гномов, нарождающихся из одного корня. Генри распростился с Нью-Йорком, сорвал с насиженного места престарелую мать, перебрался в Венис научился водить машину по Лос-Анджелесской скоростной автостраде, хотя одному Богу известно чего ему это стоило, но так и застрял на артрынке.
Он уже выключал свет, когда в стеклянную дверь забарабанили. Барабанила женщина, вид у нее был взбешенный, волосы распатлались. Генри жестами показал, что галерея закрыта, она жестами же показала, что ей необходимо с ним поговорить, ну он ее и впустил. Как только он отворил тяжелые стеклянные двери, галерею заполнил ее голос, исступленный, с сильным израильским выговором.
– Мой сын! Мой сын в беде!
– Несчастный случай? – спрашивает Генри.
– Да! Да, несчастный случай!
– Где он? – Генри вглядывается в темную улицу.
– Это не авария. Он пропал.
– Не понял, – говорит Генри.
– Вы понимаете иврит? – спрашивает она.
Он качает головой.
– Меня зовут Амалия Бен-Ами, – говорит она. – Я остановилась в «Венис-сэндс». Приехала несколько недель назад из Хайфы с сыном, а теперь он пропал.
– Ваш сын потерялся? Вы позвонили в полицию?
– Да, да. Они ничего не могут делать. Мне нужны вы, чтобы мне помогать.
– Я? – Генри – он в хлопковой индийской рубашке – рассматривает израильтянку. Она же обвешана всевозможными украшениями, при ней огромная кожаная сумка. То, что она говорит, похоже на какую-то бредовую фантазию, но говорит она с расстановкой, с нажимом, так, словно имеет дело с недоумком, который не может уследить за смыслом ее слов, – вот что странно.
– Полиция не может мне помогать, – говорит она. – Моего сына взял Майкл Спивитц. Мой ребенок у него.
– У Майкла Спивитца? – переспрашивает Генри – он опешил.
– Дайте мне вам все объяснять. Ваш наниматель взял моего сына. Он его держит.
– Не может такого быть, – говорит Генри.
Тут она разражается слезами, рыдает отчаянно, точно учительница, которая тщилась объяснить ученикам элементарную задачку, а они так ничего и не поняли.
– Он украл его, – рыдает она, огни проезжающих машин играют на ее раскосмаченных, пламенеющих от хны волосах.
– Да нет, это невозможно, – говорит Генри. – Ерунда какая-то. Мой наниматель не крадет детей.
– Я сказала правду, – говорит она. – У вас есть ко мне недоверие?
– Я ничего не могу понять, – увещевает ее Генри. – Вы расстроены, вы…
Она опускает свою поместительную сумку на пол, вытаскивает из нее бумаги – паспорт, билеты на самолет, письмо на консульском бланке.
– Вот его карточка, – говорит она, протягивая фотографию загорелого, темноглазого подростка. – Его имя Эйтан Бен-Ами.
– Послушайте, – говорит Генри. – Мне пора домой. Давайте я вызову вам такси.
Она, по-видимому, совершенно убита – рыдает взахлеб.
– У вас нет доверия. – Генри ничего не отвечает. – Вы меня не слушаете.
Генри не по себе – они в галерее одни.
– Если ваш сын потерялся, вам следует обратиться в полицию, – говорит он.
– Я сказала: я была в полиции, – вопит она. – Они не помогают.
– Н-н-ну, – заикается Генри, – в таком случае ничего не поделаешь. А сейчас я должен закрыть галерею, мне пора домой. Позвольте вызвать вам такси оно доставит вас в гостиницу.
Она стоит, молчит, пауза тянется бесконечно долго. Стоит, не двигаясь. Генри уже подумывает, что надо бы позвонить в полицию. Здешние полицейские выше всех похвал. Действуют быстро и очень вежливые.
– Я хочу поговорить с раввином, – огорашивает она Генри, голос у нее жалкий.
– В таком случае я вызову раввина. – Генри опрометью кидается к своему столу, принимается названивать в синагоги, значащиеся в телефонной книге под рубрикой «Богослужебные дома». Оставляет сбивчивые послания на разных автоответчиках.
– Говорит Генри Марковиц. У меня тут одна женщина, Амалия Бен-Ами, она остановилась в «Венис-сэндс», ей нужно как можно скорее поговорить с раввином. Она с-с-сильно расстроена.
Кондоминиум Генри, вполне рядовой, белый, снаружи неприметный, но в кухоньке-каюте Генри повесил связки трав, косицу чеснока, вторую спальню заставил до потолка полками, на которых поместил свое собрание книг. В гостиной серый палас от стены до стены почти целиком застелил персидским ковром, раздвижные двери занавесил ниспадающими пышными складками портьерами и сшитым на заказ шелковым ярко-синим ламбрекеном. Стены покрыл старинными гравюрами, на почетном месте, подальше от света, так, чтобы не выцвел, повесил маленький, зато подлинный дюреровский рисунок кролика. Войдя, Генри тут сбрасывает одежду, надевает шелковый халат, напускает горячую ванну. Ему необходимо отмокнуть, необходимо закрыть глаза и изгладить из памяти этот день. Он наливает себе вина, вынимает оставшиеся со вчера кусок грудинки, свеклу и картофель au gratin [12]12
Запеченный с сыром ( фр.).
[Закрыть]. Ему, хоть он и живет один, не лень готовить. Он из тех редких людей, которым в охоту приготовить полный обед для себя. Он не жалеет времени, обдумывая аппетитные блюда, красиво сервирует стол, ставит цветы, даже если не ждет гостей. Отменная еда на отменном фарфоре, тонкий хрусталь и старое серебро для него насущны, жизненно важны. Что за жизнь без ужина? Постель без свежего белья? Дом без цветов?
Он садится в ванну, вода обнимает его. Генри рослый, полный, кожа у него розовая, кудрявые волосы уже начали редеть, вокруг глубоко посаженных глаз темные круги – по ночам он допоздна предается научным штудиям. А все оттого, что Генри не перестает следить за литературой по своей отрасли, не перестает работать над статьями, вернее, одной статьей – за полночь, в постели, обложившись подушками. Вода проникает в поры, мышцы расслабляются, он отмякает. И тут звонит телефон. Он закрывает глаза. Звонил же он ей из галереи не так давно, так нет, ей все равно неймется. Телефон звонит одиннадцать раз. Он встает, по нему струится вода, обматывает бедра полотенцем.
– Алло, мама, – говорит он.
– Я купила билеты, – сообщает она.
– Билеты на что?
– Билеты на Йом Кипур, – говорит она.
– Мама, я же тебе сказал: у меня не получится пойти с тобой.
– Я этого не понимаю, – говорит она.
– Я не могу целый день отсутствовать на работе.
– Целый день! Изкор [13]13
Изкор – поминальная молитва, читается четыре раза в год в Великие праздники (Йом Кипур, Суккот, Песах, Шавуот).
[Закрыть]. Полчаса в память папы. И Мори.
– Но, мама же, мне час ехать час туда, час обратно. Я и полдня не могу отсутствовать на работе.
– Если б я могла поехать автобусом… – говорит она.
– Ты не можешь.
– Если б я могла, я б села на автобус. Я сегодня купила билеты. И билеты, как я понимаю, возврату не подлежат.
– Мама, прежде чем покупать билеты, тебе следовало бы поговорить со мной.
– Я говорила с тобой.
– И что я тебе сказал? – Генри устал: ей хоть кол на голове теши.
– То же, что и сейчас.
– Тогда зачем ты купила билеты, раз я сказал что не пойду?
– Потому что ты должен пойти, – говорит Роза. – Один день в году ты должен оставить все дела и подумать.
– Я и так думаю о папе, – говорит Генри.
Он, и правда, последнее время много думал об отце. Они с психотерапевтом последние полтора года часами разбирались в отношении Генри к отцу.
– Ты должен подумать обо мне, вот о ком, – говорит Роза.
– Мама, я еще не ужинал, – говорит Генри. – Я совершенно измотан, весь день на ногах, вдобавок, похоже, у меня грудинка перестоится.
Утром, в галерее, Майкл говорит:
– Генри, у тебя усталый вид.
– Майкл, вечер вчера выдался хуже некуда. Сюда ворвалась какая-то тетка, искала тебя. Психопатка, не иначе, все твердила, что у нее пропал сын, что он у тебя. Я дважды чуть было не позвонил в полицию. Опасался: не ровен час – она выхватит пистолет.
– A-а, я ее знаю, – говорит Майкл. – Мне уже не одну неделю нет от нее житья. – Майкл усаживается за свой стол. – Жаль, что она тебя так напугала. – Майкл – канадец и не вполне избавился от канадского выговора, он светловолосый, высокий, стройный, с блондинистыми усами, голубыми глазами.
– Но откуда взялась эта бредовая фантазия? – спрашивает Генри.
– Не знаю. Одержимая какая-то, – говорит Майкл. – Она обрывает мой телефон. Я решил поменять номер.
– Боже милостивый, – говорит Генри, он не англичанин, но, когда волнуется, у него проскальзывают англицизмы. Он с минуту размышляет, потом говорит: – В пропаже сына она винит тебя – это ясно. Но почему? Как она с тобой познакомилась?
– Как? Да через него, – говорит Майкл. – Он живет у меня.
К лицу Майкла прихлынула кровь.
– Этот мальчик?
– Ну да, – Майкл поднимает на Генри ясные голубые глаза.
– Он у тебя? У тебя? Но почему?
– Да потому, что ему так захотелось, – говорит Майкл.
– Но ведь ему всего пятнадцать, – Генри только что не кричит.
– На самом деле шестнадцать, – говорит Майкл.
У Генри занимается дух.
– Он же совсем ребенок.
– Генри, – Майкл подходит к столу Генри, берет его за руку. – Я не удерживаю этого мальчика. У него сложные отношения с матерью, только и всего. Ну он и попросился пожить у меня.
– А что полиция? Он же совсем ребенок!
– Мы все разговаривали с полицией. Я спросил его. Они спросили его: «Хочешь ли ты вернуться к матери?» И он, к сожалению, сказал: «Нет». Он, по всей видимости, гражданин США, так что может оставаться здесь, сколько ему заблагорассудится. У него отец – американец.
– Майкл, я… я не знаю, что сказать, – говорит Генри боссу. Он покраснел, щеки его горят.
– Генри, Генри, Генри, – мурлычет Майкл покровительственно, нежно. Генри лет на пятнадцать старше Майкла.
«Святая ты простота, – говаривал Майкл в ту пору, когда они жили вместе. – Генри, Генри», – и давай его журить, давай ублажать, гладить то по шерсти, то против шерсти. Генри понадобился год, чтобы уйти от Майкла. Год, чтобы найти в себе силы расстаться с домом Майкла, где что ни предмет – произведение искусства, с его машинами, с его дивно оборудованной кухней, с его беглыми взглядами, уверенными руками, ласковым голосом с еле заметным призвуком сарказма.
Генри лежит ничком, голый, на массажном столе.
– Ну и как дела-делишки на артрынке? – спрашивает Джейсон, разминая Генри спину и плечи.
– Да как… да как… – начинает Генри.
Генри лежит на столе, застылый, как труп, его большое пухлое тело сковано. Не поддается мягким движениям Джейсоновых рук. Из головы у него не выходят мысли о Майкле и новости, так бесшабашно поведанные ему Майклом. Этот мальчик, совсем юный, живет у Майкла. Он охотно верит, что мальчик живет у него по своей воле. В таком-то доме? С таким видом, с гидромассажем, с бассейном? С винным погребом Майкла? В винах он толка не знает, зато атмосфера дома, сам Майкл… Все это кружит голову. А уж такому-то юнцу. Как он мог? Жуткие мысли, и, тем не менее, Генри не может выбросить их из головы.
– Ну и ну, вы сегодня такой зажатый, – говорит Джейсон. – Похоже, мне к вам не подобраться.
Генри смотрит на Джейсона, тревога, смятение снедают его. Не дают расслабиться. Не дают, и все тут. А ведь ему всегда так нравились красивые руки Джейсона да и сам Джейсон, такой занятный с этой его болтовней заядлого серфера, классическими чертами лица, длинными ресницами – предметом его гордости – он их неизменно подкручивает, отчего походит на одну из тех редкостных греческих статуй, у которых еще сохранились агаты в глазницах и ресницы из полосочек чеканной меди. Будь на месте того юнца Джейсон – другое дело. Конечно, вполне взрослым Джейсона не назовешь, но он и не юнец. А тому пятнадцать, шестнадцать ли – какая разница? – этот юнец, что он может понимать. Откуда ему знать, куда Майкл клонит. Генри туда пришел и ушел, пройдя, как говорится, огонь, воду и т. д. Сколько эвфемизмов существует для обозначения этой паучьей сети? Путь мятущейся юности Генри и безвинной середины его жизни запутан, как паутина.
И вот оно, не успел он доехать до дома. Вот оно – мигрень, пока он вел машину, чувствует Генри, она разворачивалась и распускалась, наподобие колоссальной Магриттовой розы [14]14
Рене Магритт (1898–1967) – бельгийский художник-сюрреалист, часто писал розы, как правило, пышно распустившиеся.
[Закрыть]в каждой пустующей полости его черепа. Он ощущает, как ее многослойные лепестки давят на уши, на глаза, на челюсть и на ту давят. Входя в квартиру, он несет этот ужасный цветок высоко и бережно, так чтобы никак его не задеть. Принимает лекарство, ложится, задернув все шторы, на кровать и смотрит, как мельтешит перед глазами калейдоскоп красок. Проходит час за часом. Издали доносятся звуки соседского телевизора, гул воздуходувки – во дворе убирают листья. Постепенно подкатывает рвота. В конце концов он засыпает.
Как ему смотреть на Майкла, если он не может не думать об этой жути? Об этом юнце в его доме. Уже несколько дней Генри избегает встречаться с Майклом глазами. А ведь Майкл столько для него сделал. Взял его на работу, хотя у него не было никакого опыта. Поверил, что у Генри есть задатки менеджера, поверил его вкусу. Поддерживал Генри, когда практически все его оставили, свел сначала с одним, потом с другим психотерапевтом. Стал в жизни Генри ведущей силой перемен, посланцем из мира за вратами науки. Вселил в него кураж, сказав: «„Открой глаза, посмотри на мир, влезь на стену [15]15
«Как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогою, и не сбивается с путей своих» (Книга пророка Иоиля 2:7).
[Закрыть]“. Отринь свою научную одержимость, начни новую карьеру. Смени сумрачные библиотечные залы на ослепительно яркое калифорнийское солнце». И Генри тянет лямку, каждый день берет себя в руки. Он ничего не говорит, но, работая, ведет спор с самим собой. Делает записи в книгах за своим столом в глубине зала. Ничего не попишешь, все мы во власти желаний, страстей, но должно ли каждое мимолетное увлечение претворять в приобретение. Генри корпит над книгами, а тем временем его гложет стыд. Кто он такой, чтобы сопоставлять страсть и коллекционерскую жажду приобретательства. В конце-то концов, чем он занимается – да тем же самым: оценивает и продает прекрасные вещи. Он смотрит на Майкла, и к гневу примешивается чувство вины. Если б только он мог отчитать Майкла. Если б мог жестко поговорить с ним, сказать: «Нехорошо так, глупо». Но они слишком близки, и не ему судить Майкла. Он в замешательстве, у него самого совесть нечиста. Когда-то и он слегка смахивал на Майкла и более чем слегка на того юнца. Они оба уживаются в нем – тигр и агнец.
На вечер в канун Йом Кипура у Генри намечен визит к дерматологу: проконсультироваться по поводу жировика. Его дерматолог Стивен Гольдвассер, живчик, чистая йента [16]16
Здесь: сплетница ( идиш).
[Закрыть], у него редеющая рыжая шевелюра, широкое мясистое лицо и нежная, как у младенца, кожа. Гольдвассер большой поклонник Ретина А [17]17
Ретин А – крем, гель для лечения бородавок, угрей и т. д.
[Закрыть].
– Пожалуй, придется его заморозить, – говорит Гольдвассер. – Вы пойдете сегодня на Коль нидрей [18]18
Коль нидрей (буквально: «Все обеты») – молитва, которую читают в синагоге в начале вечерней службы Йом Кипур.
[Закрыть]?
– На сегодня я приглашен в другое место, – говорит Генри. – Наверное, завтра пойду. У меня… у матери есть билеты.
– Да, она мне сказала, – говорит Гольдвассер. – Она была у меня в понедельник. Возьму-ка я жидкий азот и заморожу эту штукенцию. – Он уводит Генри в комнатку, где замораживает кисты и бородавки. – Сядьте поудобнее. Повернитесь сюда. Вы читали об этой женщине в «Джуиш опинион»?
– О ком…
– Немножко пощиплет. Мне нравится этот метод. Детям я говорю, что в дерматологии все равно, как в «Звездном пути» [19]19
«Звездный путь» – так называются многочисленные фантастические фильмы о звездных войнах. Есть и компьютерная игра с таким названием.
[Закрыть]и тебе и азот…
– Ой!
– …и лазерные пушки. Жировик мигом усыхает. У этой женщины, как видно, пропал в Венисе сын. Сбежал. Его нашли, но он отказался вернуться к ней. А у нее нет ни денег, ни знакомых. Федерация призвала ей помочь – поселить у себя хотя бы на Праздники: ведь ей негде жить, и сейчас она остановилась у Флейшманов. Вы знакомы с Леоном?
– Шап-п-почно, – говорит Генри.
– Как я понимаю, он помог ей по юридической части. Послушайте, давал я вам брошюру о жировых кистах или не давал? Вот как она выглядит под кожей. Видите? А вот – жировоск. Какая-то дикая история. Малец, как говорят, пошел в один из тех самых клубов и не вернулся.
Генри, разумеется, ни словом ни о чем Гольдвассеру не обмолвился. Договорился о следующем визите и ушел.
Ему не очень-то хочется идти на вечер к Майклу, но хочется не хочется, а никуда не денешься. Майклу сегодня исполняется сорок. Вот о каком приглашении он говорил Гольдвассеру. Хотя приглашение для него это отнюдь не светское, а исключительно деловое. Дела-делишки на артрынке, по выражению Джейсона. Тянущиеся часами встречи с возможными клиентами, переговоры по Сети с покупателями, юристами и перспективными источниками. От этих дел, пока описываешь круги по полутемной комнате среди шума и гама с бокалом в руке, ноют и ноги, и душа. Ну а искусство, что сказать об искусстве? Где эта ускользающая красота? Это видение жизни, эти линии, от которых не оторвать глаз. Это преображенное страдание, этот сосуд света. Искусство – его не видно нигде. Оно, как соловей в сказке Ганса Христиана Андерсена [20]20
В одноименной сказке соловей, когда император принуждал его петь по приказу, улетел.
[Закрыть], упорхнуло.
Когда Генри оставил науку, он намеревался разглядеть мир как следует. И, подумать только, каким пошлым он оказался, этот мир. А может быть, причина в том, что он слишком долго прятался от мира за университетскими стенами? А может быть, он слишком тонкокожий. Кожа у него, и правда, очень чувствительная, это и Гольдвассер говорит. В укрытии ему было куда лучше. Там он не был так неуверен в себе. Когда он перебрался на Запад, его еще ужасало все вот это вот. Люди, машины, солнце, жарящее независимо от сезона, погоня за материальными благами. Но ужас ужасом, а удовольствие, теперь он это понимает, он тоже испытывал. Особого рода удовольствие, неотделимое от возмущения. А теперь? Теперь он усталый, всеведущий и его гложут угрызения.
Когда Генри приходит на вечер, Майкл, оторвавшись от толпы гостей, кидается его обнимать, и Генри чуть было не поднимает руки, чтобы отгородиться от него. От своего блондинистого обаяшки-хозяина, можно сказать, наставника, который обвивает его изящными руками, накрывая своими мефистофельскими крылами. Для вечера Майкл снял частный мужской клуб, тут полным-полно дельцов. Музыка, вино. Замаринованное мясо на палочках. Эротические изваяния из льда, поцелуи напоказ, оглушительной громкости разговоры. Исключительно о машинах. Все это ужасно. И если б только все вертелось вокруг рекламы, работы – это куда ни шло, но вкупе это просто ужас что такое. Шумно, и шум все усиливается. Переговариваться приходится уже жестами. Льется музыка, льется рекой вино. У рояля кто-то поет. У Генри гудит голова. Вскоре головная боль развернется, как разворачивает свои лепестки бледный, распускающийся по ночам цветок. Пианист все энергичнее колотит по клавишам. Официант под звук фанфар вкатывает именинный торт гигантских размеров на платформе на колесиках, из торта выскакивает юнец в набедренной повязке.