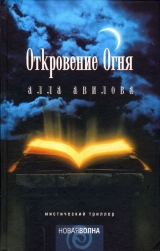
Текст книги "Откровение огня"
Автор книги: Алла Авилова
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Старец по-прежнему смотрел на Никиту и молчал.
– Я к тебе пешком пришел с Кавказа, а ты на меня как на пустое место смотришь! Что ж ты за человек, старый? – возмутился Никита.
Старец закрыл глаза.
– Слушай, старый, бабка на тебя надеется. Самой ей до тебя не добраться, она меня послала. Отпусти ей тот грех, Христа ради, – взмолился Никита. – Дай знак рукой, коль отпускаешь. Рукой-то ты двинуть можешь…
Старец сидел как каменный. У Никиты внезапно сжало грудь. Задыхаясь, парень бросился в сени, из них – на свежий воздух. Там он с трудом перевел дух, но дышать свободно не мог – грудь так и осталась в тисках, они лишь чуть раздвинулись. Ноги повели Никиту в лес. Он брел бездумно, петляя между соснами и стараясь порывистыми вдохами разжать тиски. Когда дыхание наладилось, он обнаружил, что заблудился. Развернулся – и пошел обратно, в намерении выйти к Латуре. Шел по наитию, долго шел – и снова вышел к скиту.
Никита вспомнил о неполучившемся разговоре с Латурским старцем и почувствовал злость. «Нет, я от тебя не отступлю!» С этой мыслью он снова вошел в домик отца Леонида. Дверь в горенку оставалась распахнутой. На лавке, что виднелась в проем одним краем, Никита снова обнаружил старца – только теперь он не сидел, а лежал. Парень прошел через сени и, ступив в горенку, остановился от неожиданности: отец Леонид лежал плашмя, как покойник. Его правая рука, отодвинувшаяся в сторону, безвольно свисала с лавки. Никита подошел к старцу и убедился: он и правда преставился. Парень сделал непроизвольно шаг назад, и тут ему бросилась в глаза книга, высовывшаяся из-под лавки, прямо под рукой покойника. Никита шагнул к ней, взял ее в руки, открыл, но смотреть не стал. «Бежать!» – ударило ему в голову. В следующую минуту парень был уже на крыльце. Книгу он спрятал под рубахой – с мыслью обменять ее на хлеб у чернецов. Монастырей в Рязанской земле хватало, охочих до книг монахов – тоже.
Днем Никита отсыпался в лесу и видел во сне старца. Лицо у отца Леонида было помолодевшим, смотрел он бодро и добродушно.
– Ты ведь умер! – воскликнул Никита.
Старец кивнул, словно подтверждал хорошую новость.
– Ты теперь будешь везде за мной ходить?
– С чего бы это? – отозвался отец Леонид приятным голосом.
– Не ходи за мной! – взмолился Никита. – Ты ведь из-за книги пришел? Хочешь, я ее обратно отнесу. Сам не знаю, чего я ее взял.
– Знаешь, – сказал, смеясь, старец. – Чтоб на хлеб обменять.
– И что ты со мной теперь сделаешь?
– С собой уведу.
– Куда? – в ужасе закричал Никита – и проснулся.
Был день. Никита узнал свою полянку. В глазах у него зарябило от куриной слепоты.
– Иди за мной! – услышал он сзади голос.
Никита вскочил, как ужаленный, и посмотрел назад. За деревом, под которым он лежал, стоял отец Леонид. «Или я все еще сплю?!» Все вокруг было привычного вида, имело верный цвет, обычный запах. Никита, не спуская глаз со старца, дотронулся до ствола – он был твердый, шероховатый. Похоже, и старец был во плоти. Его лицо розовело, глаза смотрели живо, только ряса сбивала с толку – холст такой ослепительной белизны Никита еще никогда не видел.
– Ты мне снишься или ты наяву? – спросил он отца Леонида.
– Я это не различаю, – отвечал старец. – Пойдем.
– Куда?
– Я тебе полянку получше покажу. Она недалеко. К следующему утру туда доберешься. Выроешь себе там землянку, обустроишься, книгу мою читать будешь.
– Ты покойник, – в ужасе прошептал Никита. – Ты меня теперь своей книгой замучаешь…
– Пойдем, пойдем, – поторопил Никиту отец Леонид. – Я тебя выведу к Латуре. Переплыви ее и иди к Богучайскому лесу. Там я тебя встречу.
Никита сорвался с места – и бегом от старца. Он бежал словно невесомый, долго бежал, пока не споткнулся. Упал – и проснулся на той же поляне, только теперь она была потемневшей. Смеркалось. Никита поднялся с земли и услышал за спиной голос:
– Скоро будет совсем темно, не мешкай. Пойдем к реке.
Не оборачиваясь, Никита попросил:
– Отпусти меня, старый. Мне обратно к бабке надо.
– Не надо тебе к бабке. В Богучайский лес тебе надо.
– Ворованную книгу всю жизнь читать! – в отчаянии крикнул Никита.
– Не ворованную, а дарованную, – услышал он спокойный голос.
Никита резко повернулся к старцу.
– Смеешься?
– А ты разве не знаешь, что она тебе дарована? – мягко спросил отец Леонид.
– Кто – я не знаю?! Издеваешься! Я-то все знаю!
– Раз ты всезнаешь, тогда тебе должно быть известно, кто ее у лавки для тебя положил.
Лицо отца Леонида было в сумерках темным, но Никита видел каждую его черту.
– Ты?!
Отец Леонид кивнул.
– Напрасно ты, – смущенно сказал Никита. – Я ее читать не смогу. Я только крупные буквы разбираю.
– И мелкие разберешь. Ты ведь крупные разбирать сам научился? И мелкие научишься. Я помогу.
– Посмотришь сейчас на тебя, старый, – ну прям сама доброта. А ты ведь не добрый. Бабку мою ты не пожалел…
– Был я уже у твоей бабки, успокойся, – сказал примирительно старец Леонид.
5
«Зажги костер и вникни в откровение огня.
Узри незримое, вглядевшись в зримое.
Прозрение – это полнота зрения».
Русские считают свою древнюю литературу великой, западные слависты называют ее литературой великого молчания. Бесспорно то, что большую ее часть составляют переводы византийских текстов, разошедшиеся по огромной стране в многочисленных списках. Их качество оставляет желать лучшего: они грешат массой неточностей, произвольными сокращениями, упрощением понятий.
Обращение с текстами в старой России было произвольное. Не только тщательность переводчиков, но и переписчиков оставляла желать лучшего. Списки всегда имеют разночтения, и основное занятие славистов – их исследование. Если несоответствия значительны, можно говорить о разных редакциях. Выявление неизвестной редакции известного текста – уже событие. Шанс обнаружить неизвестный текст настолько мал, что трезвые исследователи его просто исключают. К их категории я не принадлежал.
В 70-е годы, когда я был студентом, самой интересной личностью на филфаке Амстердамского университета считался профессор Рональд Глоун. Он вел семинар по древнерусской литературе. Американец, женатый на голландке, сын австралийца и гречанки, этот человек с перекрестка культур появился на славянском отделении незадолго до меня и успел оживить его своим темпераментом. Его популярность совершенно утвердилась, когда он разместил у себя в кабинете свое собрание старых славянских рукописей и разрешил ими пользоваться студентам.
Прежде у нас работали с фотокопиями и микрофильмами. Рукописи имелись только в Лейденском университете, там их было несколько десятков. Рональд Глоун предоставил в общее распоряжение около ста манускриптов, в числе которых были списки XVII и XVIII веков. Выставив в двух шкафах толстые тома в кожаных переплетах, Глоун возбудил у студентов-славистов небывалый прежде интерес к бедной шедеврами древнерусской литературе. Наверное, сами книги не вызвали бы ничего, кроме простого любопытства, если бы профессор не представил сероватую старорусскую словесность как загадку, как парадокс. Ее недостатки он обращал в ее пользу и научил нас относиться к ее убогости как к таинственному отсутствию совершенства. Трое студентов на нашем курсе решили писать дипломную работу по древнерусской литературе – абсолютный рекорд в истории нашего отделения. Я был в их числе.
Древнерусскую литературу сравнивают с библиотекой провинциального византийского монастыря. В ней преобладают богослужебные, назидательные и догматические тексты. Нерелигиозные произведения можно сосчитать по пальцам – и никаких следов авторов, шедших против течения. Писатели были обязаны самоустраняться и следовать образцам – так называемому канону.
Канон вырабатывался в монастырях. Там писалось и переводилось большинство древнерусских произведений. Игра ума не поощрялась, индивидуальность расценивалась чуть ли не как порок, воображение было ничем иным, как ложью. Личность проявлялась не в замысле, не во взглядах, не в стиле, а во всякой мелкой отсебятине, вроде собственных замечаний, воображаемых деталях, самовольных акцентах и т. п. Таланты обнаруживали себя в иконописи, архитектуре, но не в словесности.
– Имейте в виду, – внушал нам Глоун, – то, что мы не располагаем своеобразными сочинениями, не доказывает, что их не было. До того как любитель старины Мусин-Пушкин не натолкнулся в одном непримечательном сборнике на «Слово о полку Игореве», никто и не заикался о вероятности произведений такого художественного уровня в древнерусской литературе. В старину из ряда вон выходящее задвигалось в угол и легко выпадало из литературного обращения. Сохранилось то, что чаще переписывалось. А что чаще всего переписывалось? Конечно же, полезные, с точки зрения церкви, тексты. Но должны были существовать и другие. Сочинения русских классиков XIX века отличают напряженная внутренняя жизнь героев и широкое осмысление жизни. Невозможно, чтобы подобное как-то не выразилось раньше, уж хотя бы в XVIII веке.
Раз на семинаре Глоун сказал:
– Представьте себе, вы листаете ничего не обещающую рукопись и вдруг подскакиваете на стуле: что это?! В скучную драму под названием «Славистика» время от времени вмешивается Исключительный Случай, и тогда один из нас, библиотечных наседок, не обязательно самый знающий, умный или усердный, вдруг обнаруживает, что он – Исключительный Удачник. Чем хорош всякий случай, это своей демократичностью: он может выбрать кого угодно.
Глоун посмотрел на меня – не знаю, случайно ли или с умыслом, и я покраснел, словно попался с поличным. Я потому и сидел перед ним, что верил в этот Исключительный Случай. Мало того, я ожидал, что он выпадет именно мне. Это была не просто мечта студента – это была глубокая, подсознательная уверенность. При всем своем здравомыслии я не мог освободиться от нее и спустя годы после университета, когда отошел от науки. Она меня в конце концов туда вернула, привела в Москву – и оправдалась! Правда, я обнаружил не то, на что был нацелен – здесь меня мое предчувствие обмануло.
Логично предположить: писателям-оригиналам было легче всего себя проявить в наиболее удаленном от церковного диктата жанре – например, в бытовой повести. Этим жанром я и стал заниматься. Получилось так, что я обнаружил шедевр на другом полюсе словесности. А «оригиналом» оказался монах. Глебов был прав: «Откровение огня» являлось автографом последнего кенергийца, отца Михаила. Снимались ли когда-либо с него копии? Все, что я знал об этом манускрипте, заставляло думать, что он существовал в единственном экземпляре. Оказалась верной и догадка Глебова, что «кенерга» – это искаженная «энергия», а точнее – византийская «энергея».Насколько рассуждения об энергеесближали захарьинских затворников с исихастами, судить было не мне. Я мог только отметить, что эхо учения Григория Паламы в этой книге раздавалось, и оно было здесь не единственным. Меня поразила созвучность многих высказываний в «Откровении огня» с идеями Глебова о раннехристианских «вольнодумцах», религиозное чувство которых, как он считал, отличало сознание собственного достоинства.
Традиционная христианская символика присутствовала в «Откровении огня» минимально, и, я думаю, попади этот текст к консервативному Гальчикову, он бы не признал за ним православной принадлежности. Иная реакция тоже возможна. Что бы ни утверждал мой знакомец из Московской патриархии, игумены Благовещенского монастыря берегли кенергийскую рукопись как святыню – с чего бы они хранили у себя в тайнике «бесполезную книгу»? Возможно даже, что Глебов прав и в третий раз, полагая, что учение Евлария признавали сакральным также какие-то влиятельные лица в кругах высшего духовенства. Можно было ожидать неоднородность реакции и теперешних иерархов на кенергийский манускрипт. Впрочем, не это меня больше всего занимало, когда я читал у себя в общежитии «Откровение огня». Что стянуло на себя мои мысли, это главная тема книги: в ней больше всего говорилось об одиночестве – точнее, о его скрытом значении. С жизненными обстоятельствами оно в этой книге не связывалось.
Самоанализ – современное массовое хобби – был широко распространен и в «препсихологические» времена: как христианское покаяние. Особенно в нем преуспевали монахи. Терзаемые сознанием собственной греховности, они постоянно держали словно под лупой свои мысли и чувства, свойства характера, поведение: то есть свое «я». Оно было помехой для спасения, ради которого эти люди оставили мир. Больше всего они хотели бы оставить в одночасье и свое «я», но этот омут страстей, самомнения и себялюбия не отпускал их души, рвавшиеся ввысь, к Отцу, и в своей оторванности от Него они чувствовали одиночество.
Это чувство было хорошо известно и автору «Откровения огня», отцу Михаилу, но этим и ограничивалась его похожесть на собратьев. В отличие от них, последний кенергиец не считал «я» препятствием для душевных взлетов, что и взялся поведать некоему «отроку». Выбор собеседника был понятен: маленькое, невесомое, детское «я» в отрочестве набухает, тяжелеет и наполняется значением отдельности. В новом самоощущении много тоски по прежней слитности со своими родными, своей средой. Подростки и монахи близки друг другу в переживании одиночества. Само собой разумеется, что в этом и те, и другие хотя бы частично близки всем другим.
В мертвой тишине скованного строгим распорядком общежития МГУ через «Откровение огня» до меня донесся отзвук бесед, которые велись в келье захарьинских затворников. Разговор шел о «тайнах»,что следовало понимать в традиционном мистическом значении слова – как невидимое, таящеесяв видимом, как несказанное, скрытое в сказанном.
«Вот тебе слова: однажды… единственный… один… одинокий… единство. Что можно о них сказать? Не знаешь? Я скажу тебе: они соединены. За ними – одно».
Соединенность явлений была общим знаменателем «тайн», которые отец Михаил открывал отроку, и первое, чему тот должен был учиться, – это ее чувствовать. Связи были чаще всего подспудными и таились на разных глубинах. Те же закономерности были характерны и для текста кенергийской рукописи. Логика высказываний была не всегда ясна сразу. Кроме того, автор сознательно оставлял между ними пустоты, которые читатель должен был заполнять для себя сам. По стилю «Откровение огня» было похоже на поэму в прозе. Его легче было бы читать, если бы текст был разбит на короткие строчки.
Вот тебе слова:
однажды
единственный
один
одинокий
единство.
Что можно о них сказать?
Не знаешь?
Я скажу тебе:
они со единены.
За ними—
одно.
Тайн было семь. Их ряд начинался с тайны неповторимости,за ней следовала тайна одиночества.Обе они были связаны с целью Божественного Творчества: поддержанием непрерывности жизни через ее бесконечное многообразие. Как и для исихастов. Бог был для кенергийцев Творцом, не любящим повторов. Каждое создание – всегда в чем-то единственное и в своем своеобразии, как бы мало оно ни было, одиноко.
Скрытое значение одиночества поднималось на поверхность порциями в разговоре о пяти следующих тайнах: любви, страха, смирения, причастности всего живого к Вечной Жизни и Божественного равнодушия.Их набор на первый взгляд выглядел сумбурным, но по мере накопления подробностей впечатление разнобоя пропадало. Волны страха, любви и смирения, токи Вечной Жизни бились о берега острова одиночества, омывали его, затапливали, и спасение от тоски приходило тогда, когда они тот остров размывали.
В «Откровении огня» говорилось, что индивидуальность, или чувство «я», – это нить, один конец которой завязан узлом, а другой – уходит в энергеюи соединяется через нее с потусторонним, «тайным».Если узел стянут сильно, другой конец нити может не чувствоваться, словно его и нет, а значит – не ощущается и «тайное». Этот образ вкладывал в чувство одиночества вроде бы иное содержание, но на самом деле лишь по-иному передавал ту же самую мысль: подноготная неприкаянности – самоощущение, сдвинутое в одну сторону: в узел. С этого края каждый индивидум отделен от других, единственен по своим особенностям, одинок. В то же время, с другой стороны, там, где «я» соприкасается с энергеей,нет ни разграничений, ни разделений.
Видение тайного – это видение во всех жизненных проявлениях переливов энергеи,всепроникающие токи которой соединяют все существующее друг с другом и Творцом. Энергеяне только следует Закону, но и предается свободной Игре. Если бы Господь мог разочаровываться, у Него бы был для этого постоянный повод: Его чада игру энергеи– Его игру – не любят. Они называют ее «произволом случая». Чувство «я», или «узел», стягивает не что иное, как страх – страх перед Игрой. Кенергийцы верили, что постижение «тайного» от него освобождает.
Как представляется «тайное» – светом или тьмой, пустотой или населенным духами миром, как видится Господь, кенергийцы считали второстепенным. Важно, чтобы образы вызывали отзыв в глубине души, чтобы в них узнавалась своя причастность к Вечной Жизни. Религиозная свобода кенергийцев уходила корнями в тайну Божественного Равнодушия.Господу все равно,кто как его воображает. Многообразие представлений о нем – часть многообразия мира. Каждая живая душа добавляет собой новую подробность о Творце и по-своему знает Его.
Бог имел у кенергийцев много имен, которые выражали разновидности Его участия в мистерии жизни: Вседержитель, Разум, Отец, Всевышний, Любовь. Он не «где-то» – Он присутствует везде и во всем как энергеяи через нее постоянно ощутим. «Откровение огня» было, в сущности, книгой об обманчивости чувства одиночества. В действительности невозможно быть оставленным Богом или «отойти» от Него – ведь расстояния не существует. Соединенность с Ним может прерываться только в мыслях и чувствах. «И кажется, что ты один…» Часто, и особенно в роковые моменты, неприкаянность и беспомощность ощущаются так явственно, что трудно в них не поверить, но даже когда мы видим себя один на один со своей судьбой, болью и смертью, это не так. В представлениях кенергийцев страдание одиночеством исходит из ограниченного, поверхностного самоощущения, и если последнее меняется, меняется первое. Поскольку личная энергия – то же, что и энергея,их вера в Бога включала в себя веру в свои силы. Отец дает их каждому своему чаду в избытке. Постоянные испрашивания Его помощи в молитвах – такое же недоразумение, как и чувство одиночества.
В «Откровении огня» говорилось, что от одиночества бежать не надо. Через чувство одиночества надо пройти как через туман. Тьма наполнена энергеей,и в ней горит огонь. Отсюда было и название книги.
Этот огонь не жжет.
Невидимый,
он в ночи покажется белым,
золотым
или черным.
Переведи дыхание —
и он пройдет через тебя.
Не спрашивай о нем—
все, что скажет о нем другой,—
лишнее.
Ты знаешь этот огонь.
Вспомни его.
Когда мысли и чувства направлены из «узла» к другому концу «нити», то начинает восприниматься «тайное». Способность к этому дает опыт души – опыт Вечной Жизни, покоящийся в глубинах памяти, под «узлом». Восприятие «тайного» – это, по сути, оживление воспоминаний души о «потустороннем». Для этого кенергийцы применяли действа– мистическую практику с изменением ритма дыхания и использованием силы воображения. Насколько я мог судить, оригинальной ее назвать было нельзя. С моими скромными познаниями в восточной мистике, приобретенными на цикле лекций в Теософском обществе, я видел в кенергийских действах элементы йоги, тибетской тантры, суфизма. Когда я читал рукопись, я все время что-то узнавал. Ассоциации уводили в разные стороны, в том числе в современность: вспоминались, например, экзистенциалисты, Карл Юнг, Виктор Франкел и даже Кен Вилбер, один из авторов трансцендентной психологии.
Впрочем, кенергийская рукопись не удивляла новизной в том смысле, в каком ею не удивляет и всякая истина. Суть вещей не меняется, меняются ее толкования. «Откровение огня» отличали раскованность суждений о сакральном и психологизм оценок человеческих побуждений. Эта книга меня задела, и если бы я отдался душевному волнению, одолевавшему меня при чтении отдельных высказываний, а затем берег бы в себе это чувство, поддерживал бы его, дал бы ему разрастись, возможно, в моей жизни, как говорят сейчас, «вскрылось бы духовное измерение». Такое происходило с другими – я знал об этом из книг, но со мной ничего подобного не случилось. В ту ночь, когда «Откровение огня» попало в мои руки, сильнее оказалось другое возбуждение – интеллектуальное. Феноменальная книга вызвала в моей голове лихорадочное движение, где смешались анализ, гипотезы, умозрительные образы и просто фантазия.
Кенергийское учение было беспрецедентно для своего времени и не увязывалось с местом, где возникло. Тем не менее это было фактом: в захолустном монастыре под Рязанью триста лет жили монахи-мистики, совершенно по-своему исповедовавшие христианство. О происхождении их воззрений можно строить лишь догадки. Являлось ли кенергийство своеобразным ответвлением исихазма? Продолжало ли оно какую-то неизвестную раннехристианскую традицию, как этого очень хотел Лева Глебов? Сказалось ли здесь влияние восточной мистики? И что бы было, если бы по христианскому миру распространилось такое понимание Благой Вести?
Куда меня уводили мысли в ту ночь, когда передо мной лежала раскрытой «самая интригующая древнерусская рукопись», лучше будет оставить для себя. Ночь была сумасшедшей и мысли – тоже. В памяти всплывали мои разговоры с Глебовым и Гальчиковым. Вспоминался мне и священник реформистской церкви, куда меня в детстве водили родители. Став «отроком», я не захотел его больше слушать.
Наверное, самое драматическое недоразумение христианства – это церковное толкование библейско-евангельского положения «человек – чадо Господне». То, что в Священном писании означало происхождение, на практике стало статусом. Только так можно понять, почему послушание для христиан – такая большая добродетель и почему в их религиозной жизни так много чисто детского: страх провиниться (согрешить) и получить наказание, вымаливание прощения, обещание примерного поведения. Любопытно, что в глазах церкви «чадо Господне» не растет. Традиционное церковное наставление верующих таково, что они в своей массе никогда не изживают духовную инфантильность.
То, что взрослый – во многом дитя, считали и кенергийцы, только не малое дитя, а отрок.Такой возрастной сдвиг меняет многое. Отрок – ребенок, в котором пробуждаются силы. Он хочет их испробовать. Он рвется к самостоятельности и делает ошибки. Ошибки отрока как-то нелепо называть грехами. «Расти, отроче!» – повторялось как рефрен в кенергийской рукописи. Своеволие встречало у ее автора понимание, и он открывал отроку глаза на то, что тот еще не осознавал: меру вещей и их скрытое взаимодействие.
Читая «Откровение огня», я обнаружил, что этот уникальный документ сможет интересным образом расширить горизонт моей диссертации. Я предвидел, что «Откровение огня» представляет значительную культурно-историческую ценность, но я не мог ожидать, что эта книга окажется такой интересной для меня самого. В ней много говорилось о том же, о чем я писал свою диссертацию – о «проявлении индивидуальности». Непохожесть, одиночество, стихийность чувств, осознание своих сил и бессилия, внутреннее и внешнее – все это имело отношение к моей теме, а «отрок» был персонажем, которого я искал в бытовых повестях. Интересно было бы соотнести отобранные мной тексты с кенергийской рукописью, но думать об этом не приходилось: передо мной лежал документ, на который я не мог сослаться. Этот факт набирал в весе по мере того, как истекала ночь, а с ней – время, в течение которого я мог располагать «Откровением огня». У меня в кармане все еще была записка Совы с «условиями».
«Эта книга моя…» – написала мне библиотекарша. Что за историю мне предстояло от нее услышать? Неприятные предчувствия сгущались по мере приближения утра и вытесняли эйфорию, которую вызывала у меня кенергийская рукопись. Я представлял дело так: Парамахин и Сова и правда нашли где-то в АКИПе подлинное «Откровение огня». По какой-то причине было решено это скрыть. Тайна свела их, но ненадолго. Произошел разрыв. Манускрипт как-то оказался у Совы. Держать его у себя, будучи в ссоре с Парамахиным, ей рискованно. Она ищет покупателя.
Трудно было предположить какую-то другую причину обращения ко мне Совы, как не желание продать «Откровение». Чем завершится наша встреча, зависело от того, насколько далеко зашли авантюры Совы и сколько она хочет за книгу. Если дело еще можно замять, а желание библиотекарши заработать на «Откровении» скромно, проблем не будет. Я мог бы купить рукопись, передать ее Парамахину и потребовать, чтобы она опять оказалась на своем месте в архиве. Чтобы ввести «Откровение огня» в научный оборот, требовалось, чтобы оно вернулось обратно в АКИП. Если же Сова скрывалась не только от Парамахина, но и от милиции, история становилась криминальной, и еще вопрос, можно ли повернуть ход событий. В этом случае, возвращая «Откровение огня» бывшей библиотекарше, я отдавал бы его в неизвестность.
Не глупо ли придерживаться честного слова в сомнительном деле? Я представил на своем месте профессора Глоуна: он бы сфотографировал «Откровение» без всяких раздумий. Возможно, он даже бы не вернул Сове рукопись – отнес бы ее обратно в АКИП, а с Совой отказался бы и разговаривать. Я так не мог.
НИКИТА
Марья не сразу услышала козу. И сообразила не сразу, что та блеет, потому что недоенная. Когда она доила свою Лушку, просила у нее прощения:
– Опять я чумная. Что я могу поделать?
И как только вспомнила о курах и поросенке? Накормила их. Солнце садилось. Детей все не было.
Длинный жаркий майский день оставил вечеру свое тепло. Марья как присела на лавку у дома, вернувшись от скотины, так и осталась сидеть. Хорошо было на воздухе. Вечерний ветерок пролетал через нее, словно она сама была воздухом. Марья замечала только, как дышала, больше ничего. Из мыслей не пропала только одна: «Где же дети?» Тревоги она не вызывала. Всякий раз, когда эта мысль возникала, возникала и уверенность, что они скоро вернутся.
Дети, все трое, появились, когда рассвело. Натка спросила мать:
– Ты здесь всю ночь сидишь?
– Всю ночь, – отвечала улыбчиво Марья. Сама она ничего не спрашивала. Увидела сыновей и дочь – и не двинулась, только глазами дала понять, что рада им.
Младший сын Марьи Афонька прошмыгнул в избу – он боялся матери, когда она становилась такой. Гриша, старший, подошел к Марье, поднял ее с лавки и увел в дом. Из Марьиных глаз потекли слезы. Переступив порог, она прижалась к груди сына, уже ее переросшего, и расплакалась в голос.
На следующий день пополудни вернулся с промысла Трофим, муж Марьи. Она опять сидела на лавке. Солнце пекло, ей же было хоть бы что. Трофим встал перед Марьей, но она мужа не увидела. Он зло сплюнул и прошел в дом.
– Давно мать такая? – спросил Трофим Натку, мывшую в горнице пол.
– Три дня.
– А ребята где?
– Черт их знает!
– Не ругайся! – крикнул Трофим и выматерился.
Натка продолжала свое дело. Отец сел на скамью, вытянул ноги и сказал:
– Не могу видеть мать, когда она истуканом сидит. Бешеным делаюсь.
– И Афонька такой. Тоже не может.
– А тебе, вижу, на мать наплевать?
– Почему наплевать? Мне не наплевать. Чего беситься, коли ничего нельзя поделать?
– За ней повторяешь. Это ее слова: «ничего не поделаешь». Поделаешь, коли захочешь. Давай обед.
Натка замерла с тряпкой в руке.
– Ну чего стоишь? Говорю тебе: обед давай!
– Мы тебя завтра ждали, – выдавила из себя дочь, не глядя на Трофима. – Все щи съели в обед. Я думала новые варить завтра.
Отец сплюнул, встал с лавки и пошел прочь.
Трофим прошел уже Марью, но вдруг остановился и шагнул обратно к ней. Он опять встал перед женой, заслонив ей ту даль, в которую она не мигая смотрела. Но и в этот раз она не подняла глаз – смотрела сквозь него. Трофим опустился перед Марьей на корточки, схватил ее за плечи и поймал ее взгляд. Глаза Марьи чуть сузились, губы дрогнули. Наверное, это было приветствие.
Трофим затряс жену за плечи, следя за выражением ее лица. Марья сморщилась. Трофим стал трясти ее все сильнее и сильнее, но добился только того, что Марья закрыла глаза. Побагровев, муж отпустил ее, сжал кулак и ударил в левый глаз. Лицо Марьи сжалось как при крике, но она не закричала, только застонала. Трофим выругался и ударил жену еще и по правому глазу.
Марья пришла в себя лишь к вечеру.
– Что у меня с глазами? – спросила она Натку.
– Так отец же!..
– А! – поняла Марья.
Ее глаза заплыли, глазницы стали лиловыми.
– Где отец?
– А черт его знает! – только и сказала Натка. Ее братья были притихшие, молчали.
– Уж ты-то, Наташа, хоть бы не ругалась! – попросила Марья.
– Мамка, сколько Натке годов? – спросил вдруг Афонька.
– Двенадцать.
– Я же говорил, что она врет! – оживился он. – А тот лопух поверил.
– Какой лопух?
– Да мужик один. Живет в лесу. Он нас на дорогу вывел.
Марья продолжала смотреть недоуменно.
– Когда вы ходили в лес?
– Опять ничего не помнишь! – рассердилась Натка. – Ты хоть бы к тетке Катерине сходила. Она уже стольким порчу сводила и тебе сведет.
– Что ж я, по-твоему, порченная?
– А какая же?! Сидишь целыми днями как пень, ничего не слышишь, не видишь, не помнишь. Болеть у тебя ничего не болит. Так это и есть порча.
– Тетка Катерина сказала?
– Сама знаю. А то давай сходим к землянщику, чтоб траву тебе дал…
– Бабам не пристало ходить к мужикам, – оборвал сестру Гриша.
– Да землянщик не мужик, он другой! – заявила та.
– Какой еще землянщик? – спросила Марья.
Оказалось, вчера дети заблудились в лесу и набрели на человека.
– Живет в землянке, ест листья, варит травы, – рассказывала Натка. – Дал нам выпить отвара. Выпили – и спать расхотелось. Кожа да кости, а прошел с нами через лес – и хоть бы что, а мы еле на ногах стояли. Комаров не бьет! Дает им себя кусать.
– Так это, должно быть, скитник, – взволнованно прошептала Марья.
Натка обрадовалась, увидев, что мать расчувствовалась.
– Так пошли к нему! Прямо сейчас! Вдвоем. Он тебе и порчу снимет, и синяки под глазами сведет.
– К нему идти полдня, – вмешался Гриша. – Разве мать дойдет?
– Дойду, – заявила Марья.
– С чего это ты вдруг надумала? – удивился Гриша. – Ты б к тетке Катерине сначала сходила.
– Катерина – колдунья, а скитник – божий человек.
– Не божий он! – крикнул Афонька. – Он тоже колдун.
– Божий он! – цыкнула на него Натка. – Это сразу видно.
– А если отец узнает? – попытался образумить мать и сестру Гриша.
– А чего отец? Ему-то что? – огрызнулась Натка.
– Вы, две бабы, к чужому мужику пойдете, а ему все равно?!








