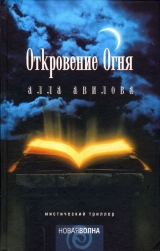
Текст книги "Откровение огня"
Автор книги: Алла Авилова
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
– Говорят, он сам получал такие «телеграммы».
– Он это просто вообразил! – воскликнула Оля.
– Горные пейзажы Рериха, что вы видели, связаны с его экспедициями. Он предпринял несколько экспедиций в поисках Шамбалы. Никто не знает, где она находится. В легендах говорится, что Шамбалу могут найти только те, кто туда вызван. Рерих искал ее в Гималаях, на Тибете. Он даже был у нас на Алтае. Легально, разумеется – вы не подумайте. Интересно, что в Сибири, вокруг Байкала, тоже ходит легенда о загадочной высокогорной стране без адреса. В одних местах ее называют Беловодье, в других – Нагорье…
– И нашел Рерих Шамбалу? – оборвала Михина Оля.
– По-моему, нет.
– Значит, он туда не был вызван! – злорадно заявила она. – Высокоразвитые люди, телеграммы в сознание – как можно в это верить?!
– А почему вы так нервничаете, Олечка? Разве мы, в нашей стране, не провозгласили, что возможности человека неисчерпаемы?
Оля вскочила, поискала слова, не нашла их и сбивчиво проговорила:
– Я пошла. Мне надо идти. Мне надо подумать…
И бросилась к двери.
Душистый апрельский воздух, овеявший Олю на улице, снял ее дрожь, но тогда началось другое. Солнечная Москва потускнела и отодвинулась, а перед Олиными глазами возникли розовые и голубые горы Рериха. Картины наплывали друг на друга, изображенные на них фигурки двигались и, оставляя свой антураж, перебирались в другой. Скоро Оля увидела на одной из горных вершин у самого горизонта вытянутую к небу башню с крышей-конусом. Этой башни у Рериха она не помнила.
На острие конуса вспыхнул яркий свет, и Оля инстинктивно зажмурилась. Когда она открыла глаза, перед ней была Москва. «У меня галлюцинации!» – подумала Оля, и от этой мысли ей почему-то стало радостно. Она успела только отметить, что идет уже по Пятницкой улице, как снова оказалась в горах. Теперь с башни, через все огромное пространство, падал ей на дорогу луч. Оля делала шаг, и луч ровно на столько же отодвигался от ее ног.
Без какой-либо закономерности ее зрение перемещалось с одного фокуса на другой – с московской улицы на горную тропу. Улицы менялись, тропа оставалась та же. Наконец она обнаружила, что успела пройти пешком Замоскворечье, Китай-город и оказалась теперь у площади Ногина. Через пару переулков жил Резунов. Недалеко была и остановка автобуса, на котором можно было доехать до общежития. «К Алику!» – решила Оля.
Алика в общежитии не было, и его соседи не знали, где он. В своей комнате она застала вечеринку. Оля выпила с компанией чаю, но сидеть за столом не осталась. Она еще раз сходила к Алику. Брата у себя по-прежнему не было. Тогда она поехала к Резунову – ей нужно было кому-то это рассказать. Что «это» – требовалось еще разобраться. Почему вдруг появились галлюцинации? Перевозбуждение? А оно из-за чего? Из-за картинки? А башня откуда взялась? Видела она ее все-таки у Рериха или нет? А дрожь? И чего это она так веселится из-за всего этого? Отмечает признаки явного сумасшествия – и веселится!
Резунов оказался дома. Оля выложила ему взахлеб свою историю. Он слушал рассеянно, думал о чем-то.
– Тебе, наверное, неинтересно? – обиделась Оля.
– Да нет, почему же.
Зазвонил телефон. Борис взял трубку нехотя, но, узнав голос, изменился в лице.
– Здравствуйте, Аркадий Викторович! – приветствовал он звонившего.
«Да это декан!» – поразилась Оля.
– Ефим Сергеич мне звонил буквально несколько минут назад, – сообщил Резунов в трубку.
«Он только что говорил с парторгом! Что-то стряслось», – соображала Оля и слушала дальше.
– Нет, я сейчас не один… Хорошо-хорошо, Аркадий Викторович. Через полчасика.
– Что случилось? – спросила Оля, когда Борис положил трубку.
– Да ничего, – ответил он ей как чужой. – Партийные дела.
– В воскресенье?
– А что особенного? И в воскресенье могут быть партийные дела.
Оля опять начала о башне, но Резунов ее остановил:
– Детка, давай в другой раз. Мне еще надо доделать одну работу.
У Оли потекли слезы. «Я же не плачу, а слезы текут, – спокойно подумала она и поправила себя: – Раз слезы текут, значит, плачу. Только с чего?»
– Ну что ты, детка, что ты… Я не хотел тебя обидеть, – забеспокоился Резунов. – На факультете и правда заваривается сейчас каша, но я не могу об этом говорить, ты же понимаешь… Ты скоро сама все узнаешь…
– А, каша! – воскликнула Оля и засмеялась сквозь слезы. Они продолжали течь. Оля попросила у Резунова платок, вытерлась, чмокнула его в щеку и ушла.
В общежитие она вернулась поздно. Заглянула к брату – его соседи были еще на ногах, сам Алик так и не появился. Она пошла к себе спать. На следующее утро соседки не смогли ее добудиться. Она проснулась только в полдень. В университет было ехать уже ни к чему – она поехала к Михину.
– Можно еще разочек посмотреть вашу книжку о Рерихе? – ошарашила Оля его прямо на пороге.
Он впустил ее, дал книгу. Когда Оля стала переворачивать страницы, у нее опять потекли слезы.
– У меня какое-то нервное воспаление, – объяснила она Михину трезво, вытирая лицо. – Слезы, смех – все не к месту. Не обращайте внимания! А башни-то той и правда здесь нет!
– Какой башни?
Оставив вопрос Михина без ответа, Оля стала расспрашивать его об экспедиции Рериха.
Следующим утром повторилась та же история: проснуться вовремя Оля не смогла, на занятия не поехала. И снова к Михину – он разрешил ей заехать еще раз, если опять появятся вопросы. Вопросам не было конца.
В среду Оля наконец попала в университет. У входа в аудиторию, где была первая лекция, она столкнулась с Томой Назаровой.
– Алику лучше? – спросила Тома.
С воскресенья Оля больше не заходила к Алику и ничего о нем не знала.
– Он все еще болен? – растерянно спросила она Тому. Та усмехнулась и прошла мимо Линниковой в аудиторию. Оля бросилась к выходу.
Алик в общежитии так и не объявился. Он нашелся у Димы Завьялова, родители которого были в санатории. Тошнота, головокружение, упадок сил у него не прошли.
– Почему ты мне не передал записку через Диму? – ругала брата Оля, добравшись до него.
Алик лежал на диване, укрытый шерстяным пледом, смотрел тусклыми глазами. Осунувшийся, пожелтевший, он повторял одно и то же: «Да ерунда все это». Поверить в это было невозможно.
– Нет, ты должен мне сказать, что случилось, – настаивала Оля. – Такое состояние не может быть из-за пищевого отравления. Когда ты почувствовал упадок сил?
– Не наседай. Ничего серьезного. Отлежусь и пройдет.
– Что тебе сейчас больше всего хочется?
– Спать.
Оля была у Алика в среду, а в пятницу, в перерыве между лекциями, к ней опять подошла Назарова.
– Ты к Алику скоро собираешься?
– Скоро, – машинально ответила Оля.
– Попроси его мне позвонить, ладно?
Тому Оля не любила. Ни она сама, ни брат с нею прежде не общались, и вдруг – «позвонить».
– Алик пока не хочет ни с кем общаться, – сказала Оля.
– Правда? – делано удивилась Тома. – Знаешь что, передай ему, пожалуйста, записку.
Назарова достала из портфеля карандаш и тетрадку, вырвала листок, написала несколько слов, сложила листок вчетверо и вручила его Линниковой. Оля отправилась на лекцию по диамату, но и любимый предмет не смог ее отвлечь от мыслей о записке для брата. Она достала ее из кармана и прочитала: «Зяба, это мое второе письмецо. Первое я передала через Завьялова – или этот „сверхсознательный“ тебе его не отдал? Вот досада, что у Димки нет телефона. Позвони мне с улицы. Сердце изнылось. И все остальное тоже. Жду звонка. Твоя Тома». Дальше следовал номер телефона – на тот случай, если Алик его потерял.
Оля содрогнулась от «изнылось». У Алика роман с Томой?! И она зовет его Зябой! Оля почувствовала себя преданной. Ей, сестре – ни слова! Она сунула записку обратно в карман и стала ждать звонка. О занятиях и думать было нечего. Все мысли устремились к брату.
Когда кончилась лекция, она поехала к нему. Квартира Завьяловых была недалеко от университета. Усевшись в трамвае у окна, Оля без всякого повода вспомнила о Шамбале. Она увидела горы, дома-шкатулки, но в этот раз они словно полиняли. В ее сознании, как бумажки на ветру, закружились обрывки разговоров с Михиным и пропали. Брат был важнее всего на свете. Так это было раньше, так это и сейчас. Только Зябой его больше называть не хотелось.
10
«Всякое рождение – Его выдох.
Всякая смерть – Его вдох».
Вечером того же дня, когда я познакомился с Резуновым, у меня в общежитии неожиданно появилась Надя. Как и в первый раз, она в комнату не зашла, а, приложив палец к губам, сунула мне записку, после чего исчезла. Записка сообщила, что Надя ждет меня на выходе из моего корпуса и что ей надо со мной поговорить.
Мы пошли от здания университета к пустынной центральной аллее. Она ведет к смотровой площадке на Ленинских горах, откуда открывается панорама Москвы. Надя взяла меня под руку и начала говорить:
– Мы договорились встретиться завтра, но мне надо сказать тебе так много, что я не могла ждать. Господи, не знаю, с чего начать… Начну с Кареева. Я у него сегодня была. Рассказ о встрече будет коротким – многого я от него не добилась, только… Постой, а то забуду, – я придумала для тебя отличный повод, чтобы навести справки в университете об Оле Линниковой!
– Спасибо, но я ее уже разыскал.
– Правда? Расскажи!
Я поведал Наде о скоротечном романе первокурсницы-детдомовки с молодым преподавателем филфака, на продолжительности которого сказались ревность брата, борьба с «сионистами» и необычная реакция Оли на живопись Николая Рериха. Когда я кончил, мы уже стояли на смотровой площадке. Кроме нас пришли посмотреть на Москву только несколько человек – ни туристических групп, ни шумных компаний в этот раз, к счастью, не было.
– Неужели у Оли и правда было психическое расстройство? – спросила Надя.
– Так думает Резунов.
– А что думаешь ты?
– Это может быть транс.
– Транс из-за рисунка? Странное дело.
– Транс и есть странное дело. А задеть может что угодно. Один из святых, например, увидел однажды в сплетении оленьих рогов распятого Христа, и это мгновение перевернуло его жизнь.
– Но ведь все это – только воображение… – пробормотала Надя, не подозревая, что затрагивает мой любимый предмет разговора. Я рассказал ей об эксперименте, проведенном в Вене с некой Элизабет Колбе, имевшей феноменально сильное воображение. Когда этой женщине проникновенно рассказали о страданиях Христа на Голгофе, у нее появились на теле кровоточащие раны. Они открылись в тех же местах, что и у Спасителя, как это случилось в другое время и при других обстоятельствах с Франциском Ассизским.
– Природа воображения непонятна, а что касается его силы, то известен лишь ее нижний предел, – заметил я и здесь остановился, так как обнаружил, что Надя думала о другом.
– Это все очень интересно, – сказала она, – но мы уходим слишком далеко от Оли и Алика. Почему они все бросили и уехали из Москвы в неизвестном направлении? Может быть, они бежали от НКВД? Оля и Алик ведь скрывали, что они дети «врагов народа». А в сорок девятом году шли массовые разоблачения «вражеских элементов» и арестовывали не только «сионистов».
– Ты спрашивала об этом племянника Аполлонии?
– Спрашивала, но ничего от него не добилась. Неприятный тип. Кстати, его мать, Нина Кареева, которая приходится Аполлонии двоюродной сестрой, была арестована вместе с Линниковыми в тридцать восьмом году. После войны она освободилась и вернулась в Москву. Спрашиваю Кареева: «А какое отношение к книге имела ваша мать?» Ни она сама, ни он обстоятельств дела не выясняли. Они даже не ходатайствовали о реабилитации. Кареев сказал мне на это: «К чему опять нервы трепать? И так истрепаны». Он знает только, что у всех троих была пятьдесят восьмая статья: обвинение в «подрывной деятельности». Мать сказала Карееву, что их взяли по анонимному доносу. Он был, конечно же, написан тогдашним замдиректора АКИПа, который отобрал у Аполлонии «Откровение огня». Так и осталось непонятным, почему вместе с Линниковыми пострадала Нина Кареева – вдова, скромная медсестра, далекая от древнерусских книг, – ее-то тот подлец не знал. Я бы сама обратилась в КГБ за разъяснением, но там информируют только прямых родственников.
– Попроси Кареева навести справки в КГБ для тебя. За вознаграждение.
– У нас так не делают – это тебе не Голландия. – отмахнулась она. – Мне кажется, Кареев знает больше, чем говорит. А что, если тряхнуть его еще раз – и теперь уже вместе? Это нетрудно устроить. Я позвоню ему и скажу, что ты разыскиваешь родственников Линниковых, потому что твой дядя Петер Касперс был другом Степана. Только не делай своего Касперса в этот раз коммунистом.
– И Кареев поверит?
– Да ему все равно, он алкоголик. Он думает о другом: раз ты набиваешься в гости, значит, придешь с бутылкой. Если мы будем у Кареева вдвоем, он наверняка станет вести себя по-другому. Я совершенно не могу общаться с такими людьми. Это какой-то ядовитый гриб! Я таких мизантропов еще не встречала.
– Каким же еще быть человеку с разбитой жизнью?..
АПОЛЛОНИЯ
Нина Кареева не спала. То, что ночь будет бессонной, она ожидала. Первый раз за четыре месяца этого тяжелого 1938 года она легла в постель без снотворных. «Хватит! – сказала она себе. – Пора отучаться от таблеток. Уже по три в один прием глотаешь. Куда дальше? По утрам словно кукла ватная».
Без внутренней борьбы не обошлось. Где-то около часу ночи Нина почти сдалась: время страшное, нервы натянуты, все спят со снотворными, ей-то что геройствовать? Но удержалась, посмотрев на свою жизнь с другой стороны: а что у нее самой случилось такого, из-за чего оправданны четыре таблетки в ночь? Нина выстроила в ряд события последних месяцев. Стасика Метелкина арестовали, его жену Катю – тоже. И Слава Семяшин – враг народа. Теперь его жена Татьяна ждет, когда и за ней придут. Больно за них. Друзья пропадают, а ты бессильна им помочь. Но ведь близкие-то не тронуты. И ей самой, вдове, простой машинистке в жилконторе, нечего бояться. Сейчас летят шишки, хвоя же – простой народ – держится крепко.
Бедная Татьяна! У нее сыновья под крылом – что будет с ними, когда сама загремит? А то, что загремит, – это точно. Сейчас вслед за мужьями берут жен, а детей отправляют в спецдома. Подстригут Таниных мальчиков наголо, в казенную форму оденут, и не станут они никогда дипломатами, как она для Славы хотела. Разве можно было сравнить ее тоску с отчаянием Тани? А Аполлония?! Как та выдерживает? Двое детей, муж-инвалид, сама на двух ставках и беспросветная нищета.
Легка на помине, из своей комнаты в коридор вышла Аполлония. Ее шаги с другими было не спутать. Она прошла мимо Нининой двери и захромала в другой конец коридора, на кухню. Семь дверей выходило с двух сторон в коридор. Дверь Аполлонии была последней, у туалета.
«За водой пошла», – подумала Нина. Что еще было делать на кухне в половине третьего ночи? Последнее время Аполлония стала выдыхаться. Нина увидела ее во вспышке воспоминания на балу в гимназии, где они вместе учились. Сказал бы кто тогда, двадцать лет назад: Аполлония – Полли, как ее тогда называли, генеральская дочь, выйдет замуж за слепого мужика и станет уборщицей «Полей». «А что это она так долго на кухне делает? – принялась гадать Нина. – Или чай кипятит? Выпью и я чая, все равно не заснуть…» Кареева встала, накинула халат и пошла на кухню к кузине.
Кухня была темной. Нина на миг усомнилась: не пропустила ли она случайно шаги Аполлонии из кухни обратно к себе? Нет, не пропустила. Аполлония сидела у своего стола. Зажмурившись от зажженной Ниной лампочки, она так и осталась сидеть со сморщенным лицом.
– Ты что здесь делаешь? – спросила Нина.
– Бессонница замучила.
– И меня.
– Если тебе свет не нужен, выключи, пожалуйста.
– Сейчас, только воду поставлю.
Нина взяла со стола свой чайник и пошла к раковине.
– Ты мой чайник опять поставь, – предложила Аполлония. – Воды тебе там хватит, и она еще не совсем остыла.
– И заварка осталась?
– Я пью без заварки.
«Чай экономит», – решила Нина.
– Заварить на двоих?
– Спасибо, но я чай пить перестала.
– Что так?
– Вредный он. Кипяток – лучше.
«Ну да, так ты и скажешь правду», – усмехнулась про себя Нина.
Она поставила чайник, приготовила заварку и погасила свет.
– Полли, что будет со всеми твоими, если ты свалишься? – спросила она молчаливую Аполлонию. – Взгляни на себя – ты истощена и физически, и психически. Я тебя очень прошу, позволь мне для моего же спокойствия хотя бы раз в неделю покупать вам продукты. Это мне ничего не стоит: пенсия за мужа плюс моя зарплата – немалые деньги, на нас с Витюшей вдвоем более чем достаточно. Зачем так упрямо отказываться? Мы же родные.
– Вода кипит, – сказала Аполлония. Нина заварила чай и, взяв табурет, подсела к кузине.
– Полли, к чему эта гордость?
– Гордость? – громко переспросила, как вскрикнула, Аполлония и добавила тихо: – Гордости у меня давно нет. Не надо, Нина, опять ты о том же…
– Ты не выдержишь, если будешь так продолжать. Я уверяю тебя. Извини, что я повторяюсь, но в последние дни ты выглядишь просто пугающе плохо…
– Это не то, что ты думаешь, Нина. Это другое…
У Нины екнуло сердце. «Неужели и ее гложет то же самое?»
– Что ты имеешь в виду?
Аполлония еще больше сжалась и сказала:
– Я сделала одну глупость. Боюсь, что большую. Сейчас время такое, с каждым человеком надо быть осторожной… Сколько мерзавцев перевидала, а вот об этого споткнулась, не могла вынести…
– Какой мерзавец? Где?
– Была у Степана одна старая книга из Благовещенского монастыря в Посаде. Редкая рукопись. Принесла я ее продать в букинистический магазин, а там мне за нее копейки предлагают. Тогда я решила попытать счастья в АКИПе. Знаешь этот архив? Он находится недалеко от нас, за Зубовской площадью. Принял меня там замдиректора, вот уж негодяй. Посмотрел мою книгу и набросился: «Откуда? Как это она к вам попала? От кого?» Какое там покупать – отобрал ее, и все. Имущество монастырей, говорит, перешло государству, и мы со Степаном не имеем права держать при себе эту книгу. Я требую ее обратно, он не отдает. Угрожает сообщить в НКВД. Вот я тогда и сорвалась. Ты знаешь, я ему в лицо плюнула. Вот уж: не думала, что кому-то могу в лицо плюнуть. Он меня из кабинета вытолкнул и пригрозил: «Об этом плевке всю жизнь жалеть будешь!» Я была у него по пропуску. Он все мои данные знает. Точно, теперь донесет в НКВД.
«Господи, что ж теперь будет?» – прокололо ужасом Нину.
– Как называется Степанова книга?
– «Откровение огня».
– «Откровение огня», – повторила за Аполлонией Нина. – Странное какое название. Как его понимать: это значит, что огонь о чем-то откровенничает?
– Кто там о чем откровенничает, я не знаю и знать не хочу. Меня это «Откровение» никогда не интересовало. – Аполлония понизила голос и добавила: – Это духовная книга, какая-то мистика.
– Да, неосторожно ты… – пробормотала Нина. – Да сходи ты в АКИП еще раз, замни дело, извинись, в конце концов, – ради детей. Ради детей чего не сделаешь.
– Я сама об этом думала. Только до того подлеца так просто не доберешься. Я уже ему звонила. Он не хочет со мной разговаривать, через секретаршу передает, чтоб я больше не звонила. Секретарша у него всегда трубку снимает, тоже хамка.
– Письмо напиши.
– Письмо лучше не писать. Если что, его к делу пришьют. Извинение могут истолковать как признание вины. Если в НКВД придет донос, мы пропали. Эта книга – как проклятая. Степан глаза из-за нее потерял, и вот теперь, кажется, она меня погубит. Если б только меня… Нина, голубчик, в случае чего возьмешь детей к себе? Ведь если меня арестуют…
– Ну конечно, конечно, – горячо заверила ее Нина. – Да ты подожди, рано ты мрачным мыслям предаешься, необязательно, что этот негодяй из АКИПа донос напишет. Знаешь, как бывает – вспылил, пригрозил, а потом остыл и забыл.
Аполлония покачала головой и прошептала:
– Чувствую я, Нина, что на меня мрак надвигается. Говорю же тебе, эта книга губит людей, к которым попадает…
– Да брось ты, Полли, разве книга их губит? Да живи вы со Степаном, скажем, во Франции, разве вы пострадали бы за какую-то книгу?
Аполлония помолчала и сказала:
– Да-да, ты права, Нина… Самое лучшее – принять свою судьбу. Покорность судьбе, как ни странно, делает сильной. Помнишь, я тебе об этом из Посада писала? Там мне удавалось на все махнуть рукой – будь что будет. Все стало иначе, как появились дети. С детьми на руках рукой не помахаешь. Звучит как каламбур, но по сути – это совершенно верно. Дети на моей совести – я не должна была брать на себя непосильную ответственность. Дети – и еще один поступок на моей совести…
– Какой поступок?
– Нельзя было таким образом устраивать себе жилье…
– Ты имеешь в виду переселение Харитоновых?
Линниковы с детьми жили первое время после Посада у Нины – шестеро в одной комнате. Нужно было срочно найти свое жилье, и Степан обратился за помощью к старому сослуживцу по ЧК Богдану Белянкину, ставшему начальником в НКВД. Тот счел самым удобным устроить Линниковых в той же квартире, переселив кого-нибудь из соседей.
– Харитоновы не хотели переезжать. Им дали к тому же плохую комнату. Я думаю, Богдан им пригрозил.
– Вот ведь совпадение! Ты сейчас заговорила о Харитоновых, а я как раз на днях случайно, на улице, отца семейства встретила. Идет, качается.
– Узнал тебя? – быстро спросила Аполлония.
– Узнал. Он мне навстречу шел. Я посторонилась, а он все равно прямо на меня валит. «Соседушка, – орет, – старая культура!» И дальше матом.
– Он же не пил. Может, он из-за этого переселения спился?
– Причину, чтоб спиться, найти нетрудно.
– Вы разговаривали?
– Черт дернул меня сказать: «Напился, так иди домой». А он мне: «Куда – домой? Туда, откуда меня выперли?»
– Я не могла тогда представить, что Богдан нам такпоможет. Он стал большим начальником, мог бы что-нибудь другое придумать. Несправедливо получилось.
– «Несправедливо»! – возмутилась Нина. – С кем у нас обходятся справедливо? Может, с нами? Может, со Стасиком и Катей?
– Что с ними? – вскрикнула Аполлония.
– Черт! – вырвалось у Нины: проговорилась. Не надо было заводить разговор об арестах.
– Что с ними? – повторила Аполлония.
– Взяли их, сначала его, потом ее. Стасик какую-то не ту статью пропустил в газету. Только ты себя с ним не сравнивай, ладно? Он завотделом всесоюзной газеты, а ты – уборщица. Не будут энкавэдэшники из-за тебя «воронок» гонять.
Аполлония улыбнулась.
– Ладно, пошли спать, – сказала она.
Через две с половиной недели, ночью, когда все в квартире спали, к их дому подъехал «воронок». Забрали, ничего не объясняя, Аполлонию, Степана и саму Нину. Детям – Алику, Олечке и Вите – было сказано утром в школу не идти, а сидеть дома. В течение дня за ними должна была приехать машина и отвезти их в детдом.
* * *
Мы оставили смотровую площадку на Ленинских горах и пошли от нее по безлюдному Воробьевскому шоссе к Мичуринскому проспекту. Там, перед перекрестком, мы остановились: дальше вдоль шоссе шла череда правительственных дач, обнесенных высокими заборами. У каждого входа – будка, в ней – милиционер. Я предложил повернуть обратно.
– Ноги устали, – сказала Надя. – Отдохнуть бы.
К тротуару примыкал лесопарк, спускавшийся к Москве-реке. Надя шагнула к деревьям и исчезла за ними. Скоро она позвала меня к себе. Я нашел ее на небольшом лысом бугре, с которого открывалась панорама огней города. Надя сидела на пне и непременно хотела, чтобы я устроился с ней рядом.
– У тебя есть брат или сестра? – спросила она меня.
– Два брата, одна сестра.
– Счастливый. У меня никого.
– Счастливая.
– Неправда, – всерьез запротестовала Надя. – Быть одной плохо. Родители работали, со мной была бабушка, а она хотела только одного: чтобы я сидела смирно. Играть было не с кем. Я была все время одна – с куклой, с книжкой, потому и стала толстой и трусливой. Я себя не люблю. Скажи, Берт, что ты чувствовал к своей сестре?
– Ничего особенного.
– Это потому, что ты закручен в себя, – заявила она безапелляционно.
– Ты думаешь? – позволил себе усомниться я. – Кстати, а ты знаешь, что именно чувствовал Алик к своей сестре?
ОЛЯ И АЛИК
Оля звонила и стучала в дверь Завьяловых, пока за ней не послышались шаги. Алик был один. «Здравствуй!» – вяло ответил он на ее приветствие и пошел обратно в комнату, на диван. Май, теплынь – а у него окно закрыто и плед натянут до подбородка. Оля взяла стул, поставила его у дивана, села, достала из портфеля Томино послание и протянула его брату.
Алик прочитал записку и сунул ее под подушку, после чего бросил колкий взгляд на Олю.
– И сама прочитала?
Брату Оля врать не могла.
– Без спросу, – упрекнул он ее.
– Целовались?
– Все было.
– Что – все?
– Все, что и у тебя с Резуновым.
Оля уставилась в пол и сказала:
– И теперь она тебя зовет Зябой. Что ж, Алик,пусть тогда онатебя так зовет…
Брат на это только усмехнулся.
– Что вы сейчас проходите по старославянскому? – спросил он.
– По старославянскому? – растерянно переспросила Оля. – Не знаю. Я в прошлый раз не была.
– Как не была? И ты – тоже? Почему?
Оля холодно посмотрела на Алика.
– Потому, что я сошла с ума.
– Я серьезно.
– Я тоже. Вижу галлюцинации, веду себя странно.
Тут у нее потекли слезы – так же неожиданно и беспричинно, как это уже не раз было. Алик порывисто поднялся, взял ее руку в свою и всмотрелся в ее глаза.
– Я не плачу, это просто слезы текут, – пояснила Оля обычным голосом.
Он обнял ее и шепнул в ухо:
– Открой шкаф! – так они говорили в детстве, если один что-то умалчивал от другого.
Оля рассказала Алику о двойном зрении, башне, бессоннице, отвращении к еде, разговорах с Михиным, разочаровании в Резунове, навязчивых мыслях, пропавшем интересе к лекциям, нежелании видеть сокурсников.
– Разве это не сумасшествие?
Брат смотрел на нее несчастными глазами.
– Но ты не бойся, это должно пройти, – успокоила она его. – Сама я не боюсь. Я только не могу понять, что со мной. Как вообще такое возможно? Ведь я же всегда была в порядке, и вдруг… И из-за чего?! Из-за рисунка! Все началось у Михина, когда я смотрела на тот рисунок…
Оля опустила голову и уставилась в пол. Помолчав, она воскликнула в отчаянии:
– Как все далеко зашло! Как далеко! Что только ни приходит в голову! Вчера утром, когда ехала на лекцию, загорелась идеей написать письмо в улан-баторский университет. В голове застучало: Шамбала находится в Монголии! Надо организовать совместную советско-монгольскую студенческую экспедицию, чтобы продолжить поиски Рериха.
Оля растерянно посмотрела на Алика и жалко спросила:
– Откуда такое берется? Ты можешь это объяснить? – И, не дождавшись ответа Алика, вдруг оживившись, она спросила другое: – А что, может, это не такая уж глупая идея? Монголия – социалистическая страна, у нас с монголами братское сотрудничество.
– Это так не делается, ты сама знаешь, – мягко сказал Алик. – Кто же пишет письма о сотрудничестве от себя, минуя партком, комсомольское бюро, деканат? Представляешь, что тебе будет за такое письмо?
– Представляю, – резко ответила Оля. – Сумасшедший дом. Ведь, помимо всего прочего, Шамбалы еще и нет на карте.
– Вот именно. Это всего лишь легенда, – осторожно поддакнул Алик.
– Не знаю, и да и нет, – замотала головой Оля. – Это сложно. Я совсем запуталась. Я не то чтобы верю в Шамбалу… я не могу в нее не верить. И потом, это мое странное состояние… А вдруг и правда оттуда может исходить какое-то воздействие? Как ты думаешь?
– Откуда – оттуда?
– Из Шамбалы.
– Так ты, значит, веришь, что она существует?
– Я же говорю, что сама не знаю. Разве такое исключено на сто процентов? Разве не могут люди развить свою способность догадываться, читать чужие мысли, внушать что-то другим? Эта способность существует в зачатке в каждом из нас! И могут быть еще другие способности, о которых мы пока понятия не имеем. Мы используем наш мозг в незначительной степени – это научный факт.
– Тебе нравится идея Шамбалы, страны людей с развитым мозгом.
– А тебе – нет?
– Мне тоже. Знаешь, как я себе это представляю? По утрам в Шамбале всему населению посылается в мозг сигнал на подъем. Радио там нет, оно не нужно. Все начинают день с гимнастики, как у нас. Только у нас гимнастика физическая, а у них мозговая…
Оля смеясь закрыла брату ладонью рот и запоздало упрекнула:
– Как ты мог позволить Назаровой называть тебя Зябой?
Алик освободился от ее руки и выкрикнул:
– К черту Назарову! Это меня от нее с апреля тошнит. Кончено с Назаровой.
– Правда? – обрадовалась Оля и пересела со стула на диван к Алику. Она обняла его и повалилась вместе с ним на подушку. – Зяба-зяба-зяба, зяблик мой, – прошептала она брату в ухо и прижалась к нему грудью. – Помнишь, как мы грели друг друга в блокаду зимой?
То, что произошло дальше, Оля не сразу поняла. Зяба – всегда пассивный Зяба, вдруг стиснул ее, перевернул на спину и впился в ее губы своими. Она почувствовала всем своим телом его возбуждение и стала вырываться.
– Ты сошел с ума! Ты что делаешь?
Брат держал ее. После нескольких попыток Оле удалось сбросить Алика с себя. Спрыгнув с дивана, она бросилась бегом к двери.
На следующий день Дима Завьялов передал Оле записку от Алика. Она пробежала глазами по строчкам:
«Ты должна меня простить. Я этого в себе не знал. Это было как взрыв. Я теперь буду начеку. Забудь о случившемся и будь, как всегда, сестрой. Ты для меня – все. А.» Оля порвала записку. Этого А. она ненавидела.
Шамбалу Оля больше не видела, смеяться и плакать перестала. Мрачная, она высиживала ежедневные лекции и семинары и, когда кончалось последнее занятие, в числе первых шла к выходу. Ее выступления на семинарах перестали вызывать любопытство: знание предмета она показывала, но оригинальных высказываний больше не делала.
Потускневшая Оля, все не выздоравливавший Алик – в другое время на девичьем филфаке им бы перемыли все косточки. Но во второй половине мая 1949 года однокурсникам было не до Линниковых – начались события поважнее странностей брата и сестры из Будаевска.
Обнаружилось, что на факультете свили гнездо агенты международного сионизма. Студентки и студенты поражались: профессор Поршанский – двурушник! Вулич и Днейдер пропагандировали исподволь враждебные взгляды! Ротштейн из учебной части продвигал на общественную работу евреев! И никто ничего не замечал! Напряжение достигло кульминации в последние дни мая, перед открытым партийным собранием. Пошли слухи, что на нем, в числе других, будут обсуждать Резунова – он хотя и не еврей, но был вроде бы замешан в подготовке сионистских диверсий. Его уже несколько дней не видели на факультете.
«Если Борис – враг, то я спала с врагом», – сказала себе Оля. Невыносимая мысль. Собрание должно было состояться в пятницу. В четверг вечером Линникова не выдержала и позвонила Резунову.








