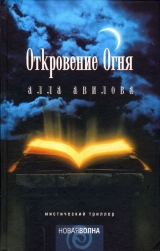
Текст книги "Откровение огня"
Автор книги: Алла Авилова
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
Он сидел передо мной прямой, убежденный, основательный. Его уверенность располагала меня к нему, хотя мы были уверены в разных вещах. Одно лишь мешало идиллии: я видел в нем непохожего на меня человека, и уже этим он был мне любопытен, – он же видел во мне заблудшую душу, и я чувствовал, что был ему в сущности совершенно безразличен.
– Люди разные, и потребность в поддержке разная, – сказал я в ответ.
Гальчиков улыбнулся и покачал головой.
– Да не такие уж люди разные. Оперение – вот что на самом деле пестро. А точнее – хохолок. Вы называете это индивидуальностью, и для вас это превыше всего. Вот вы даже диссертацию на эту тему пишите. Буду с вами откровенен: и для меня это так было. Пока раз на ветру не оказался. Этот хохолок держится на соплях. Налетит ветер посильнее – и нет его.
Сказав это, Гальчиков доел свой пирожок и добавил:
– Хочу повторить, о полезном или бесполезном я говорил от себя, а мое мнение даже для меня самого имеет относительное значение. Если бы я и правда нашел «Откровение огня» и оно было ничейным, я бы передал его нашим богословам, потому что их мнение, а не мое определяет полезность и бесполезность книг для верующих. А их мнение на этот счет меняется. Из чего следует: оценки современных богословов могут не совпасть с оценками их коллег в XVIII или XIX веке. Вот так. Хотите чаю?
От чая я отказался. Пора было уходить. Тогда Гальчиков вдруг спросил:
– А кто вам сказал, что АКИП не называет бывших владельцев рукописей, если они не коллекционеры?
– Дежурная по залу.
– Я бы на вашем месте поинтересовался у заведующего, откуда к ним поступило «Откровение огня».
– Вы думаете, он скажет?
– Шанс, конечно, невелик, ну а вдруг? Это необычный случай. Вы ведь установили непорядок в их рукописном фонде. Теперь вы для них не просто читатель. – Его взгляд оживился. – Прежний владелец, может быть, еще жив, и этот человек не забыл, что за книгу он принес в АКИП.
– Именно поэтому мне его в АКИПе не назовут. Такой возможностью архив воспользуется сам.
– А вы все-таки попробуйте, – мягко сказал Гальчиков.
Дверь открылась, и в гостиной появилась Анюта. Она подошла к отцу со спины и, обняв его, стала меня рассматривать. Гальчиков ласково погладил ее сцепленные замком пальцы и спросил:
– Ты что, детка?
– Скучно, – сказала Анюта. Уголки ее губ и глаз чуть приподнялись.
– Гулливер скучен? Не может быть. – Гальчиков перевел взгляд на меня и пояснил: – Валя читает ребятам мою любимую детскую книжку – «Путешествия Гулливера».
Монотонный голос матери семейства уже давно раздавался через стену. В этот момент он как раз стих. Валя окликнула дочь из другой комнаты. Анюта закусила губу и не отозвалась.
– Ну не дразни ее, иди, – ласково попросил Гальчиков. – Если не хочешь Гулливера, возьми какую-нибудь другую книжку и почитай на кухне. Выбери, что тебе интересно.
– Интересных книг нет, – заявила Анюта, не спуская с меня глаз, где все время играли смешинки. Гальчиков взглянул через плечо на дочь, и те же смешинки появились в его глазах.
– С каких это пор, детка? Такого я еще от тебя не слышал.
– А я тебе не все говорю, – в том же духе отвечала Анюта. Тут появилась Валя и увела дочь с собой.
– Извините, – сказал Гальчиков, – Анюта – девочка с сюрпризами. Раньше меня беспокоило то, что она слишком серьезная, теперь же она становится чересчур игривой. Что говорить – подросток!
– У нее нет неприятностей в школе из-за того, что отец служит в Патриархии?
– Проблемы, конечно, есть, но в меру. Сейчас у нас в стране больше терпимости к церкви. Что еще хорошо, это то, что Анюта умеет за себя постоять. Ее нисколько не смущает, что я работаю в Патриархии, даже наоборот. – Гальчиков гордился своей дочерью. – Не думайте, что это я ее так настраиваю. Она сама такая. Анюта очень религиозная, – добавил он с нежностью. – Причем по-своему. Я уж ее не поправляю, вырастет – выровняется. А вы, наверное, никогда не были верующим?
Я сообщил Гальчикову, что перестал ходить в церковь с шестнадцати лет. Ему непременно хотелось знать почему.
– Потому что вырос, – сказал я.
– Ну и шутник вы! – рассмеялся он. – А я вот приобщился к церкви в свои тридцать пять. Пришлось оставить журналистику и сдать партбилет. Некоторое время претерпевал лишения – но нисколько не жалел. Я был только рад, что ушел из журналистики, что не надо больше врать. В нашем обществе вранье – норма жизни, и ее налагают на тебя, не спрашивая. Вот уж я познал это на собственной шкуре, когда работал журналистом! Видишь одно – пишешь другое, то, что требуется. Моя шкура стала лосниться от вранья. Наша жизнь страшно портит людей. Как крутятся-вертятся наши люди, вы и представить себе не можете.
Что ж, неплохое представление об этом давал как раз он сам. Я бы не сказал, что Гальчиков оказался мастером двойной игры – с его опытом можно было бы вести ее потоньше. Только идиот мог бы поверить, что он пригласил меня к себе из простого любопытства к какой-то «бесполезной книге», примечательной лишь своей репутацией. Чего он добивался, оставалось пока неясным.
– Если появятся какие-то новости об «Откровении огня», вы мне сообщите? – попросил Гальчиков в конце встречи. – Есть у меня один грех: люблю детективы. Обстоятельства пропажи кенергийской рукописи – чистый детектив, вы согласны?
– Совершенно согласен. Только не проще вам держать связь непосредственно с самим АКИПом?
– Нет, не проще, – сказал он со вздохом. – У нас с государственными учреждениями очень и очень непростые отношения.
– Рукописный отдел АКИПа возглавляет человек либеральных взглядов, – сказал я.
– Вы думаете? – спросил он с ухмылкой. Такого выражения лица я у него до сих пор не видел. Уж не завело ли его «любопытство» в АКИП?
– Вы к нему уже обращались?
– Нет, с какой стати. Но мне хорошо известен «либерализм» начальников.
Я вспомнил лицо Парамахина в тот момент, когда я сообщил ему о своем звонке в Патриархию, и снова не поверил Гальчикову.
– Давайте поддерживать контакт друг с другом, хорошо? – сказал мне он еще раз при прощании.
3
«Есть золотой огонь, он в вышине.
Есть красный огонь, он в костре.
Есть белый огонь – он сердцевина всех огней.
Есть черный огонь, он виден лишь ангелам.
Есть незримый огонь, он везде, он в тебе».
Официально я был прикреплен к филологическому факультету Московского университета. Кафедра древнерусской литературы стала моим опорным пунктом. С одним из ее сотрудников, Львом Глебовым, у меня завязались дружеские отношения. Мы были на «вы», но называли друг друга по именам. Лева как раз и посоветовал мне познакомиться с фондом АКИПа. Сам он тоже писал диссертацию. Ее темой было влияние исихазма на древнерусскую культуру.
Исихия,в переводе с греческого, означает внутренний покой. Живший в XIV веке византийский богослов Григорий Палама нашел его в созерцании Фаворского света, известного из Евангельского предания – им озарился Христос на глазах своих учеников. Палама утверждал, что Фаворский свет может увидеть каждый, чья душа соединена с Богом.
Оказавшись на кафедре через несколько дней после чаепития у Гальчикова, я спросил Глебова о кенергийцах. Он о них никогда не слышал. Я подробно рассказал ему о «разысканьях» Сизова и спросил:
– Огонь, свет – это символика одного ряда, не правда ли? А что, если кенергийское учение – разновидность исихазма?
– Не исключено, конечно, – осторожно согласился Лева. – Но совсем не обязательно. Огонь и свет относятся к универсальным символам. С тем же основанием можно предположить, что «Откровение огня» связано с зороастризмом, кабаллой или манихейством.
Он задумался и спросил:
– Вы говорите, эта традиция продержалась в Захарьинском монастыре около трехсот лет?
– Совершенно верно. Любопытная история, правда?
– Странная история, – сказал Глебов, потом покачал головой и произнес: – Невероятная история.
Странным и невероятным было то, что кенергийцы просуществовали так долго, несмотря на многочисленные церковные чистки. Евларий появился в Захарьиной пустыни вскоре после присоединения Рязанского княжества к Московскому. В Москве в то время сжигали еретиков, были осуждены Максим Грек и симпатизировавшие исихастам «нестяжатели», по монастырям рассылались списки отступников, священники боялись читать проповеди из-за кары за случайные ошибки, – а в не такой уж далекой от Москвы рязанской обители, вопреки усиленному надзору и жесткой унификации церкви, жили отдельной жизнью странные затворники, знавшие святое слово «кенерга», которое было не найти ни в одной из церковных книг.
А дальше – опричнина, разгром Новгорода и его независимых от Москвы монастырей, соборное уложение о богохульниках, выискивание и уничтожение неверных и вредных книг – в XVII веке строго контролировались даже книги из Киева, наконец, раскол, – и опять ничто не затронуло Захарьину пустынь и кенергийцев.
– Раз в десять-двадцать лет в их ряду происходили перестановки, – рассуждал Лева, – старший затворник отходил в лучший мир, его место занимал келейник, а место последнего предоставлялось кому-то из братии. Можно представить, в каком напряжении ждали монахи объявление нового избранника. Разве такое событие осталось бы незамеченным для прихожан монастырского храма? В службах участвовала вся братия – и вдруг кто-то из монахов пропадал. Игумены могли запретить разговоры о кенергийцах инокам, но не крестьянам. А их могла вызвать и другая захарьинская традиция: «высокое пение». Вы сказали, что одно время оно было введено в службы. Неужели среди посетителей пустыни не нашлось ни одного ревнителя канона, который бы не сообщил о новшестве церковному начальству? Православие очень серьезно относится к исполнению обряда. У нас все церковные споры разгорались на этой почве. Чтобы в русском монастыре во время литургии звучало какое-то «высокое пение» – это просто немыслимо! Всякий, кто проанализирует борьбу православной церкви с ересями, скажет: кенергийцев быть не могло! А они были! И их никто не трогал. Если придерживаться простой житейской логики, то возникает впечатление, что у кенергийцев имелись покровители среди влиятельных лиц церкви. Это мне кажется гораздо вероятнее, чем столь длительное неведение вышестоящих о своеобразном укладе жизни в Захарьиной пустыни. Скорее всего, это были тайные покровители, – заключил Глебов.
– С какой стати кто-то наверху стал бы покровительствовать кенергийцам?
– Можно представить себе разное. Например, такое: кенергийское учение привносило в православие что-то недостающее. Скажем, какие-то ценные богословские дополнения, которые, однако, было еще преждевременно делать общим достоянием. Это и были пресловутые тайны,которые дожидались «часа откровения».
– Каким образом покровители могли это знать? Захарьинские затворники ни с кем не общались.
– Откуда пришел Евларий – неизвестно. И с кем он был знаком – тоже. Возможно, прежде чем уйти в затвор в Захарьиной пустыни, он встречался с кем-то из высших иерархов. Вот вы обнаружили на периферии нашей церковной жизни протянувшийся из шестнадцатого в восемнадцатый век никому не известный ряд эзотериков. А что, если в среде высшего духовенства существовал параллельный ряд – такой же незаметный?
– Еще вопрос, было ли на самом деле какое-то кенергийское учение, – высказал я свое сомнение. – Во всех источниках, кстати, Евларий предстает только чудотворцем. Между прочим, о святом слове «кенерга» в монастыре услышали не от него, а от Константина, которого поэтому в Захарьиной пустыни стали называть «кенергийцем», после чего это прозвище перешло на других затворников. Что они хранили и передавали друг другу, не знали даже игумены. Может быть, всего лишь «высокое пение»? После Николая, спасшего Красное село от чумы, кенергийцы в жизни Захарьиной пустыни стали незаметны, и чем дальше, тем меньше было к ним почтения. Оно, можно сказать, вообще пропало после происшествия с иконой Евлария незадолго до гибели обители. Монастырская легенда рассказывает, что последний захарьинский игумен, отец Викентий, задумал канонизировать отца Евлария. Было составлено его житие и написана икона чудотворца. Из-за последней канонизация не состоялась: на лике Евлария, над правой бровью, появился шрам. Это событие вызвало у многих сомнения в святости первого затворника и практически свело на нет уважение к кенергийцам.
– Учение было наверняка, – решительно заявил Лева. – Три столетия одну из келий Захарьинского монастыря занимали менявшиеся пары затворников – учитель и ученик. Все указывает на то, что кенергийцы были мистиками, передававшими друг другу какое-то учение.
– А почему не какие-то безобидные обряды или просто молитвы?
– Я думаю, «безобидные обряды и просто молитвы» не существуют, – мягко возразил Лева. – Минутку…
Тут Глебов смущенно улыбнулся и опустился на свой стул – мы разговаривали, стоя у его стола.
– Поверите? У меня даже сердце закололо из-за кенергийцев… – признался он. – Не обращайте внимания, это сейчас пройдет.
– Могу себе представить вашу досаду: ведь «Откровение огня» – рукопись вашего профиля, – посочувствовал я.
– Для меня не это как раз самое главное. Меня захватывает и одновременно выбивает из колеи другое. Монахи-эзотерики, оставившие рукопись – такого, насколько я знаю, в истории нашей культуры не было. То, что я услышал от вас о кенергийцах, заставляет думать о явлении высокой духовной культуры: длительное обучение, аскеза, абсолютный авторитет в монастыре.
– Это было не всегда, – заметил я. – Последний кенергиец, отец Михаил, был полной противоположностью своих предшественников: затвора не держал, жил один, бражничал, даже издевался над самым святым – провозглашением «кенерги». Он утверждал, что монахи говорили это слово неверно.
– Откуда это известно?
– Из монастырской легенды. Там также сказано, что захарьинские монахи в своем благочестии были последнее время не на высоте – а значит, и кенергийцы тоже, поскольку выбирались из братии.
Лева отвел от меня чуть приугасший взгляд и задумался. Снова подняв на меня глаза, он спохватился:
– Вы так и стоите! Я вам сейчас стул найду.
Был большой перерыв, и на кафедре, как обычно, толпился народ. Стул для меня тем не менее нашелся. Ставя его рядом со мной, Лева извинился за невнимательность – которая, надо сказать, была ему и в самом деле совершенно не свойственна.
– То, что монастырская легенда сообщает об отце Михаиле, могло иметь совсем другое значение, – сказал Лева, когда мы уселись друг напротив друга. – Без «Откровения огня» кенергийская история вряд ли когда-нибудь прояснится. Мне кажется, я бы мог все отдать, чтобы увидеть эту рукопись…
У Глебова было чрезмерно выпуклое лицо с низким лбом. Оно выглядело бы уродливым, если бы не озарялось никогда не пропадавшей доброжелательностью к другим, что бы ни происходило. Наверное, такое свойство – знак самодостаточности. Лева расположил меня к себе с первой же минуты, и, едва познакомившись с ним, я обрел ощущение, что у меня в Москве появился близкий человек.
Никому мне так не хотелось объявить о своей находке в АКИПе, как Глебову. И никто не имел большего права знать от меня эту новость: благодаря Леве я оказался в неизвестном мне архиве на Зубовской, а сама рукопись к тому же представляла для него профессиональный интерес. По всей справедливости это он, а не я должен был выйти на «Откровение огня». Несправедливость была такова, что Глебов даже не мог знать, что оно еще недавно хранилось в АКИПе.
Обещание Парамахину поставило меня в двусмысленное положение, и чем дольше я сидел напротив взволнованного Левы, тем труднее мне становилось его переносить. Я счел самым лучшим побыстрее закончить наш разговор, что и сделал. Когда я направлялся к двери, Глебов меня окликнул. Радостно глядя на меня, он объявил:
– Если «Откровение огня» – и правда изложение эзотерического учения, то его автор известен. Возникновение рукописи оправданно только в одной ситуации, и эта ситуация, как вы сказали, была только один раз! Вы понимаете, о чем я?
Я его понял мгновенно. Когда посвящение в эзотерическую традицию происходит в одном месте и в узком, замкнутом кругу, ее запись не имеет никакой функции. Она нужна, если прямая, устная передача знания от учителю к ученику стала невозможной. В ряду кенергийцев имелся только один, который оказался в подобной ситуации – тот, кто значился в нем последним. Отец Михаил не имел ученика.
МИХАИЛ
Под рассвет Захарьину пустынь разбудил брат Леонид, прибежавший из Знаменского монастыря: там разбойничали кочары– банда казака Филимона Кочарова. Филимона и его людей знали: ограбят монастырь дочиста и подожгут его. Братьев бандиты обычно сгоняли в храм, закрывали там, и те разделяли участь своей обители. Так было с Воздвиженским монастырем, Замайским Введенским, Харитоньевским Успенским. Игумен, отец Викентий, распорядился немедленно грузиться. Ясное дело: раз Филимон сегодня ночью за двадцать верст в Знаменском, то завтра, дай стемнеть, – и он здесь.
Игумен приказал уходить из монастыря всем. Бывало, что пустые обители Филимон не поджигал. Распорядившись об имуществе, отец Викентий со свитой снялся первым. Святыни и ценности он забрал с собой, остальные вещи отвезли частично на хранение доверенным людям, частично упрятали.
После полудня в Захарьиной пустыни остались только братья Феодосий и Серафим. Они отвечали за хозяйственную утварь. Игумен приказал ничего не бросать. Братья укладывали посуду в узлы и зарывали их в землю. Провозились до вечера. Только управились, как увидели Леонида. О нем уже и забыли. Знаменский беглец, предупредив захарьинских братьев, пошел за огороды соснуть и очнулся только сейчас.
– Тебе есть куда податься? – спросил его брат Серафим.
Никого у брата Леонида не было: ни семьи, ни родни. Подкидыш, выросший в монастыре. Серафим посоветовал:
– Иди в Турынин лес. Туда пошло много наших Филимона пережидать.
Сам он и Феодосий были местные и собирались отсиживаться в Красном селе у родни.
Брат Леонид стоял вялый, и было неясно, слышал он совет или нет.
– Ты иди, не мешкай, – подталкивал его брат Серафим.
– Хлеба дать? – спросил брат Феодосий.
В этот момент на монастырском дворе появилась еще одна фигура. К колодцу шел старый горбатенький монах. Увидев иноков, он приветственно поднял свой кувшин.
– Кто это? – спросил брат Леонид.
– Иеромонах Михаил, – ответил брат Серафим нехотя.
– А вы говорили, что только вдвоем остались…
– Отец Михаил не в счет, – сказал с усмешкой брат Феодосий. – Он от нас отдельный.
– Как отдельный? – не понял Леонид.
– А так, – только и сказал тот.
– Он знает о Филимоне? – не отставал Леонид.
– Что отец Михаил знает, никто не ведает, – бросил Серафим и, дав знак Феодосию, пошел с ним прочь со двора.
И в Знаменском слышали об отце Михаиле, называемом «захарьинским травником». Неясным был старый инок, то ли чудной, то ли дурной. Не только монахи в нем сомневались – крестьяне тоже: кого вылечивал чернец, кого нет. А бывало, вообще отказывался лечить. Не нравилось, и как он посмеивался – не подобает монаху, как девке, с усмешкой ходить, был бы юродивый – другое дело. За юродивого отца Михаила не признавали, если кто и называл его блаженным, то в насмешку.
Брат Леонид смотрел, как иеромонах поднял ведро из колодца и наполнил свой кувшин. Ловко получилось у старика. Он поставил полный кувшин на левое плечо и, придерживая его обеими руками, двинулся обратно. «Дивный какой, – отметил Леонид. – А вдруг он и правда не знает о кочарах?» Знаменец проводил отца Михаила взглядом до церкви, не зная, догонять ему травника или нет. Только когда тот скрылся за углом, инок определился: «Надо сказать».
Захарьина обитель отличалась от Знаменского монастыря обустройством братьев. Общих келейных строений здесь не было. По всей территории были беспорядочно разбросаны срубы, где жили по одному или вдвоем – такой порядок пошел от отца Захария и сохранился и через двести лет после него.
Брат Леонид не видел, в каком из домов за церковью скрылся иеромонах. Там их было с десяток – низенькие, серенькие, ставни закрыты. К каждому из них отходила от дороги тропинка. Недолго думая, инок направился к домику у монастырской стены и оказался на его задворке. Там он увидел отца Михаила.
Иеромонах сидел у открытого очага. На огне висел котелок. Попахивало хмелем. «Да разве же можно», – звякнуло у Леонида в голове. И хоть бы смутился старый греховодник, так нет, нисколько. Говорить с бражником молодому иноку расхотелось, но раз уж пришел, заставил себя открыть рот:
– Филимон…
– Знаю, – перебил Леонида отец Михаил звонким, молодым голосом. – Садись.
Ноги сами повели Леонида к огню. Когда он опустился на корточки, его окатили сладкие пары, поднимавшиеся из котелка. Щекотнуло в носу, в горле. Знаменец сел на землю и совсем размяк.
Отец Михаил неторопливо снял котелок с треножника. «Голыми руками хватил и хоть бы что!» – поразился Леонид. Налив варево из котелка в кружку, старик отпил из нее и передал ее молодому монаху.
– Попробуй!
Знаменец принял ее, глотнул питье, и у него сразу загудело в жилах.
– Брага-то у тебя, видать, не простая… – встревожился Леонид.
– Не брага это, а медок, – поправил отец Михаил и вдруг спросил в упор: – Первый раз кровь видел?
– Первый.
От воспоминания о своем монастыре и брате Поликарпе у Леонида пропала истома. Поликарп воспротивился бандитам, и один из кочаров зарубил его на глазах у братьев. Далека была теперь от Леонида кровь Поликарпа, но достала его. Он почувствовал у себя на лице ее горячие брызги, словно тогда она попала на него, а не на убийцу. Щеки его загорелись, ум воспалился, и он заговорил лихорадочно, путано, как не говорил никогда прежде:
– Был там один зверь, кабан поганый, мерзкая гадина. Хоть бы утерся. Морда в крови брата Поликарпа, а он хоть бы утерся. Брат Поликарп корчился, орал. Господи, мученичество какое!.. Стояли у церкви, на брата Поликарпа смотрели. Бандиты со всех сторон. Согнали нас к церкви, держали. На брата Поликарпа смотреть заставляли. Брат Поликарп вопил, корчился… Я стоял сзади всех. Рядом – один из изуверов, тоже смотрел. Я юрк ему за спину и побег, он же и ухом не повел. Кровь его захватила…
– Ты иль чадо монастырское? – спросил отец Михаил.
– Ну да.
– К какому послушанию определен?
– Книги списываю, – сказал брат Леонид и посветлел от нового воспоминания. – Апостол переписал, Псалтырь, Месяцеслов, патерики, теперь Палее Толковой сподоблен. Обитель наша малоимущая, пожертвования скудные, книг мало. Игумен сказал: сами будем книги списывать. Я с малолетства к письму определен. Одиннадцать книг уже списал, Палея – двенадцатая. Вот уж книга-то для ума подъемная. Даст Бог, к Покрову кончу.
– Медленно пишешь, – заметил отец Михаил, ласково взглянув на инока.
– Это оттого, что любовно. У меня каждая буква прочувствована. – Брат Леонид зажмурился, сжал пальцы горсткой, словно ухватил невидимое перо, его рука поднялась в воздух и плавно задвигалась.
– Красиво пишешь, – похвалил старик.
– Так оно и есть, – с серьезностью подтвердил знаменский писец. – Все хвалят. Буквы у меня наструненные, осанистые, всяка строка опрятна, и ошибок не бывает.
– Чего не бывает, так это книг без ошибок, – усмехнулся иеромонах.
– Мои списки без ошибок, – упорствовал Леонид. – Их отец игумен проверял – ни одной погрешности.
– Гордишься?
– Так не собой. Таланты от Господа.
Отец Михаил пружинисто поднялся со своего камня и направился в пристройку. Шаги у него были ровные, словно и не бражничал весь вечер. «Что ж я-то все сижу и сижу?» – спросил себя Леонид и дернулся, чтобы подняться с земли, но тут же осел: голова у него закружилась, чуть не упал. Сидел – хмеля в себе не замечал, а зелье его одолело.
Иеромонах вышел из пристройки, в руках – книга. Он уселся рядом с братом Леонидом и поднял верхнюю доску.
– А вот мое письмо, – сказал он благодушно.
Заглавие было выведено крупным уставом.
– Откровение огня, – прочитал Леонид вслух. – Что за книга такая?
– Мои буквы летящие. Летят со сложенными крыльями, как ангелы, – говорил отец Михаил, словно не слышал вопроса. – Что скажешь?
Только заглавие было уставно, остальное – скоропись. Брат Леонид скривился.
– Спешное письмо. – И стал читать вслух:
– «Падающий в землю, скользящий по сторонам, уходящий в невидимость, возносящийся ввысь, потупленный, прямой, горящий, мрачный, пристальный – изменчив твой взгляд, отроче, и мир меняется вместе с ним. Мир мал, мир велик, мир полон, мир пуст. И кажется, что этот мир один. Кажется, что ты и сам один. Кажется все, отроче, в том числе – одиночество…»
Отец Михаил захлопнул книгу. Брат Леонид отпрянул, словно получил толчок в грудь, и перевел взгляд на старика.
– Что это за книга, отче? Кто сказал такие слова?
– Я сказал.
– Ты?! Дурачишь. Ты их списал.
– Нет, то были мои слова, душа моя, – повторил иеромонах. – А дальше – отца Евлария.
– Какого отца Евлария? – перепросил знаменец и в следующий миг сам понял какого. – Отца Евлария?!
– Слышал о нем?
Брат Леонид, не сводя округлевших глаз с отца Михаила, оторопело кивнул головой.
– И что слышал?
– Что чудотворец был, таинственник. В тайности тут у вас жил, в тайности почил, – говорил Леонид, а сам думал о другом. – Чего я не пойму, это откуда ты его слова знать можешь?
– От отца Георгия.
– А тот – от кого?
– От отца Пахомия.
– А он? – продолжал доискиваться брат Леонид, что травнику вроде даже и нравилось. Тот называл знаменцу все новые и новые имена и наконец сказал:
– А отец Константин – от самого отца Евлария.
– Вот ведь как, – выдохнул, как простонал, Леонид, – значит, друг другу тайны передавали. И никто их больше не знал?
– Никто.
– Так разве ж так дозволено? – прошептал молодой инок.
Отец Михаил поднялся с камня и скрылся в пристройке. Книга осталась лежать на земле. Знаменец передвинулся к ней, поднял доску и нашел место, на котором остановился.
«Тепло опускается в бездну, – читал дальше Леонид, беззвучно шевеля губами. – Бездна прохладна. Заглянув в нее, не отвернешься. Темъ дышит неровно. Дыши с нею, и исчезнет страх. Гул уходит ввысь. Высь уходит внутрь. Глубины вздымаются, разлетаются в стороны. Видишь внизу Млечный Путь? Нет меры в пространстве, нет соразмерности. Всюду играет…»– тут он спотыкнулся о слово, которого не знал, и в тот же миг услышал рядом голос иеромонаха:
– Чего ты спешишь?
Знаменец отпрянул от книги и уставился на огонь, не осмеливаясь взглянуть на старика.
– Потом прочтешь, – добавил тот. – Спрячь ее у себя.
Смысл сказанного отцом Михаилом не сразу дошел до молодого инока.
– Ты мне ее отдаешь?
– Хочешь?
– Почто?
– Так берешь?
Спешно, словно надо было бежать, брат Леонид схватил книгу и засунул ее за пазуху.
– Почто мне? Почто не выбрал кого из своих?
– Свои-чужие, какая разница?
Леонид прижал книгу рукой посильнее к телу и зажмурился от блаженства.
– Ты, отец, скажи все же прямо: мне даешь свою книгу или отдаешь ее через меня в нашу обитель?
– Ваша обитель, должно быть, уже сгорела, – услышал знаменец в ответ.
– Господи, – простонал он, вспомнив о бандитах.
– И Захарьина пустынь сгорит, – прорек старик.
Леонида передернуло: «Бежать надо!»
– Не надо бежать! – сказал отец Михаил.
Ровно дышала природа в эту ночь. Тусклый полумесяц едва выделялся среди созвездий. Костер отца Михаила был ярок, и только он. Котелок был убран, и свободный от пользования огонь еще больше притягивал взгляд Леонида.
Сколько они уже молчали? Знаменец перестал чувствовать время. Он и себя почти не чувствовал – если бы не ком в горле, он бы себя совсем забыл. Ком зашевелился, и Леонид услышал собственный голос:
– Всюду играет энергея…
Произнеся эти слова, он очнулся. «„Энергея“ – так это то слово, что в книге было!..»
Старик по-прежнему смотрел в огонь и, похоже, ничего не слышал.
– Отче, – позвал брат Леонид. – Что такое «энергея»?
Иеромонах словно оглох. В следующую минуту слух молодого монаха резануло конское ржание и ночь ощутилась иначе: душной, черной, страшной.
– Отче! – позвал Леонид приглушенно. Он пододвинулся к старику и дернул его за рукав. – Отче, слышишь коней?
– Кочары на подходе, – спокойно отозвался Михаил.
– Что теперь будет?
– Не бойся.
* * *
Шло время, была уже вторая половина апреля. Я работал большей частью в отделе рукописей Библиотеки Ленина над своей диссертацией. После разговора с Парамахиным я был в АКИПе раза два-три и попадал в дни дежурства Тани-Мальчика. Когда я наконец увидел Сову, то сразу отметил, что угрюмая библиотекарша преобразилась: она ходила теперь с распущенными волосами, красила губы и проявляла несвойственную ей прежде приветливость.
– Чудо еще не произошло? – спросил я ее как сообщницу.
– Какое чудо? – не поняла она.
– Я имею в виду возвращение на место подлинного «Откровения огня».
– А, вы об этом! Это безнадежно.
Я посмотрел на нее в недоумении: как это понимать?
– Значит, выйти на след рукописи не удалось?
Она отрицательно покачала головой.
– Следует понимать, что проверка уже закончилась?
– Какая проверка? – насторожилась Сова. Было похоже, что она ничего о ней не знала. Оставалось думать, что Парамахин решил скрыть это дело ото всех, кроме меня. Взяв полученные от Совы рукописи, я отправился работать к своему столу. Не прошло и получаса, как передо мной вырос сам Парамахин. Тот же костюм, то же выражение лица.
– Можно вас на минуту?
Мы вышли на лестничную площадку, как и в прошлый раз.
– Я заглянул в читальный зал и увидел вас, – сказал он мне. – Как ваши дела? Обнаружили еще что-то интересное о кенергийцах?
Узнав, что неожиданности больше не происходили, Андрей Алексеевич заявил:
– Наверное, вы получили все причитавшиеся вам сюрпризы одним разом. Я до сих пор нахожусь под впечатлением вопиющей заурядности обстоятельств, благодаря которым вы вышли на «Замечательную находку» в «Историческом вестнике». Вот и у меня такая же привычка: прочитаю нужную статью в журнале и потом обязательно его пролистаю – мало ли еще что там имеется интересного. Но почему-то мое любопытство пока ни разу не было вознаграждено – вам же выпала удача, да еще какая! И с Сизовым вам поразительно повезло: обнаружить мимоходом единственный источник информации – такое ведь тоже случается редко. Сразу после нашей последней встречи я познакомился с материалом о Захарьиной пустыни в «Любителе древности». Ну и история! Загадочное начало, загадочный конец. Должен сказать, последнее чудо в Захарьиной пустыни – так называемое «действо» во время ее осады – мне показалось более впечатляющим, чем чудеса Евлария. Вы помните описание этого события в следственном деле, пересказанное Сизовым? Я имею в виду некоторые подробности в докладной офицера, руководившего осадой, который узнал о случившемся от очевидца. Там есть одна любопытная деталь: участники «действа» стали после него «тихими». Похоже на шок, вы не находите? Я могу это себе хорошо представить, очень даже хорошо! А потом вдруг какая-то дремучая уголовщина. Кто пролил кровь и зачем? Как связать одно с другим? И куда все же делись люди? Неужели правда сгорели вместе с монастырем, как заключило следствие? Среди них, помнится, была беременная женщина, подруга атамана. Эта подробность делает конец Захарьиной пустыни особенно драматичным. Впрочем, есть одно обстоятельство – неизвестное Сизову, но известное вам и мне, – которое заставляет думать, что по крайней мере один из осажденных спасся. Как бы тогда уцелело «Откровение огня»? Последний кенергиец оставался в Захарьиной пустыни до конца, а значит – и эта книга. Кто-то должен был вынести ее из монастыря, чтобы она спустя сто лет могла обнаружиться в Благовещенском монастыре под Тамбовом, а потом, еще через сто пятьдесят лет после этого, попасть в фонд АКИПа. Разумеется, такое рассуждение оправданно, если верить, что сообщение о кенергийской рукописи в «Историческом вестнике» отражает действительность и что это именно она поступила к нам в 1938 году. Хочу вам признаться, что в последнее я верю все меньше.








