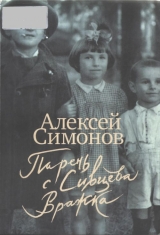
Текст книги "Парень с Сивцева Вражка"
Автор книги: Алексей Симонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
Наличие высокопоставленных личных заступников сильно подталкивало процесс реабилитации. Настолько, что совсем независтливая моя мать, бьющаяся за пересмотр теткиного дела в военной прокуратуре и в суде, не может удержаться от обиженной интонации. Остается объяснить, почему Свету-Стеллу мама называет «Катей». Не знаю. Здесь совпадает все, кроме имени, а с другой стороны – сколько еще таких секретов Полишинеля выдумали мои родичи за пять лет подцензурной переписки, включая секреты, так мною и не разгаданные.
Стелла Семеновна, в общежитии Света, оказалась, как и многие другие дети врагов народа, сиротой в детском доме, и как она выживала в первые годы после ареста родителей, можно себе представить по многочисленным жизнеописаниям людей схожей судьбы. Меня интересует лишь факт поступления Стеллы Корытной на филфак МГУ в годы войны, откуда и ее, вслед за папой и мамой, призвала к отсидке Страна Советов, и оказалась она в Воркуте еще раньше тетки.
Контингент женского воркутинского лагеря состоял из основных двух призывов с небольшими посторонними добавлениями. Призыв 37-го и набор конца 40-х – начала 50-х. Последний делился на две неравные части: большинство были молодые женщины арестованные за связь с иностранцами. Ну тут понятно: были победа и дружба, а потом совершенно безотносительно к судьбе отдельных граждан и особенно гражданок победа в одночасье переросла в холодную войну. И все недавние друзья (штатские и военные) мгновенно превратились в нежелательных и подозрительных иностранцев, общаться с которыми, а уж тем более водить романы, стало изменой родине – за что большинство из них, не успев этого осознать, отправились в места не столь отдаленные. Меньшую часть второго призыва составили евреи, пострадавшие по своему 5-му пункту, но, как всегда у нас бывает, получившие свои сроки вовсе не за это, а по индивидуально или коллективно подобранным обвинениям в саботаже, как это написано было в деле моей тетки – «за злостные завышения заявок на снабжение металлом». Тетка сидела по знаменитому зисовскому делу, о котором по Москве ходили упорные слухи, что зоо евреев хотели взорвать ЗИС. Подготовку взрывов им не шили, видно, лень было органам изобретать от нуля всю технологию: взрывчатку, капсюли и бикфордов шкур. Поэтому каждому выписали обвинение в исполнении своих служебных обязанностей, но… с вредительским уклоном. Дали, правда, от всей души, тетке так двадцать пять лет строгого режима.
Вот в такой компании и оказалась молоденькая филологиня, Света Корытная. Там, в лагере, она… впрочем, что ж я все своими словами? В последней главе «Прозаического комментария к поэтической биографии», сопровождавшей или, скорее, обрамлявшей 100 сонетов Гийома дю Вентре, Харон сам описал эту историю так:
«…Накатавши тачку с глиной или доведя себя до соответствующего состояния иными занятиями, девчата и женщины расходовали избыток сил… на поэзию. Вспоминали и читали друг другу, вероятно, все подряд – пока однажды, исчерпав запасы классики и современности, одна из них стала припоминать сонеты дю Вентре – ну да, в нашем переводе: другого отродясь не было. И надо же было, чтобы чтица хорошо знала переводчиков, – сами понимаете, она слегка романтизировала нас. Ну, в смысле силы духа и прочих эпитетов, обладающих среди прекрасного пола какими-то особыми чарами».
К этому добавлю очевидное уже проницательному читателю, что упомянутой «чтицей» была моя тетка, Софья. А сонеты Гийома попадали на «Кирпичный завод» через мою маму, одну из немногих, с кем Харон переписывался во всех лагерях и ссылках, невзирая на роман мамы с поэтом Симоновым, выход за него замуж и рождение меня. Как уж там они все это обшучивали, семейный архив писем не сохранил. Но то, что Света влюбилась сначала в Гийома дю Вентре, а уж потом в Харона – это исторический факт. Впрочем, я забежал вперед.
Последний, досветин, брак Харона можно было бы описать формулой «встретились два одиночества». Так оно, скорее всего, и было. Лучше я снова сошлюсь на самого Якова Евгеньевича. Ссыльный Харон в это время руководит в средней школе городка Абан кружками:«хоровым, драматическим, фотографическим, автотракторным, художественного слова и черт его знает какими…». Вот что пишет он из Абана в Воркуту, в апреле 54 года: «… вскоре после моего приезда в Абан, я, конечно, снова женился. Так уж повелось, что везде, где приказывали жить, я обзаводился семьей, что вполне соответствует интересам государства. Насчет деток – бог миловал, тем более что у моей супруги не так давно второй сынок пошел в армию служить, а первый свою дочурку на будущий год в школу пошлет. Ну ладно, ты не падай в обморок: Маргарита Александровна хоть и не девочка, но вполне еще женщина бракоспособная, чего и вам желаю. Она – актриса, училась в свое время в Камерном, <…> в общем – культурнейший, талантливый, чуткий, начитанный, добрый, остроумный и т.д. товарищ. Меня полюбила в припадке временного умопомрачения, иначе не объяснишь. Живем мы душа в душу и как еще придется <…>. Она руководит самодеятельностью в соседней школе. В общем – соревнуемся и помогаем мы с ней друг другу, и в повседневных суматошных делах время бежит достаточно быстро. К сожалению, оба мы не умеем зарабатывать денег, что и определяет наш модус вивенди с точки зрения бытовой».
Но основная тема писем, естественно «реабилитанс».
Тетка Соня в каком-то из не дошедших до нас писем, очевидно, писала Якову о своем взгляде на систему реабилитации, что реабилитируют по имеющейся, хотя и официально не опубликованной, разнарядке, по каким-то категориям, и, отвечая ей, в самом конце, прежде чем втиснуть под обрез письма еще не известный в Воркуте сонет Гийома, Яков отзывается на эти ее рассуждения: «…Чтоб уж положить конец этому утомительному анализу по недостойному поводу – официально информирую тебя, что 25-го марта, вопреки собственным убеждениям и только ради того, чтобы больше меня не пилили, написал и отправил мощную бумагу в Ген. прокуратуру. Все. Ви/а/лох/ин коп, как говорят сенегальцы, поможет она автору. (На идиш это бессмертное выражение в переводе с „сенегальского“ означает „Как дырка в голове“.) Дай боже, чтоб я ошибся».
Он таки ошибся. Судя по дате следующего письма, уже в первых числах мая, т.е. через месяц после отправки предыдущего, Харон с Маргаритой Александровной уже у нас с мамой, на Зубовской. Она – милейшая немолодая дама, что-то немедля взявшаяся кроить в гостевом отсеке на полу нашей с мамой комнаты: то ли плащ для моего школьного спектакля, то ли накидку для себя. Харон, кроме высоких и очень ему идущих залысин, был внешне юн и большую часть времени проводил на одном табурете, обняв ногами другой, на котором стояла мамина «Эрика», и прямо на машинке достукивал недоделанные сонеты, предпочитая это занятие любым походам в город, в том числе и по поводу своей грядущей реабилитации. Для молодых читателей необходимо добавить, что пропуском на выезд из ссылки служило сообщение об освобождении, справку о реабилитации получали уже по месту жительства.
В этом письме из Москвы от 4 мая он сообщает в ту же Воркуту свои первые впечатления, что известная ей, Сонечке, Стелла вцепилась в сонеты, которые он закончил править на прошлой неделе (значит, приехали они в 20-х числах апреля), «перепечатал их и завещал Женюре: когда-нибудь, став мемуриальной редкостью, они дойдут, быть может, до заинтригованных потомков». При этом сообщает мини-рецензии: на спектакль «Баня» – «не вызвала энтузиазма», о постановке «Чертовой мельницы» в Театре кукол Образцова – «совершенно изумительна», о Верочке Марецкой в «Краже» – «не стареет, понимаешь? Снова 25 лет человеку!!» и о «верхе блаженства» – еврейских песнях Шостаковича в исполнении Нины Дорлиак и Зары Долухановой (у рояля – автор).
Яков глотает художественные впечатления как удав, с той только разницей, что делает это, не впадая в спячку, со всем сбереженным за 17 лет отлучки азартом. И уже начинает работать на Алма-Атинской киностудии, сразу и навсегда забыв, что всего полгода назад писал тому же адресату:
«…В течение скоро уже двух десятилетий лично я делаю совсем не то, к чему имею способности. Можно себе представить, как это меня бесит – если к тому же принять во внимание, что результаты деятельности других людей на „моем“ поприще отнюдь не подтверждают в моих глазах утверждение насчет „незаменимых нет“. Это бешенство, эта неукротимая ярость по поводу моего устранения от любимого дела, подкрепленная точным знанием, что и обществу – государству это мое устранение, скорее, вредно, нежели пользительно, поддерживает во мне какое-то минимальное желание дожить до того дня, когда я снова смогу работать „по способностям“, т.е. стать полноценным человеком. Сейчас же, по моему глубокому убеждению, я зря жру советский хлеб – я его не заслужил!»
Теперь он, слава богу, этот свой хлеб зарабатывал в любимом своем кино.
И пора вернуться к Свете (Стелле, она же Катя). Все-таки я был первым после лагеря мужчиной, с которым она проснулась в одной комнате. Мне шел пятнадцатый год, я был строен и спортивен, и пушок над губой уже можно было принять за усы. Я был влюблен, это у меня с молодости носило публичный характер. И тормозом в моих отношениях с девочкой, в которую я и был влюблен, как мне тогда казалось, была моя проявившаяся на уроках танцев неуклюжесть: я никак не мог освоить вальс. Света была тут компонентом, скорее, случайным: двумя или тремя днями раньше она приехала от тетки из Воркуты, первая на этом, ею проторенном, пути.

Света – она же Стелла – Корытная

Яша – он же Яков Евгеньевич Харон
Этих женщин с запиской от Сонюры было потом не то шесть, не то семь. Одну или несколько ночей они занимали гостевую тахту в нашей с мамой комнате на Зубовской, 4. Всем им было от 25 до 30 лет, трех, с которыми у матери потом сложились дружеские отношения, кого она позднее опекала и наставляла на путь истинный, я помню до сих пор. У них в моем тогдашнем ощущении, смысл которого я уяснил лет через пять или шесть, уже взрослым, была одна странная общая черта: их взгляд, которым они смотрели на меня в первое утро их у нас житья, что-то в нем было тревожное, вызывавшее чувство неловкости или даже озноба. Мне сейчас трудно его расшифровать – вот уже лет двадцать, как на меня этим взглядом никто из женщин не смотрит. В нем было что-то оторопелое и беспомощное. Ведь, как я уже сказал, я был первым существом мужского пола, в одной комнате с которым они – на свободе – провели ночь.
Потом мать звала нас к завтраку, и все заканчивалось. А в случае со Светой, еще до завтрака, она накидывала мамин халат, и мы минут пятнадцать исполняли: раз-два-три, раз-два-три, по скособоченному полу нашей комнаты. Света была моим личным тренером по вальсу. Ну а кроме того – у нас скоро появился общий жизненный идеал. Светка, правда, очень быстро вышла за него замуж, а это, придавая идеалу мелочные жизненные черты, его постепенно разрушает, мне же было легче и проще.
Месяцы с мая по август пятьдесят пятого – это бешеный галоп: Харон то в Алма-Ате, где устраивается на работу, то в Ялте, где помогает друзьям в съемках «Белого пуделя» по Куприну, то в Москве, словом, как уж там у них произошло, но 2 августа написанный от руки, в отличие от всех остальных писем Якова, напечатанных через 1 интервал на машинке, в Воркуту поступает вырванный из тетради в клетку лист:
«…Жизнь моя за последнее время начинает наполняться до краев такими сногсшибательными ланцадрицами, что не остается времени для сна, не говоря уже об эпистолярных украшениях…
Короче говоря, это письмо я пишу тебе, сидя за столом у моей молодой жены – небезызвестной тебе Стеллочки (Светланы). Когда ты очухаешься от обморока, в который повергло тебя это сообщение…»
Вторая сторона листка – почерк Светланы.
«Вам знаком мой супруг гораздо больше, чем мне, так что к его художественному свисту вы уже привыкли. Вы первая рассказали мне о Дальневосточном стихотворце, родив мечты о возможной встрече. Встреча состоялась с неожиданной концовкой. Я оченно, оченно счастлива, даже мечтать о таком не смелось…» А в конце приписка Харона:
«Запятые проставлены мной (Я. Х.). Ошибки устранены там же (Ред.). В остальном – еще неизвестно, кто из нас свистун!!!»
Квартира, откуда молодые пишут послание своей невольной свахе, – это, видимо, та самая квартира Светки и ее мамы на улице Шверника, где Белла Эммануиловна поселилась после возвращения из своей ссылки вместе со вторым мужем, таким же ссыльным, Давидом Менделевичем Шерманом, почти слепым человеком с выжженными глазами. Наша общая семейная легенда гласит, что Белла и Давид, получив разрешение вернуться в Москву, бросили все, захватили самое необходимое и остановили первую попавшуюся попутку, идущую в сторону железнодорожного вокзала. Беллу посадили в кабину, Давид влез в кузов. По несчастью машина везла бутыли с серной кислотой, и на одном из ухабов… Словом, приехали они, когда лицо чуть-чуть зажило, но зрение восстановить так и не удалось. Несмотря на усилия врачей, Давид с трудом различал признаки света. Я много раз видел этого маленького ироничного человека, не только никогда ни на что не жаловавшегося, но вносившего мир в это семейство, где исторические противоречия и конфликт поколений носили вполне конкретный и непрерывный характер.
А моя мать пишет Сонечке в июле 55-го все еще в Воркуту, несколько разрушая эту идиллию всеобщего возвращения: «…Сердечный привет всем вам от Стеллы. Ей, бедняжке, сейчас очень трудно. Отношения с матерью никак не налаживаются, и обстановка в доме очень тяжелая. Вот как устроен мир. Казалось, что б еще? А глядишь, и все мало» – в этом письме мама моя наконец-то вместо мифической «Кати» называет Стеллу – Стеллой впервые, но без каких-либо пояснений. Так это и останется для меня секретом: почему с самого Стеллиного приезда в Москву, описывая различные повороты и перипетии ее судьбы, мать зовет ее Катей, что за этим, каков тайный смысл псевдонима? Уже некого спросить.
Ну и раз уж я взялся за переписку сестер Ласкиных, попробую выбрать несколько кусков, иллюстрирующих или проясняющих ситуацию вокруг романа Якова Евгеньевича и Стеллы Семеновны.
Из письма от 7 сентября 1955 года: «Вчера я узнала, что Яша и Света написали тебе письмо с признаниями. Я сама была посвящена в это событие 4–5 дней тому назад ( прошу обратить внимание, что письмо, о котором идет речь, отправлено в Воркуту больше месяца назад, какой мадридский двор вокруг развернулся – не ведаю.– А. С.) При всем том, что я очень люблю Харончика, мне немножко жаль Стеллу. Но она такая яростно-влюбленная, что готова своротить горы. А Яша, со свойственной ему холодностью, совершил явно не очень честный поступок (Марг. Алекс. ничего не знает), а тут, как ему кажется, он обрел то счастье, которое вполне заслужил. В общем все это очень сложно. Ко всему прочему есть еще предыстория…» И в продолжение – из письма от 9 сентября: «Стелла вцепилась в Яшу мертвой хваткой со дня знакомства. Я это поняла сразу, но до отъезда Яши с М. А. в Алма-Ата только посмеивалась над этим. Решение о совместной жизни пришло в переписке (очевидно). Я подробности не знаю. М. А. ничего не подозревает. По приезде в Алма-Ата он должен ее посвятить. Ты ведь знаешь, что Яша эгоист и в общем человек холодный. Меня он уверяет, что обрел счастье. Я ему не верю, но понимаю, что жизнь в семье Стеллы в Москве, конечно, лучший вариант из всех возможных. Стелла же еще не понимает, что ее счастье пока заключается только в том, что вышло так, как ей хотелось. А что будет дальше, кто знает? Мечтают о сыне…» Уже больше полувека прошло, уже на свете в живых только этот сын, о котором они тогда мечтали, да я, добровольный Пимен этого давнего романа, а как интересно: как сильно в матери, для которой Яков – вечный и надежный друг, и Стелла, в сущности обретенная дочка, как сильна в ней солидарность с брошенной, которую, как ей кажется, обманули, как готова она обвинить двух счастливых перед лицом одного человеческого несчастья. Вот, что пишет она 5 октября: «…Несколько дней назад пришло решение по Яшиному (Харончика) делу. Он реабилитирован по делу 37 года и 48 года. Скажу тебе по большому секрету, что это дело взяла в руки Стелла, и еще до всех матримониальных событий, воспользовавшись своими связями, двинула вперед гигантскими шагами. Каким образом это произошло, я расскажу тебе лично, но ты об этом никогда ничего не знала и не подозревала <…>».
В ноябре 55-го Сонечка наконец вернулась в Москву. Вскоре Харон не только был реабилитирован, но и вместе с супругой получил собственное жилье в центре Москвы на Садовом кольце в двух шагах от Колхозной площади, напротив кинотеатра «Форум», в доме, построенном классиком советской архитектуры Жолтовским где-то в 53–54 годах. Более идиотской конфигурации комнат придумать было трудно: одна из них вообще была треугольной. По периметру пола эта теоретически трехкомнатная квартира была на несколько метров меньше, чем по периметру потолка – эдакая пирамида кверх ногами. Словом, нужно было употребить всю хароновскую жизнеутверждающую изобретательность, чтобы вписаться и жить там, да еще и гостей принимать. А вскоре в этом доме появился Юрка – ну как еще могли назвать своего сына Яша и Света? Конечно же, именем второго автора Гийома дю Вентре.
Дом был начинен всеми новинками электротехники, и Юрка научился включать свой проигрыватель со сказкой на ночь, чуть не раньше, чем говорить «мама». А с его «учить выговаривать буквы» была неслабая история, как папа, т.е. Харон-старший, долго обещал ребенку велосипед, если тот сумеет наконец выговорить твердое… «р», но обязательно в слове «синхрофазотрон». Пока наконец однажды Юрка не загнал его в угол и не продекламировал: «Синхрофазот-р-р-рон, синхр-р-рофазотрон, синхр-р-рофазотр-р-рон, когда купишь вер-р-росипед?»
В том, что я в конце концов стал режиссером есть немалая доля хароновского влияния. Учителями мы в жизни обычно называем тех, чьи принципы или методы мы переняли или усвоили. Но есть еще и третий вид такой учительско-ученической связи – сила жизненного примера. Пожалуй, в случае с Хароном определиться будет не так просто. Я лично остановился на жизненном примере, ибо жизненный принцип Харона: установка на шедевр – это то, что можно, конечно, иметь в виду, но крайне нелегко воспроизвести в жизни, тем более что и у самого Харона это ни разу не получилось довести до конца, до точки, ни разу не был он осуществлен в полной, удовлетворявшей его профессиональные амбиции, мере. Но ждал он шедевра от всех, с кем работал, и был крайне жесток в оценках, когда в силу тех или иных причин уровень сделанного не достигал задуманного или тем более заявленного. Поэтому с Хароном легко и приятно было общаться, приятельствовать, но работать с ним было трудно, а порой и мучительно. У него было одно удовольствие учиться, но реализовывать усвоенные приемы и правила лучше было с кем-нибудь другим, менее истово их исповедовавшим.
Помню, каким шоком была для меня реакция Якова Евгеньевича на только что вышедший и заслуженно популярный фильм Саввы Кулиша «Мертвый сезон».
«Для меня этой картины не существует, – отрезал Яков,– там в кадре подъезжает „Плимут“, а в фонограмме у него работает двигатель „Москвича“. Это халтура!» И никаких способов переубедить его, приводя в качестве аргументов массу актерских и изобразительных достоинств. Нет – и все.
Впрягаясь в работу, Харон совершенно искренне пренебрегал банальностями типа «знай сверчок свой шесток». Его касалось все. Так, в одной из немногих своих картин, которые он засчитал себе в плюс, – «Дневные звезды» Игоря Таланкина – именно Харон привел на пробы блистательно в конце концов сыгравшую в фильме Аллу Демидову. И Харон же в кадрах убийства царевича Дмитрия придумал и сам держал в момент съемок клизму с заменителем крови над телом убиенного младенца. Его собственная увлеченность кино была так велика, что он завлекал, привлекал и вовлекал в это занятие окружающих. Увлек и Стеллу, которая после защиты диссертации по Достоевскому стала заниматься киноведением и даже кинокритикой. Их дом на Колхозной стал типичным домом московской художественной интеллигенции: где читают, смотрят и обсуждают все новинки; где зарабатывают немного, но жить можно; где поят кофе гляссе, сделанным по особому хароновскому рецепту, когда к кофе и мороженому добавляется две чайные ложки виски; где обсуждаются все политические новости, правда, смысл этих событий каждый трактует по-разному – в зависимости от своего отношения к предыдущему лагерно-ссылочному опыту. Здесь возникали конфликты. И после снятия Хрущева и начала возвращения Сталина в историю и политику конфликты пошли серьезные.
Конфидант – человек, которому ты доверяешь свои тайны, сокровенные мысли, мучающие тебя сомнения. Так получилось, что конфидантом всех трех главных спорщиков этого дома – и Харона, и Стеллы, и Беллы Эммануиловны – стала моя мать, так что сотрясавшие внутренний покой дома противоречия доходили и до меня, бывавшего там от случая к случаю. В сущности, схема конфликта полностью соответствовала личному опыту его участников. Харон – среднее, беспартийное поколение, для которого арест был нелепостью, несуразностью – чем угодно, кроме закономерности. Белла Эммануиловна – старый член партии – свои 17 лет тюрьмы и лагеря считала одной из неизбежных ошибок товарищей по партии, в остальном все делавших верно и последовательно. И Стелла – младшая, раньше всех (не по срокам, а во возрасту) хлебнувшая ужаса сиротства и лагеря, к которой – единственной – точно подходило определение Шаламова, что лагерь – тотально отрицательный опыт для людей и вместе, и особенно в розницу. Люди, в повседневной жизни любящие, заботливо и нежно относящиеся друг к другу, уважающие друг в друге мужество и терпение, стоило возникнуть меж них призракам прошлого, срывались как с цепи. А призраки эти возникали регулярно, ибо большинство друзей, приходивших в дом, звонивших, тех, о ком заботились и чью заботу о себе принимали без внутреннего протеста, – все как на подбор имели те же изъяны в биографии, будь это племянник Беллы – вечный диссидент Петя Якир, тетка моя Софья или другие старшие подруги Стеллы по Кирпичному заводу.
Как идиллически описывал это Харон в комментариях к Гийому: «Небольшой возрастной разрыв <…> был все же достаточен, чтобы я сел в тюрьму юнцом комсомольского возраста, а теща моя – коммунисткой с изрядным стажем. Поэтому наши наблюдения и выводы носили несколько различную окраску и были нам взаимно интересны.
– А кого винить-то? – спрашивала моя теща с глубоким вздохом. – Мы совершали революцию, мы защищали ее на всех внешних и внутренних фронтах, мы сами строили государство. И если мы его так построили, что в нем – несмотря на ясные предупреждения Ленина – оказалось возможным возникновение культа и всех его трагических последствий,– зачем же искать виновников на стороне?»
Харон, со своей любовью к правильно поставленным запятым, конечно, являл себя миротворцем, но для Светы, чье восприятие прошлого носило характер не всеобщей, а личной трагедии, ужаса беспросветности, личного бесправия, страха, одиночества, каждый происходящий в жизни поворот к несвободе был драмой, и искать виновника этих драм в себе она не хотела и не могла. Жизнь становилась ужасом. Ужас – болезнью. Пока Харон извлекал из этих поворотов объективные несуразности, а Белла Эммануиловна – исторические уроки для отринувших марксизм, у Светы это был накапливающийся сгусток нездоровья, даже когда повод сам по себе был бытовым или нелепым.
Юрка Харон вспоминает, как в шестьдесят пятом, когда снятый уже со всех постов Хрущев жил на даче, их пригласили с мамой в гости, куда они приехали, то ли опоздав, то ли опередив назначенный час. Никиты Сергеевича с Ниной Петровной не было, они ушли за грибами, мама Стелла, с мамой Радой о чем-то заболтались, а Юрка с Васей – сыном Рады и Аджубея – тырили на кухне впервые увиденную Юркой молочную кукурузу, сваренную в початках. Так для Юрки в его жизненном опыте слились воедино Хрущев и кукуруза. Но ведь поездка к отставному генсеку уже была диссидентством и мама Стелла не могла этого не понимать, хотя и не поехать в гости к другу своего отца не могла. Ехала с сыном. Уезжала со страхом.
Здесь я перейду от фактов к догадкам. Мифическая «Катя» становится Стеллой именно тогда, когда матери становится понятной неведомая дотоле, но вполне просматривающаяся из последнего, рассказанного младшим Хароном, эпизода, связь между реабилитированной среди самых первых Стеллой Семеновной Корытной-Якир и лично, или через каких-то доверенных лиц, Никитой Сергеевичем Хрущевым. Тогда понятны и скорое освобождение Беллы, и невероятно быстрая реакция властей на просьбу Харона о реабилитации, и квартира в самом центре Москвы – все становится на свои места, а главное – абсолютно естественно, что эти связи не могли быть обнародованы, пока Никита Сергеевич занимал все ключевые посты во власти. В этой исключительности ее ситуации была и опасная черта: если ты не можешь объяснить, почему ты такой везучий, возникают подозрения, что твое освобождение сопряжено с каким-то постыдным поступком или подозрительными связями в твоем лагерном прошлом. А с другой стороны – связь эта настолько гиперболична для всеобщей повседневности, что объявлять о ней всем – нелепо, невозможно и даже отчасти стыдно. Теперь только представьте, как и чем оборачивается эта связь после снятия Хрущева. Она сама становится аргументом для обвинения тебя в антигосударственных побуждениях, а в собственном, достаточно воспаленном воображении – поводом для пересмотра всех тех благих результатов, которые тебе эта связь принесла.
Добавлю к этому, что, как удалось выяснить, отец Стеллы был не просто хрущевским приятелем, он был именно тем старшим товарищем, который вытащил Хрущева из Украины в Москву, где сделал первым своим замом по московскому областному комитету партии, т.е. определил его партийную карьеру. Не знаю, как по-партийному, но по-человечески у Никиты Сергеевича было достаточно причин относится к памяти Корытного с благодарностью. А Света и была этой памятью.
Но для нее вся эта исключительность была западней, а перемена в участи Хрущева – еще и двойной ловушкой. Подумайте о реакции окружающих, если даже моей матери невероятная скорость решения дел, за которые бралась Света, казалась чем-то если не предосудительным, то уж подозрительным безусловно. На этой истории надо было поставить точку, и жить дальше с чистого листа. Но сделать это Света не сумела, да и, как говорилось выше, вся атмосфера ее дома, дома ее матери, состав друзей и знакомых решительно этому противились. Света жила в настоящем, но все больше погружалась в ужас прошлого, которое представлялось ей неминуемым будущим.
Света предприняла три попытки покончить с жизнью. Две – с помощью снотворного, и Якову удалось оба раза их перехватить, откачать ее, привести в порядок. Но уже никакие «примочки» свободы в виде поездок с Хароном в Германию и Италию не могли снять с жизни тень нарастающего внутри ужаса. И в конце шестидесятых Света это все-таки совершила. На ее похоронах, на круглой площадке перед крематорием у Донского монастыря, где делятся своими грустными воспоминаниями все те, кто пришел проститься с покойником, Яков с каким-то перекошенным от странного восторга лицом, шепнул мне, глядя на собственную бесслезную, горестную, но бестрепетную тещу: «Посмотри, вот это женщина! Ни слезинки – железное поколение!» И не знаю, чего в этом было больше: восторга или трепета.
А потом Харон женился на моей памяти в четвертый раз. Женился на замечательной женщине – враче, которая была другом их со Светой дома и которая провела рядом с Хароном самые тяжелые его последние три года. В эти годы Якова окончательно догнал и в конце концов удушил лагерный туберкулез, и последние полтора года он то лежал в очередном приступе, то ваял на «Мосфильме» свой последний фильм «Гойя». Я – хоть убей – не помню хароновских похорон. Последнее мое о нем воспоминание живое и, я бы даже сказал, несколько макабрическое. Харон в постели, на высоких подушках – поза помогает ему дышать – рассказывает мне, как надо считать дни, чтобы женщину при соитии уберечь от беременности. Рассказывает в подробностях – с экскурсами в биологию животных и китайскую медицину. Происходит это в связи с моим последним огорчительным проколом по этой части, ликвидировать последствия которого помогала мне хароновская жена Неля. Харон, как всегда, ироничен, эрудирован и содержателен, и все это выдается на-гора в форме трепа, прерываемого тяжелыми приступами кашля. Я не знаю, что Харону жить осталось неделю, Харон об этом подозревает, но всепобеждающее учение Харона о том, что жизнь и смерть – это совершенно разные ипостаси существования, уравнивает слова говорящего и память слушающего.
– Ты бы взял бумажку – сроки записать, – говорит мне Харон. Я не беру бумажку, я помню все им сказанное в тот день, как когда-то помнил стихи дю Вентре, строфу за строфой.







