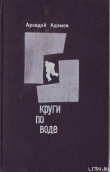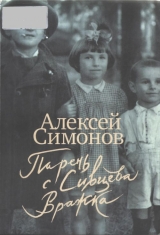
Текст книги "Парень с Сивцева Вражка"
Автор книги: Алексей Симонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
Выбирать учителей, как это умел делать незабвенный замгенсекмежфедуч Таптыков, у Ермишкина, видимо, не получалось, и военное дело вел у нас туповатый майор в отставке, молодцеватый солдафон, обожавший водить нас строем. Вспомним, что это год примерно пятьдесят пятый, в школе повсеместно введена военизированная мышиная форма с высоким стоячим воротничком и без карманов, что мы, как ни верти военное поколение, и эти занятия в принципе нас, скорее, развлекают, чем злят и, наконец, карабинов у школы полный комплект, и, рассверленные, они снаружи имеют вполне воинственный вид. Майор раз в неделю гонял нас по системе «К но-ге! На-пле-чо! Шагом марш!», и в тот злополучный день у нас как раз были строевые занятия. Пока мы это делали в школьном саду, никакие тревожные мысли нас не посещали, но когда он вознамерился строем вести нас в школу, в наших, еще не строевых, мозгах что-то забрезжило, и мы довольно мирно попытались объяснить ему, что в школе… в общем… гости. При слове «гости» майор втянул живот, выпятил грудь и заорал: «Стройся!» Мы построились в колонну по одному, взяли карабины «На-пле-чо!» и радующим глаз майора маршем, стараясь печатать шаг, вышли из-за школы прямо в объектив луковского фотокора. Камера его работала с непривычным нашим фотоаппаратам стрекочуще длинным звуком, словно пулемет. Звук этот помню до сих пор. Не вру. Видимо, и потому, что спустя какое-то время в журнале «Лук» была напечатана статья о нашей школе с фотографией нашего класса «Б», где особенно отчетливо был виден правофланговый, мой однофамилец – Вова Симонов с карабином на плече, а подпись под этим художеством гласила: «Вот, что скрывается за улыбками советских руководителей и за их изъявлением дружеских чувств к американскому народу». Жертвами холодной войны были назначены майор – он с тех пор в нашей школе не появлялся – и директор, как ответственный за все.
Может быть, я к Николаю Игнатьевичу несправедлив, и перемены в его характере объясняются еще и тем, что у него наверху не было той крыши, которая охраняла его предшественника, а это заметно меняет отношение к делу, особенно если ты этим делом дорожишь.
Ведь и я лет двадцать спустя испытал отвратительно сладкое чувство отмщенности, когда прочел, что журнал «Лук» прекратил свое существование, съеденный другими акулами пера на рынке иллюстрированных журналов.
Потом наступил период, когда Ермишкин в беседах со мной с глазу на глаз стал приводить мне в пример нашего школьного родственника, Георгия Максимилиановича Маленкова, который, не справившись с обязанностями Председателя Совета Министров, осознал это и сам подал в отставку. Ну, на это я, будучи типично советским юношей, пошел в райком партии и не помню уже кому из инструкторов всерьез пожаловался, что директор пытается заставить меня отказаться от комсомольского секретарства с помощью странных, и уж никак мне не доступных по масштабу идеологических примеров. В общем я тоже был – не сахар. Однако воевание мое с директором мне авторитета набавляло, а ему ну совсем было не в масть. И решил Николай Игнатьевич опрокинуть мои бастионы одним административным ударом.
Как-то на утренней линейке, было это в самом начале выпускного уже класса, встал Николай Игнатьевич в грозную позу и гневно-осуждающе объявил, что этот наш комсомольский вождь, который с таким жаром отстаивает самостоятельность и независимость комсомола, как ему, Ермишкину стало известно только вчера, оказывается… курит. И он, директор, так этим возмущен, что требует его (т.е. моего) наказания, которое пусть уж классное собрание определит, а он его (т.е. меня) пока что из школы исключает.
Курили в школе многие. Я к тому времени курил уже года два, из которых полгода – дома, при матери. Маме надоело выгребать табак из форменных моих брюк, да и сама она курила всю жизнь, и сказала мне мама мудро и просто: «Если куришь – кури дома, нечего по углам прятаться». И серовато-розовые пачки «Дуката» с дымящейся голубой сигаретой на обложке перестали быть неловким секретом, а стали привычным удовольствием. Я, кстати, и по сей день курю. Правда, не «Дукат» – его уже лет сорок пять как не выпускают, но курю, а первую любовь – по десять штук в пачке за семь копеек – вспоминаю с нежностью.
Уходил я с линейки с демонстративно поникшими плечами, дескать, принял как должное, под завистливые взгляды таких же грешников, как я. Вышел из школы, расправил плечи, солнышко грело, хорошо! – и пошел… в кино. Через неделю такой лафы в школу меня вернули – ну нельзя же допустить, чтобы идущий на медаль ученик столько времени без дела дурью маялся. Указание о наказании поступило, видимо, сверху, а собрание было – замечательное надо сказать собрание, доказывающее, что в команду нас учителя все-таки сбили, соединили, хотя команды у нас с ними в итоге оказались разные. Ребята-одноклассники, даже те, кто и вида сигареты гнушался, все как один каялись, что и он раз попробовал, а он летом в деревне с деревенскими, а я у папы папиросы воровал, а я … ну и так поголовно, сделав из судилища посмешище. И все бы хорошо, и вспомнить приятно, но сам я себе на том собрании не понравился: со лживым смирением повторял, что больше никогда… и порвал пачку «Дуката», вынутую из форменных штанов. В форменной тужурке, как я уже говорил, карманов не было, а за театральный жест стыдно по сию пору, да и пачку «Дуката» жалко, тем более что, выйдя на улицу, не сразу нашел у кого бы стрельнуть закурить.
Ну что, пора бы и закрыть за собой двери школы, но забыл чуть ли не самое главное: школа-то до 55 года была мужская, а когда школы стали сливать с женскими, у нас в 9-м классе ( я тогда перешел в 10-й.– А. С.) появилась первая девочка, и все ходили смотреть на нее как на чудо. Для восьмых классов девочек уже нашли не то три, не то четыре, а потом – после моего выпуска – это стало привычным. Эта важная тема остается незатронутой, а она существовала, да еще в классической упаковке «мужской» школы, и обозначим мы ее возвышенно: «О воспитании чувств».
В седьмом классе у нас начались уроки танцев, и поскольку время однополых школ уходило, танцевать нас учили не «шерочка с машерочкой», а пригласив для этого ближайшую «женскую» школу. И учил нас танцам настоящий стиляга, в брюках дудочках, с коком, в светло-желтом пиджаке в серую клетку на набивных плечах. Было этому чуду лет от силы двадцать два, двадцать три, звали чудо Лев Николаевич, как Толстого, а фамилия у него была Литвак. Я потом много лет прожил с этим солистом характерных танцев из балета Театра Станиславского и Немировича-Данченко теоретически в соседних, а практически в одном доме – мой адрес: Аэропортовская, 4, его – 4 а. Дом стоял вдоль улицы уступом, и это были первые два кооператива во впоследствии разросшемся в районе Аэропорта кооперативном поселке. Первый – писательский, второй – их театра. Ростика он был незначительного и в соответствии с обликом носил туфли на толстой белой подошве, по тогдашнему – на манной каше.
Сейчас одно название танцев, которым нас тогда учили, вызывает смех: па-де-грасс, па-де-патенер, па д'эспань, и вспомнить, чем один из них отличался от другого, боюсь, даже Литвак бы не смог.
Стайка барышень, составленная из двух параллельных классов – все в школьной коричневой форме с белыми передниками, – оживленной, но слегка пугливой нахальностью напоминавших синичек, заполняла наш актовый зал, в котором стулья по этому случаю были расставлены вдоль стен. Привели их, как водится, две дуэньи, пожилые и мрачно озирающиеся училки. Видимо, легенды о пороках, царящих в нашей элитной школе, девочек, скорее, привлекали, а их училок сильно напрягали.
Со стуком приставляя ножку и зажато подергивая головой, что означало поклон, мы стали разбиваться на пары. Трепета не помню, но руки были отчего-то влажные.
Уже уроков через несколько мы стали с танцевальных поскакалок этих выходить не строем, а разбиваясь на группы. В нашей компании оказались три девочки, наши ровесницы: Мила, обладательница двух толстых кос, прелестная Соня, словно прорисованная штрихами туши на алебастрово-белой бумаге, застенчивая от скрываемой близорукости, и Оля – самая незажатая, курносая, очаровательный лидер и очень хорошо танцевавшая. От общей заорганизованности быстро возникли постоянные пары. А у нас – в этой микрокомпании – появилась минимальная свобода выбора. Но все испортил Литвак. Он быстро сориентировался и показывать очередное па брал всегда Ольгу, танцевавшую лучше остальных. Пока учили бальные танцы, где контакт между партнерами сведен к минимуму, это еще можно было стерпеть, хотя, согласитесь, нет большего позора, чем остаться в публичном одиночестве, когда вся вселенная разбита на пары. А ты не просто одинок: с твоей парой отплясывает этот козел. Но уж когда стали осваивать вальс, а его «раз-два-три» с рукой, лежащей у партнерши на талии, заставляли деревенеть не только меня, я с неприятной регулярностью оказывался у стенки, пока Литвак кружился с «моей» Олей.

Наши девочки – партнерши по танцам. Слева в верхнем ряду: вторая – Мила, третья – Соня, а пятая – та самая Оля
Надо было срочно освоить вальс, требовалась свобода и непосредственность, которые, как тогда казалось, приходят от регулярного повторения. И я стал репетировать дома.
В нашей с мамой комнате на Зубовской в эти годы регулярно жили или останавливались на время солагерницы моей тетки, начавшие постепенно освобождаться из Воркуты с «Кирпичного завода». В описываемый момент – а это не то осень пятьдесят четвертого, не то ранняя весна пятьдесят пятого, в гостевом отсеке нашей, разделенной занавесками, но все-таки просторной, комнаты временно жила Света Корытная. Эксплуатировал я ее нещадно. Сразу после подъема, накинув халат, Света крутила со мной эти «раз-два-три» охотно и неутомимо, пока мама варила нам кашу на завтрак. Я уже рассказал в своих заметках об этих удивительных женщинах, время от времени населявших нашу квартиру, и о Свете – отдельно, ее судьба стала частью судьбы нашей семьи, так что вернусь в школу.
Хоть я и крутил вальс только по часовой стрелке, но делал это вполне прилично, и когда проклятый Литвак в очередной раз оккупировал мою партнершу, я пошел в разгул от ревности и бессилия: стал приглашать всех свободных дам одну за другой.
На мое разнузданное поведение мегеры сопровождения отреагировали быстро и неприязненно: девочки донесли, что одна из них пыталась запретить своим барышням принимать мое приглашение: «Вы там смотрите, это ж Симонов. У него папа – писатель. В их кругах так водится – богема, свободная любовь и так далее». Именно ревность вызвала во мне тайное, но плохо умещающееся в организме, чувство собственности, и я начал выяснять с Олей отношения через Милу и Соню. Это не мешало нам всем вместе встречаться, гулять по Сокольникам, провожать девочек домой, словом, дружить – так это называлось, да так оно и было до конца десятого класса. А где-то в его середине я написал свое первое стихотворение, оно, конечно, было посвящено Оле, хотя именовалась она там ангелом. Мама моя, с которой я и тогда, и потом делился самым сокровенным, пришла от моей поэзии в ужас, но не подала вида и стала по вечерам закидывать в мою потрясающую тогда память на стихи совсем другого качества поэзию.
А первый роман был у меня в то же самое время, но совсем с другой девочкой, к школе никакого отношения не имевшей, с ней я первый раз и поцеловался, и пообжимался, и больше ничего не было. Все остальное было после, после школы, после «броска» на полюс холода, после того, как я по крайней мере в собственных глазах стал взрослым.
И даже то, что на выпускном сочинении я гладил бедро нашей школьной медсестры Тони, у которой в кармане халата теоретически помещались необходимые в этот момент шпаргалки,– было просто предвестьем. Шпаргалки мне были не нужны, а вот залезть в карман и пошарить – это нравилось Тоне, нравилось мне, но это было уже предчувствие другого времени.
Мама, папа и дядька Луговской

Луговской и Симонов – пока еще Кирилл, 1936 г.
«Итак, начинается песня о ветре» – острый мыс шевелюры над мохнатой чайкой бровей, словно их обладатель долго шел навстречу ветру, сразу встает перед глазами, и песня эта – о нем.
Я не могу помнить его довоенного – слишком мал, но он считался моим крестным: есть семейное предание о родильном доме, бродящем под его окнами Луговском и Будде, помогающем при родах, коего он совал матери в окно.
Я не бывал у него дома. Точнее, в его доме я бывал часто, но после, потом, когда его присутствие было уже не реальностью, а тщательно оберегаемым ритуалом. И помню его в его доме только как заметное, подчеркнутое отсутствие, с 6 июня 1958 года – первой и с той поры ежегодно отмечаемой годовщины его смерти, культивируемое его вдовой Майей, – шумное, трогающее, а в чем-то неловкое, неразборчивое в приглашениях.
Самое живое из личных воспоминаний – довольно рискованное и требует некоторой архитектурной преамбулы.
С той поры как я пошел в 1-ю школу, мы жили с мамой, на Зубовской площади, во дворе, в двухэтажном флигеле, который ныне исчез и на этом месте красуется имперский утюг, построенный вроде бы для МЕНАТЕПа, а потом заселенный Счетной палатой – его видно прямо с порога моей нынешней работы. Флигель этот, по семейным хроникам, был выстроен на скорую руку из материалов, уворованных со строящегося рядом шестиэтажного здания, и в период НЭПа продан поквартирно тем, кто в то время мог себе позволить купить жилье. Одним из этих – тех – был мой дед, который купил эту квартиру то ли для дочек, то ли для себя, но пожить в ней не успел, ибо НЭП кончился, а нэпманов полагалось уплотнять и ссылать. И то, и другое с дедом было проделано, и в результате в сорок девятом году, когда я уже себя хорошо помню, нам с мамой в этой квартире принадлежала одна комната из трех.
Построенный наспех, дом имел одну поразительную особенность: несущая конструкция в нем просела, но ни одна паркетина при этом не вылетела. И очень элегантная, в два света, угловая, чуть не тридцатиметровая наша комната имела разницу уровней сантиметров в пятьдесят. За дверью, над самой просевшей балкой находились прихожая и кухня, а в противоположную сторону – к ванной и уборной опять шел подъем, да крутой, круче, чем в комнате: к сортиру на вершине надо было взбираться на семидесятисантиметровую высоту.
В этой комнате с кривым полом, разделенной на три части шкафом, двумя книжными полками и соединявшими их алюминиевыми трубками, где на толстых кольцах легко передвигались тяжелые грязно-вишевые гардины, я и помню Луговского.
Мать посылала меня сопровождать дядьку – так в нашем семейном обиходе звался Луговской – когда он, а бывало это с ним нередко, приходил в гости и принимал лишнего. С беспомощной свирепостью, опираясь на мое плечо, он одолевал подъем к сортиру, предусмотрительно превратив это в игру: – Ну, Алексей, пошли на штурм, – говорил дядька, и я пер его в эту гору, ощущая себя деятельным и полезным членом общества. Помнится, на спуске, отказавшись от моей поддержки, он как-то раз ссыпался к нашей двери.
Был ли у них с мамой роман? Скорее всего, был, хотя доподлинно я этого не знаю, мать в отношении своих личных дел была и в старости неболтлива. Дядькина вдова – Майя тоже считала, что был, но затруднялась определить, когда. А я, глядя назад с взрослых мужских вершин, должен сказать, что у Луговского должен был быть роман со всякой женщиной, на которую он обращал внимание, потому что самым красивым из всех, кого я видел и слышал, был именно Луговской. Сочетание мощи и нежности, которую в нем я и тогда ощущал, было такое, что ни одна женщина, как мне кажется, устоять перед ним не могла. Я ведь не случайно говорю «слышал» – в каждом стихе Луговского я и по сей час выделяю его могучие бархатные модуляции, иногда неожиданно высокие, но исполненные звуком, как волна наполнена грозной, мощной силой воды. Все сонорные, взрывные, резонирующие, эхообразующие были его: «слагая стихи по следам Улагая, по-чешски чешет, по-польски плачет, казачьим свистом по степи скачет» – все это летело, скакало, свистело и в обычной, прозаически приглушенной его речи.
Словом, если попытаться определить чем для нашего дома много лет был Луговской, я бы рискнул сказать, что он был как старинный замок на холме, видимый воочию из окна московской городской квартиры. Абсолютно нереально и столь же, до невозможности вещественно.

Дядька Луговской, каким я его помню, 1955 г.
Когда-то в материнском архиве я обнаружил два письма к ней Луговского и два письма ему. Чтобы не повторять эту историю, приведу ее такой, как записал в 92-м, вскоре после смерти мамы.
Первое письменное подтверждение дружбы с Луговским, обнаруженное в архиве, тоже относится к войне. Вот оно – лежит в маленьком самодельном конверте с печатью военной цензуры. И если б там были не два письма вместе, которые я сейчас приведу, то каждое в отдельности я наверняка счел бы за любовное.
Письмо матери от 28.08.1943 из Москвы в Ташкент (видимо, отправлено сразу после возвращения семьи из эвакуации, во время одной из командировок в Москву из Челябинска, где мать тогда служила в Наркомтяжпроме):
«Мой милый, хороший, большой старый кот! Желание написать тебе преследует меня вот уже два года. Когда я уезжала из Москвы, я взяла с собой только одну фотографию: твоя голова на фоне горы. Любопытным знакомым я объяснила, что куда бы я ни попала, пусть будет только стенка, на которую можно повесить это фото, и все вокруг станет красивым. А когда красиво, тогда все легче. Снова я в Москве, и уже на московской стенке твоя фотография, только другая. Ты стоишь, прислонившись к дому, сложив руки.
Ой, как хочется тебя видеть! Володенька, ни одного человека мне не хочется видеть так, как тебя. Я бы усадила тебя на диван, обложила подушками и душу бы всю тебе выложила. На бумагу ведь ничего не выложишь. Важно не то, что все сможешь рассказать, а важно твое лицо видеть в то время, как рассказывать буду. Ты обязательно должен приехать. Если люди так бывают нужны – они всегда приезжают. А тут не просто люди: это же твои друзья, друзьям нельзя ни в чем отказывать. Не знаю, какие соображения держат тебя в Ташкенте, но как бы ни было там хорошо, ведь в Москве лучше. Приезжай, Володя, в Москве – слово-то какое – другого такого не придумаешь.
Может быть, тебе для переезда сюда что-нибудь нужно здесь сделать – ты напиши. Напиши вообще, как только получишь это письмо. Или телеграмму отправь, что, мол, ждите, приеду, люблю, целую, а мы в ответ: ждем, приезжай, любим, целуем. Ну смотри, обязательно приезжай, очень люблю и очень целую,
Женя Ласкина».
Из второго письма, чтоб не повторяться – только отрывок. Написано оно средней из сестер Ласкиных – Сонечкой:
«…Я боюсь, что вся эта страничка так наполнится чувствами, что никакой почтовый вагон не довезет ее к Вам, но, рискуя всем на свете, продолжаю повторять – милый, хороший дядя Володя, мохнатобровый, седой, даже, может быть, немножко крашеный, приезжайте в Москву, к нам. Что хотите – все будет, даже можем выйти за Вас замуж и создать семейный очаг, уют, комфорт, свой огород и литерное питание (что еще можно требовать?). Хочу, чтоб рассказали мне про серого зайца (помните… Ну-у?..), чтобы взобраться с ногами на диван, тянуть хоть какое-нибудь вино и говорить, говорить, и чтобы ночь напролет, и чтобы гениальный Ваш бред, и чтобы „тегуан-тепек“…» [17]17
«Тегуан-тепек» – цитата из стихов С. И. Кирсанова, очень в те годы популярных.
[Закрыть]
Что они обе, сбрендили, что ли? Два года человеку не писали, и тут – на тебе. И ни слова про себя и ни слова про войну… Отгадка лежит в совсем другом месте. В повести отца «Двадцать дней без войны», написанной много лет спустя – под именем Вячеслава изображен ташкентский Луговской – трагический и беспомощный, бессильный преодолеть ужас первых дней войны и первой разбомбленной поездки на фронт – таким отец его увидел в войну. И узнавшие о его бедах сестрички Ласкины, только что появившиеся в Москве из эвакуации, живущие в маленькой квартире ввосьмером, – выдают старому другу скорую помощь, выдают как понимают, как умеют: любовью, памятью, готовностью подставить плечо под чужую беду.
Это свойство матери – не колеблясь брать на себя чужую боль, вплоть до потери страха, чувства самосохранения,– оно бестрепетно до неловкости.
Как мужчина подтверждаю: если женщина так тебя понимает, невольно подумаешь, что у вас роман.
Каким образом в архиве оказались их письма дядьке – сказать затрудняюсь, но, скорее всего, их обнаружила и передала маме Майя. Не знаю, в дружбе Елены Леонидовны Быковой, она же Майя Луговская, с моей мамой было что-то от строчки Маяковского «любящие Маяковского – да это ж династия». Быть нежно любимым такими фантастически разными женщинами, свести их, подружить и не стать после смерти артиллерийским полигоном для испытания этой дружбы на разрыв – это, согласитесь, высокий класс и для мужчины, и тем более для поэта. Мне доводилось видеть как дружат между собой нынешние и бывшие жены поэтов. Но вдова у поэта всегда одна и обычно жестко охраняет эту свою печальную единственность.
Так вот мама у Майи была настолько вне подозрений, что если б Майе тогда вдруг пришло бы в голову писать завещание – вдовой Луговского она с удовольствием назначила бы мать.
Помимо всего прочего, незадолго до смерти Луговской, буквально как бульдозер-тяжеловес, проторил для мамы дорожку назад, в литературную жизнь. Уволенная из Радиокомитета по пятому пункту в 1950-м, мать шесть лет перебивалась более или менее случайными литературными заработками. И вот, когда в 56-м возник журнал «Москва», свое членство в редколлегии Луговской обусловил одним: взять мать заведовать отделом поэзии. И ее взяли, и этот протекционизм явно пошел на благо поэзии: до самого 68-го, когда с приходом в журнал главного редактора Михаила Алексеева матери сперва скрутили руки, а потом и шею.
Отношение матери к Луговскому было как к заповедному принцу из полузабытой сказки: трепетно восторженное, и не менялось никогда. А вот отношение к нему отца менялось и кардинально, и драматически, а, главное – никогда, кроме, наверное, недоступной моей памяти юности родителей, не было однозначным. Но об этом он сам написал и в воспоминаниях, и в «20 днях без войны».
В юности отец был в Луговского влюблен, что меня не удивляет; есть много воспоминаний соучеников отца по Литинституту: Алигер, Долматовского, Матусовского, об этом свидетельствующих. Он для них был похож на свои стихи, он был старше их поколением, хотя совсем не намного – возрастом. Зато эти годы впитали в себя ветер Гражданской, пыльные бури войны с басмачами, подкреплялись безмерным обаянием учителя и большой коллекцией холодного оружия в его квартире в Лаврушенском переулке, аккурат наискосок от Третьяковской галереи. В довоенных, но войне посвященных стихах отца звучат интонации Луговского.
Святая ярость наступленья,
Боев жестокая страда,
Завяжут наше поколенье
В железный узел. Навсегда.

В. А. Луговской и тот же Симонов, но уже Костя, 1939 г.
Так они думали. Так писали. И после этого, в сорок первом, вдруг узнать, что сорокалетний Луговской не на фронте, где его ровесники Сурков, Славин и другие, а в Ташкенте, в глубоком тылу. Это было не просто разочарование. Если б не ежедневная война, это могло быть и должно было быть воспринято как жизненная катастрофа. Но воспринималось как частная драма, о причинах которой каждый судил по мере своей былой увлеченности, по глубине своего нынешнего разочарования и по возможностям отпущенного на эти переживания времени. У отца ведь уже и после войны писано: «И все же разделим порой друзей на залегших в Ташкенте и в снежных полях под Москвой». И это, безусловно, и о Луговском. Трудно было поверить, что написанные в июне 41-го стихи «Из дневника»: «Да, война не такая, какой мы писали ее,– / Это горькая штука», могут быть не просто констатацией факта истории, а переменой жизненных ориентиров, не только твоей драмой, но и чьей-то необоримой трагедией. Понять это было в войну трудно, принять невозможно. И долго потом он не мог, не принимал эту «измену» Луговского: сначала – юности, потом – ученикам, потом – самому себе. В 1961 году написал замечательные воспоминания о Луговском-учителе. И ни слова в них о Великой Отечественной. Ни единого слова.
И надо было пройти еще десятилетию, чтобы, одолев свое личное разочарование, личную обиду, отец смог прийти к объективному, писательскому, пониманию происшедшей с Луговским драмы. Как уже было сказано в «Двадцати днях без войны» под именем Вячеслав, написан Луговской 1943 года. Я не стану пересказывать эту прекрасную прозу, ставшую к тому же основой для замечательного фильма Алексея Германа, в котором эту роль играет превосходный актер Николай Гринько, я только о том, что, как только повесть была написана, отцу потребовалось проверить: не соврал ли он в этом измененном мудростью и временем, новом взгляде на Луговского, все ли понял, так ли объяснил. И он пригласил к себе Майю Луговскую, женщину, сделавшую для посмертной славы Луговского неправдоподобно много. И дал ей рукопись.
И вот диспозиция: Майя читает в детской (девочки, сестры мои, где-то на выезде), отец меряет шагами кабинет, небывало нервничает. Я в это время по-соседски захожу в квартиру, где обитатели непривычно ходят на цыпочках, и отец как-то растерянно кивает на закрытую дверь детской:
– Читает,
– Кто? – спрашиваю я,
– Вдова Луговского.
Я понимаю, что лишний, и быстренько откланиваюсь.
Вот, что читала тем временем Майя:
«Нет, Вячеслав не был похож на человека, струсившего на войне, но счастливого тем, что он спасся от нее. Он был не просто несчастен, он был болен своим несчастьем. И все издевки над ним, которые слышал Лопатин в Москве, при всем внешнем правдоподобии были несправедливы. Предполагалось, что, спасшись от войны, он сделал именно то, чего хотел. А он, спасшись от войны, сделал то, чего не хотел делать. И в этом состояло его несчастье.
Да, да, да! Все против него! Он всю жизнь писал стихи о мужестве и читал их своим медным, мужественным голосом, и при случае давал понять, что участвовал и в Гражданской войне, и в боях с басмачами. Он постоянно ездил по пограничным заставам, и считался старым другом пограничников, и <…> выглядел в форме как само мужество, и заставил всех верить, что, случись большая война, – уж кто-кто, а он на нее – первым!
И вдруг, когда она случилась, еще не доехав до нее, после первой большой бомбежки вернулся с дороги в Москву и лег в больницу, а еще через месяц оказался безвыездно здесь, в Ташкенте.
Было не с ним одним; было и с другими такими же сорокалетними, как он. И на фронт не ездили, а просто эвакуировались, уехали. Приняли близко, некоторые даже слишком близко к сердцу советы сберечь себя для литературы и получили разные брони. Но другим как-то забыли это, спустили – кому раньше, кому позже. А ему – нет, не забыли! Слишком уж не сходилось то, чего от него ждали, с тем, что вышло…»
А потом, часа через два зашла к нам с мамой Майя, рассказала, что позвонил вчера Симонов, просил приехать, что, «прежде чем напечатать, хочу узнать Ваше мнение», что вышла она из комнаты зареванная, сказала только: «Спасибо, Костя, все – правда» – и пришла к матери, перевести дух.
– Она все поняла, – сказал о Майином визите отец, – а мне на это понадобилось четверть века.